Иван Логгинович Горемыкин 1839-1917
С.В. Зверев
Иван Логгинович Горемыкин 1839-1917.
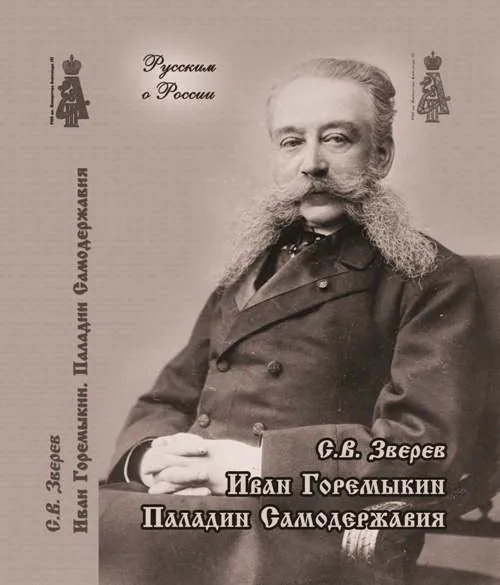
Часть 1. Чиновный Сфинкс Империи.
Часть 2. Внутренние Дела России.
Часть 3. Первый Министр Царя.
Часть 4. Русский Великий Визирь.
Часть 5. Падение Самодержавия 1917.
Время неостановимо и не восстанавливаемо. Каждый прожитый день всякого человека остаётся непостижимой тайной. Можно удержать от бесследной пропажи только отдельные эпизоды, по какой-то причине считаемые важными. Человек может записать их сам, но его попытки вырвать у вечной неизвестности эпизоды своего существования всегда будут отрывочны или не точны. Любая такая запись мешает самой жизни, заменяя её одержимостью минувшим.
В результате историк стоит перед сплошной неизвестностью. Он пытается свести между собой разрозненные литературные отблески ушедшей реальности и вытащить из забвения какие-то её части. Восстановить всё прошлое невозможно, но чем скромнее получаемые в результате исследований результаты, тем они значительнее.
Во многих случаях историкам мешает избыток недостоверных источников. Их массивность создаёт ложное впечатление уместности повторяемых ошибок. Хотя напротив, осведомлённый и верный источник всегда находится в меньшинстве сравнительно с произвольными рассуждениями или сознательными искажениями.
Воспоминания, суждения из которых будут заимствовать историки, напишут и будут тиражировать политические враги убитого Русского Императора. Мемуары напишет Кайзер Вильгельм II, который объявил войну Царю. Несколько томов саморепрезентации издаст Дэвид Ллойд Джордж, причастный к свержению Царя. Писать будут многие деятели февральского переворота 1917 г.: А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков, М.В. Родзянко. Они пользовались тем, что остались живы, с целью убедить всех в своей исключительной правоте. Им часто это удавалось, ведь многие убитые монархисты не могли им ответить.
Воспоминаний о том, как принимались ключевые политические решения, не напишет Император Николай II. Не смогут сделать этого министры внутренних дел и главы царского правительства Дмитрий Сипягин, Вячеслав Плеве, Иван Горемыкин, Борис Штюрмер. Все они были убиты ещё до гибели Царя.
В эмиграции монархисты попытаются представить свой взгляд на то, как и почему произошло падение Империи. Ноих положение оказалось проигрышным. Многие самые достойные и самые осведомлённые лидеры монархистов были лишены жизни или возможности излагать свои взгляды. Ввиду ограниченных финансовых возможностей в эмиграции они в меньшей степени, чем их идейные враги, могли влиять на мнения современников.
Воцарившийся на месте России тоталитарный советский режим уничтожал самих монархистов и добрую память о них. Пропагандистская машина для оправдания существования преступного террористического режима десятилетиями в многомиллионных тиражах распространяла враньё о ненавистной большевикам Империи. Возможность вести честные исследования была ограничена содержанием 55 томов сочинений В.И. Ленина и практически не существовала. Вреднейшие идейные проблемы создаёт институциональная преемственность современных историков в РФ советским предшественникам, к трудам которых подобострастно вносятся несущественные коррективы.
За рубежом идеологическая ангажированность левых республиканских режимов приводила к заимствованиям иностранными историками концепций близких им по духу демократов и революционеров. Традиционная ненависть к монархистам в сочетании с обслуживанием нужд демократической пропаганды усугубляла несправедливость направления изучения и формы подачи.
Отсутствие исследований о крупнейших русских государственных деятелях Царствования Императора Николая II делает её историю неполноценной, уязвимой для критики, сомнительной и спорной. Суждения о личности последнего Русского Государя во многом зависят от точной характеристики его сподвижников. Беря шире – все представления о Российской Империи и сменившей её революционной действительности находятся в определённой зависимости от выяснения подлинных достоинств русских политиков – приверженцев Самодержавной идеи. Пока монархическая элита не стала предметом требуемого изучения, а их результаты не получили должного распространения, остаётся повышенный риск замещения объективных представлений заведомо ложными клеветническими лозунгами, выбрасываемыми революционерами с целью захвата вожделенной власти и удобными цепочке узурпаторов.
Иван Логгинович Горемыкин, состоявший в правительстве Императора Николая II c первых лет его Царствования, дважды возглавлявший Совет Министров в самые драматические годы революции 1906 г. и первой мировой войны 1914-1916 г., заслуживший высший гражданский чин действительного тайного советника 1-го класса – является фигурой, верное представление о которой определяет действительные достоинства монархической власти и идеи Самодержавия.
Часть 1. Чиновный сфинкс Империи.
Иван Горемыкин родился 27 октября 1839 г. – в пору «замечательного десятилетия» эпохи Царствования Николая I, как называли годы, предшествующие европейским революциям 1848 г. Их сменило так называемое «мрачное семилетие» до окончания Крымской войны и кончины Монарха в 1855 г.
Один из высших служащих Империи, действительный тайный советник Константин Фишер (1805-1880) в воспоминаниях называл Царя Николая I – «самый честный человек во всей империи, самый ревностный слуга России». Вторую половину 1840-х годов он негативно характеризует совсем не как либеральные критики приёмов и основных идей монархического управления. Он пишет, что тогда «особенно начинают навевать с Запада и проникать в Россию болезненные доктрины новейшей либеральной школы, учение своеобразного деспотизма, отрицающего историю и боготворящего деньги, кидающего грязь на памятники и преклоняющегося перед миллионерами. Предание, патриотизм, чувство чести, любовь славы, все силы, возбуждающие духовную природу человека, под влиянием которых государственные люди жертвуют достоянием и жизнью отечеству, уступило место любостяжанию» [К.И. Фишер «Записки сенатора» М.: Захаров, 2008, с.128, 183].
В действительности выбор между деньгами и честностью, материалистическим идолопоклонничеством и духовной жертвенностью возникает всегда, всюду труден, важен и неустраним. Мемуаристом он замечен в пору личного взросления. Разница в том, что при господстве различных религиозно-философских учений господствующая идеология может поддерживать и одобрять те или иные предпочтения, – но ответственный выбор каждомоментно остаётся за человеком.
Либералы сороковых годов повсеместно заслуживали со стороны национально мыслящих монархистов, в т.ч. русских историков, упрёки за несоответствие их пропагандистских деклараций своим же действиям. «Противоположности жизни со словом поражала П.С. особенно в представителях Русского либерализма, выкроенного по западной мерке: и либерализм сделался противен ему, не только как узкая буржуазная доктрина, неудовлетворяющая самым вопиющим потребностям обиженных судьбою масс, но и как маска, прикрывающая благовидно в глазах профанов личные интересы его проповедников» [В.В. Григорьев «Жизнь и труды П.С. Савельева преимущественно по воспоминаниям и переписке с ним» СПб.: Императорская Академия Наук, 1861, с.83].
Проводить не лицемерные левые, а монархические идеалы на государственной службе Иван Горемыкин избрал своей жизненной стезёй. Для этого он располагал немалыми задатками. Он происходил из старинного дворянского рода, по писцовой книге 1587 г. Горемыкины являлись владельцами погостов Бежецкой пятины Новгородской земли. Василий Степанович Горемыкин служил денщиком Императора Петра I. Григорий Калинович Горемыкин погиб в сражении с Наполеоном русско-прусской армии Витгенштейна под Бауценом на востоке Саксонии в мае 1813 г. На фамильном гербе Горемыкиных рыцарский шлем венчал щит с изображениями серебряного меча, оленьего рога и охотничьего рожка. В Новгородской губернии его роду принадлежало имение, насчитывавшее на 1899 г. 4700 десятин (5123 га). В 1846 г. в родовой усадьбе Горемыкиных был выстроен новый двухэтажный дом на 22 комнаты, воспроизводящий прежний дом рода Лупандриных, предыдущих владельцев усадьбы в XVIII столетии. Матерью Логгина Ивановича Горемыкина приходилась Александра Родионовна Лупандрина.
По словам И.Л. Горемыкина, запомнившего в детстве рассказы деда, в бане возле его усадьбы останавливался проездом генералиссимус А.В. Суворов, чей отец владел пограничными участками [И.В. Аничков «Обзор помещичьих усадеб Новгородской губернии» Новгород, 1916, с.16-17]. В имении возле Боровичей Суворов жил два года после отставки. В усадьбе Кончанское оставался архив и личные вещи Суворова до 1870-х и их потери от пожара [В.Г. Глушкова «Новгородская земля. Природа. Люди. История. Хозяйство» М.: Вече, 2016, с.348, 351].
Идейную опору на Суворова можно также встретить в записке, приведённой как его жизненное руководство специально для справочного издания: «Мой великий земляк Ал. Вас. Суворов говорил: “деньги потеряешь – ничего не потеряешь, время потеряешь – много потеряешь, дух потеряешь – всё потеряешь”. Хорошо бы проникнуться истиной этих слов всякому русскому человеку, частному, общественному и государственному. И. Горемыкин» [Н.И. Афанасьев «Современники. Альбом биографий» СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1910, Т.2, с.137].
Добровольно выбирая поприще государственной службы, Иван Горемыкин потенциально мог воплотить в своей персоне все достоинства и преимущественные особенности сословной монархической системы. Подобно тому, как целенаправленное воспитание создавало при наследственной Самодержавной Монархии особые качества урождённого Цесаревича, дворянский род Горемыкиных имел возможность воспитать своих представителей на неординарно высоком уровне.
Иван Горемыкин использовал свои возможности по максимуму. Он поступил в основанное в С.-Петербурге Николаем I в 1835 г. элитное Императорское Училище Правоведения. Это было закрытое учебное заведение для хорошо обеспеченных потомственных дворян, со статусом, равным Александровскому лицею в Царском Селе. В нём поддерживалась военная выправка и высочайший престиж. «Церковь училища правоведения на Фонтанке всегда считалась одной из самых великосветских домовых церквей» [Л.Д. Любимов «На чужбине» Ташкент, 1966, с.41, 88].
Училище Правоведение отражало новое идейное направление Царствования Николая I, согласно которому высшее образование вместо универсального гуманистического «идеального человека» должно было формировать профессионалов в специализированных областях государственного строя. Училище показывало политическое устремление к монархическому профессионализму от просвещенческого утопизма [А.А. Тесля «Последний из «отцов»: биография Ивана Аксакова» СПб.: Владимир Даль, 2015, с.14].
В 1849 г. в печати приводилось распространённое мнение о поверхностном характере университетского образования: «полагают, что у нас можно с пользою иметь одни только специальные училища, каковы: Военная Академия, Инженерное и Артиллерийское, Морской корпус, Институт Путей Сообщения, Горный институт, Училище Правоведения» [«Отечественные Записки», 1883, №11, с.63].
Со временем «идеалы шестидесятых годов окончательно выветрились», в Училище стали поступать не для службы в министерстве юстиции, а «для карьеры, для связей, для хорошего общества. После 1905 года из каждого выпуска кто-нибудь из правоведов шёл служить в гвардию». Из Училища Правоведения многие пошли добровольцами в Армию во время войны с Японией [«История в эго-документах. Исследования и источники» Екатеринбург, 2014, с.254].
Особая выправка и благородная надменность воспитанников Училища были видны в 1928 г. в Соловецком лагере, куда их загоняли в СССР: «церемонность этих людей только подчёркивает их немощность и обречённость. Здесь бывшие сановники и придворные, бывшие правоведы и бывшие лицеисты» [Олег Волков «Век надежд и крушений» М.: Советский писатель, 1989, с.65].
В патриотическом эмигрантском журнале к столетию основания Училища напечатали статью выпускника, флигель-адъютанта В.В. Свечина: «мы благословляем наше родное Училище, научившее нас любить до самозабвения Россию и Царя, приемля их, как единый и неделимый священный комплекс и завещавшее нас стоять неизменно на страже их интересов и быть всегда готовыми отдать свою жизнь за Россию – служа Царю, и за Царя, – служа России» [«Часовой» (Париж), 1935, №165-166, с.33].
Вместе с И.Л. Горемыкиным 21-й выпуск Училища окончили: Карл Михайлович Гарткевич (1840-1904), будущий сенатор и тайный советник; Алексей Васильевич Белостоцкий (1839-1894), сенатор; Григорий Александрович Евреинов (1839-1919), сенатор и д.т.с., управляющий министерством путей сообщения; Фёдор Фёдорович Иванов (1841-1914), сенатор и тайный советник; Павел Алексеевич Марков (1841-1913), сенатор, член. Г. Совета, зам. министра народного просвещения и министра юстиции; Василий Петрович Мордухай-Болтовский (1839-1915), сенатор, тайный советник. Менее выдающиеся, но тоже довольно значимые должности заняли в будущем О.О. Адамович, М.А. Веденяпин, А.Д. Всеволожский, Д.П. Георгиевский, Н.Н. Гурьев, Д.Д. Кривцов, А.Д. Любавский, А.А. Малоземов, И.А. Мальте, И.П. Мандрыкин, И.А. Плец, В.А. Роде, П.А. Устимович [Э.А. Анненкова «Императорское Училище Правоведения» СПб.: Росток, 2006, с.345-351].
Указание на присутствие в Училище традиционно сильного монархического духа весьма согласуется с представлением об Иване Горемыкине, сохранившимся в памяти русских, не сдавшихся перед советским оккупационным насилием и тоталитарным обманом. В книге, выпущенной в 1968 г. оставшимися в живых белоэмигрантами, полковник Шайдицкий, хранитель традиций Виленского военного училища, считал нужным в будущем начертать золотом на мраморе слова И.Л. Горемыкина, произнесённые им в Совете Министров в августе 1915 г.: «в моей совести Государь Император – Помазанник Божий, носитель Верховной власти. Он олицетворяет собой Россию» [«Николай II в воспоминаниях и свидетельствах» М.: Вече, 2008, с.148].
В верноподданности И.Л. Горемыкина не имелось корыстного интереса: он был весьма обеспеченным человеком. Не нуждаясь в деньгах, он мог чистосердечно отстаивать монархический принцип и стараться благодаря ему устроить юридическое упорядочение жизни Империи. Точно так и Русские Государи, не имея никакой личной заинтересованности в захвате и присвоении каких-то материальных благ, отдавали всю свою жизнь на благо России, по династическому праву и долгу.
Взятые на себя обязанности рождают вытекающие из них права. Достигнуть вершины системы бюрократического профессионализма можно было только через полную отдачу себя – и десятилетия упорного труда, при необходимости иметь к тому способности, интеллектуальные и нравственные.
Одним родовым богатством уникальность политического восхождения И.Л. Горемыкина не объяснима. Его сумасбродный оппонент эпохи Первой мировой войны, председатель Государственной Думы М.В. Родзянко в том же самом Боровичском уезде Новгородской губернии, что и И.Л. Горемыкин, владел 4822 десятинами земли, но в формулярах, как будто стыдясь, сильно занижал размер своих владений. Будучи потомственным дворянином и сыном гвардейского полковника, Михаил Родзянко тоже мог бы закончить самые престижные учебные заведения Империи и попытаться добиться успехов на поприще государственной службы. Но Родзянко решительно ничего не сделал для того, чтобы добиться высот сравнимых с достижениями И.Л. Горемыкина.
Родзянко закончил Пажеский корпус, что предопределяло выбор военной службы. Однако прослужил всего 5 лет и стал поживать у себя в Екатеринославской губернии, побывал почётным мировым судьёй, предводителем дворянства, земским гласным, председателем земской управы. Всё это само по себе неплохо и по виду симпатично, но где ему было тягаться с И.Л. Горемыкиным, который и по возрасту на 20 лет старше, и образование получил какое требуется, и главное, всю свою жизнь потратил на то, чтобы подготовиться действительно стать самым достойным кандидатом на высшие министерские посты в Империи.
Мало того, Родзянко имел склонность давать распоряжения, противоречащие и существующим законам, и предшествующим коллегиальным распоряжениям с его собственным участием. Его самомнение и самодурство доходило до того, что он требовал, чтобы в уездном городе к нему ходил представляться исправник в парадной форме. Сотрудникам канцелярии Родзянко было стыдно слушать этого болтуна, постоянно грезившего о министерском кресле. Родзянко даже признавался служащим собственной канцелярии: «я понимаю, что вы нас презираете за наше неумение и незнание, но это чувство надо таить в себе и терпеть» [Я.В. Глинка «Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906-1917. Дневник и воспоминания» М.: НЛО, 2001, с.85, 92, 323, 362].
И.Л. Горемыкин не их тех, кто бы таил в себе отношение, какое полностью заслуживала Государственная Дума, основанная на абсурдном и опасном выборном начале, игнорирующем принцип профессионализма.
Или другой претендент на место И.Л. Горемыкина и даже Императора Николая II – участник преступного сговора с генералом М.В. Алексеевым, князь Г.Е. Львов. В отличие от Родзянко, ему ненадолго даже удалось возглавить революционное правительство. Но его тоже погубила некомпетентность. Он окончил юридический факультет Московского университета, но не пожелал вникать в работу государственного аппарата путём постепенного продвижения по службе. Оставшись вне правительственного аппарата Г.Е. Львов только и мог что плести заговоры, и путём лживой рекламы преувеличивать плоды работы Земского союза.
За 79 выпусков через Училище Правоведение прошло более 2000 воспитанников. И.Л. Горемыкин стал уникален и среди них. Пятилетний курс Училища он окончил 16 мая 1860 г., получив при выпуске 9-й класс по табели о рангах – титулярный советник (менее успевающие получали 10-й). В 1914 г. «Московские Ведомости» писали, что Горемыкин ещё в Императорском Училище Правоведения обратил на себя внимание «выдающимися способностями».
Оба родителя не успели увидеть успехов сына. Логгин Иванович Горемыкин (10 августа 1809 – 24 марта 1864) получил от своего отца разрешение на брак в 1837 г. Через несколько лет его не стало. Мать Ивана Горемыкина, Капитолина Николаевна (28 сентября 1818 – 22 июня 1856), урождённая Манкошева, тоже очень рано покинула этот мир. Отошёл на тот свет и дед Иван Дмитриевич (15 июня 1773 – 25 марта 1856).
Недавно появилось отрывочное упоминание о существовании брата Николая Логгиновича Горемыкина, вероятно, умершего очень рано.
Известны два брата Логгина Ивановича. Полковник Фёдор Иванович Горемыкин (1811-1850) и генерал-майор Дмитрий Иванович Горемыкин (1804-1868), оставивший трёх сыновей: Иван (1828-1884), Николай (1830-1898), Александр (1832-1904).
Д.И. Горемыкин в чине подполковника (1845) состоял при Великом Князя Михаиле Павловиче, когда тот скончался в 1849 г. в Варшаве. Дмитрий Иванович оставил свидетельства того как Император Николай I в те дни «не отходит от кровати брата своего» [Д.С. Арсеньев «Жизнеописание Императрицы Марии Александровны. 1838-1854» М.: Кучково поле, 2018, с.368-369].
Согласно воспоминаниям революционерки Е.К. Брешко-Брешковской, родившейся в 1844 г., её мать Ольга Ивановна Горемыкина происходила из дворянского рода Новгородской губернии, окончила Смольный институт [«Новый Журнал» (Нью-Йорк), 1960, №60, с.179].
Как отмечал будущий автор книги «Россия и Европа», Новгородская губерния в это время отличалась сравнительно наименьшей плотностью населения, близкой к губерниям Таврической, Саратовской, Войску Донскому – 1 человек на 321 кв. милю, вдвое менее чем в среднем по Европейской России. В Новгородской губернии отмечалось также заметное пропорциональное преобладание женского пола и малоплодородные почвы [Н.Я. Данилевский «Статистические исследования о распределении и движении народонаселения в России за 1846 год» СПб.: Тип. МВД, 1851, с.24, 34].
5 июня 1859 г. И.Л. Горемыкин писал: «Милая, Прекрасная Сестра и Друг Капитоша! Тороплюсь хотя несколькими строками уведомить тебя что я уезжаю в Штеттин во вторник 9-го числа и надеюсь, если Бог поможет, быть там в пятницу, а в Берлине в субботу. Как твоё здоровье, моя Милочка; поправилась ли от кори, меня это очень беспокоит. А я теперь как угорелый мечусь от одного конца в другой и ни минутки отдохнуть» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1759 Л.1]. Штеттин в Померании знаменит как место рождения Екатерины II [Zoé Oldenbourg «Catherine de Russie» Paris, 1966].
17 (29) июня из Берлина Иван Горемыкин сообщал своим сёстрам: «сегодня же вечером уезжаю с экстренным поездом в Франкфурт-на-Майне, а оттуда на короткое время в Крейцнер и в Висбаден где и полечусь хорошенько, – а дальше куда не знаю. По приезде моём в Висбаден опишу Вам подробно моё путешествие, а равно и пребывание в Берлине, а теперь пишу только коротенькое письмо чтобы уведомить Вас о себе. Плавание моё до Штеттина было благополучно, только последние два дня то есть 11 и 12 июня, нас-таки порядком качало и валяло, а волны хлестали через борт». «Ужасно мучаюсь с галстухами и воротничками». «Пришлю Вам мой портрет чтобы вы видели какой я душка в статском платье». Попутно И.Л. Горемыкин пожаловался что в Германии «народ надует не хуже жида – особенно приезжего и особенно Русского, считая что русские богаты, и что их следует обдирать побольше». «Теперь я вполне узнал что значит грустить по родине; и особенно между Немцами; это такой неприветливый, неласковый народ; все говорят что надо скорее уезжать из Пруссии, что здесь хуже всего. А как я вспомню как мне у Вас было хорошо, так так сделается грустно что и сказать Вам не могу».
20 ноября 1859 г. из С.-Петербурга И.Л. Горемыкин писал: «теперь хлопочу об месте как бы лучше устроиться. Мы с отцом ездили к Пертковскому, он удивительно как любезно и можно сказать ласково принял нас и обещал непременно 6 декабря месяца дать мне у себя место. Сегодня я являлся всему начальству, а завтра утром иду к Великому Князю, с которым может быть буду иметь разговор, и если не опоздаю от него зайду к обедне помолиться за мою дорогую Новорождённую».
И.Л. Горемыкин после выпуска начал службу в 1-м Департаменте Сената. В юбилейном издании к 75-летию указано что он продолжал там работу с 1860 до 1864 г., «всецело отдаваясь изучению сенатской практики по разнообразным предметам административного характера дел» [«Иван Логгинович Горемыкин. LXXV. 27 октября 1839 г. – 27 октября 1914 г.» Пг.: Тип. Тренке и Фюсно, 1915, с.4].
Иван Горемыкин помимо службы жил в своей усадьбе в селе Белое Новгородской губернии с сестрой Капитолиной (р. 21 января 1842), управляясь с хозяйством.
14 июля 1860 г. из С.-Петербурга И.Л. Горемыкин писал сёстрам: «засел опять за свои занятия в Департаменте и грустно и вяло потекла опять моя жизнь. Скучаю и вздыхаю по Вас, мои звёздочки ненаглядные, вздыхаю по привольной жизни летом в деревне, вспоминаю бутерброды и более время проводимое за ними». «Что делать, надо покоряться величию судьбы; где-то сказано: Терпи, надейся и молись. Я терплю и молюсь, а надеюсь очень мало; конечно по слабости человеческой надеешься, ждёшь… чего-то, – но и эта слабая надежда скоро рушится – а там когда померкнет последний луч на не совсем ещё тёмном горизонте моей жизни, тогда? О тогда мне страшно подумать что будет?!! Остаток жизни, может краткой, может долгой, но жизни без надежды, без цели, без радостей…». «Сегодня я в грустном настроении духа, но надеюсь Вы мне простите это».
При всей готовности скромного Ивана Логгиновича смириться с судьбой неприметного служаки, он всё же хотел дойти до жезла фельдмаршала. И непредсказуемо непревзойдённое политическое восхождение его началось. Главной новостью, отмеченной в письме, стало получение чина 8-го класса табели о рангах, коллежского ассессора, т.е. капитана артиллерии, «что равняется майору армии». «В субботу 9-го июля в Павловске был бенефис Штрауса и маскарад. Он сделал невежливость перед публикой, не хотевши дирижировать оркестром и долго не соглашаясь играть. Тогда сделался страшный шум, закричали подавайте Штрауса, бить его и т.п., он поскорее тягу в Царское Село; полетело несколько стульев в оркестр, музыканты бросились бежать оставив свои инструменты, публика бросилась в оркестр переломала инструменты, вдребезги разбила рояль и всё что попалось под руку, и тогда только успокоилась когда удостоверилась что его нет в Павловске». Известный австрийский композитор Иоганн Штраус-мл. (1825-1899) в данное время действительно проживал в Российской Империи, и беспредельная страсть его поклонников описана И.Л. Горемыкиным более чем забавно.
16 июля Иван Логгинович получил письмо от отца «о приезде А.Г. Гребенькова» с галошами впридачу. «Я ужасный зяблик и пропадаю решительно от холода». «17-го числа приехал сюда Ал. Дм. [Горемыкин] и через несколько часов уехал со своим корпусным командиром в Красное Село».
Вторая сестра Ивана, Александра, вышла замуж в июне 1862 г. за 26-летнего Николая Никитича Фуфаевского. Поручителями невесты записаны генерал-майор И.Н. Манкошев и коллежский асессор Н.Д. Горемыкин. Иван Логгинович занимался отправкой им вещей, включая мебель. Ливни не давали прохода, пришлось загрузить багаж в лодку.
В усадьбу И.Л. Горемыкин пригласил своего друга по Училищу Правоведения А.В. Белостоцкого из С.-Петербурга, степень близости с которым видна по его шутливому ответу 27 июня: «если срок пребывания мною назначенный покажется тебе слишком продолжительным, то пеняй на себя». «Из Кривой же Горы 40 вёрст по сносной дороге я буду трясти своё грешное тело, утешаясь, что Архиерей, особа, по всей вероятности грузная, проехал благополучно». В другом письме Алексея Белостоцкого из СПб. от 31 июля, идут благодарности за радушный приём; тоже ради забавы, идёт запись без использования твёрдого знака с припиской: «Без ъ писать очень неудобно, а потому будем привыкать мало по малу и для первого разу ограничимся одной страничкой». «Новостей в нашем глупом Петербурге никаких нет, кроме того только, что в Варшаве стреляли в Велепольского, но не попали, это было объявлено в газетах». Уже вызревал новый польский мятеж.
В то самое время в соседнем Великом Новгороде готовилось знаменательное открытие памятника Тысячелетие России, отсчитываемое от основания в России монархического строя через установление правящей Династии Рюриковичей, преемственный которой Дом Романовых может считаться единым с ней. Существование единой Династии позволило России выработать наиболее выдающиеся формы монархической политической культуры. Существование соперничающих Династий всегда подрывает монархический принцип, долженствующий устранять борьбу за власть и тем обеспечить внутренний мир.
Памятник строили в новгородском Кремле по проекту академика М.О. Микешина. В сохранившихся письмах Ивана Горемыкина сестре Александре можно узнать о его намерениях: «ты знаешь, я хотел быть 8 сентября в Новгороде на открытии памятника», получил приглашение от губернского предводителя дворянства князя Мышецкого, но не был уверен, как получится, поскольку около 10 сентября планировал быть в С.-Петербурге. 15 августа он писал, что в отличие от несговорчивой и пребывающей в хандре сестры Капитолины, именуемой Капой, «очень охотно» отказался бы смотреть на свадьбу в столице.
Епископ Макарий (Миролюбов), в 1860-1866 г. ректор Новгородской семинарии и настоятель Антониева монастыря, незадолго перед тем получил кафедру за описание Новгородских древностей и был переведён из Рязани. Согласно ложным слухам, сопровождающим любую эпоху, Царю приписывали намерение объявить в Новгороде конституцию. Сторонники Самодержавия справедливо указывали что склонность к либерализму заменяет утопиями заботу о текущем хозяйстве и домостроительстве, противостоя общей пользе и желанию России [Прот. А.А. Беляев «Профессор Московской Духовной Академии П.С. Казанский и его переписка с архиепископом Костромским Платоном» Сергиев Посад, 1910, с.194, 262, 266].
8 сентября на торжествах в Новгороде присутствовал Император Александр II и Великие Князья, граф А.В. Альдерберг, губернатор В.Ф. Скарятин, местный предводитель дворянства Мышецкий. Приезжал Ф.И. Тютчев. Царь обратился к новгородскому дворянству, назвав его своей опорой [Н.П. Барсуков «Жизнь и труды М.П. Погодина» СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1905, Кн.19, с.273]. Состоялся обед на кремлёвской площади, поездки в Рюриково городище. Празднество указывало на незыблемость Русского Самодержавия [А.И. Буслаев «Имперские юбилеи». Автореф. дисс. к.и.н. М.: МГУ, 2010, с.19].
Митрополит Московский и Коломенский в молитве в день воспоминания тысячелетия России выражал Господу благодарность за милости, явленные Русскому Царству, за его возрастание и воодушевление. В соблюдении православной веры виделся источник народного единства и благонравия, правды законов и благодетельности управления [Митрополит Филарет «Творения» М.: Отчий дом, 1994, с.469].
В недавнее время, в 1859 г. состоялось другое важное мемориальное мероприятие, восстановление первоначального вида древних палат бояр Романовых в Москве – старинного дома, принадлежащего Знаменскому монастырю на Государевом старом дворе, где родился Царь Михаил. Владыка Филарет, восславив обитель благочестия, призывал по примеру Императора Александра II «чтить и хранить древнюю доблесть, которую может украсить, но не заменить, новый блеск» [Николай Барсуков «Жизнь и труды П.М. Строева» СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1878, с.560].
Понимание этих основ благополучия Российской Империи отличало Горемыкина, никогда им не изменившего, от пантеистической интеллигенции. Письма молодого Горемыкина позволяют составить его психологический портрет и увидеть уже в ранние годы то, что в министре внутренних дел Империи Владимир Гурко называл склонностью к философской вдумчивости.
В письмах его встречаются значительные, далеко не случайные фразы, позволяющие судить о его интеллектуальной развитости, трезвомыслии, упорстве и принципиальности. 26 сентября 1862 г. он оброняет сестре фразу: «великий пример Канта пропадает для тебя совершенно даром», и далее формулирует: «мыслить и чувствовать без преувеличения – вернейший рецепт для достижения счастья, по крайней мере насколько оно возможно». Уже из этого становится ясно, отчего Горемыкину не бывать коммунистом или либералом, и что ему хватало ума совершенно избегнуть молодёжных увлечений утопическими мечтаниями всех родов хилиастических верований социализма и даже конституционного демократизма.
В 1901 г. П.Б. Струве сумел обозначить точку расхождения с толстовцами и другими левыми революционерами всех, кто держался христианских позиций: «о счастье, с точки зрения нравственности, нечего заботиться. Для нравственного человека счастье есть побочный психологический результат его нравственного бытия» [Н.А. Бердяев «Субъектизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н.К. Михайловском» М.: Канон+, 1999, с.57].
Как ещё Геродот в «Истории», Горемыкин закономерно признавал превосходство монархического строя, при правильном понимании обязанностей царского служения, над демократией лучшего типа. И подобно лучшим русским писателям, таким как А.С. Шишков, С.П. Шевырев, П.М. Строев, Горемыкин вполне разделял монархический дух и осуждал «тот другой дух, который омыл кровию всю Европу» [Н.П. Барсуков «Жизнь и труды М.П. Погодина» СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1888, Т.1, с.177].
Двадцатитрёхлетний Горемыкин изрекает и того более удивительный для своего возраста жизненный девиз, как будто определяя свою судьбу: «мудрость, которую нельзя ни заучить, ни вычитать, а которую можно только нажить» «составляет единственное прочное основание всякого благополучия на этом свете».
Горемыкин называет важнейшим качеством то именно, за что Император Николай II будет неизменно ценить его и возвысит над всеми русскими политиками. Их объединило такое понимание основания благополучия Империи и каждого её жителя. Без частых среди интеллигенции конъюнктурных шараханий налево и направо, независимо от моды и количества несогласных мнений, Горемыкин уже тогда постиг руководящие принципы русской политической культуры. Таким, уже обрётшим эту чаемую мудрость, он будет министром внутренних дел, с этой непрошибаемой убеждённостью в своей правоте Горемыкин станет противостоять диким нападкам Государственной Думы, вооружённому и информационному террору революции. С невозмутимой уверенностью встретит величайшую войну 1914 г.
Но пока, соизмеряя с действительностью свои способности и возможности, Горемыкин, не расположенный к напрасным словоизвержениям, иронически завершает принципиальные обобщения: «перевернув страницу, я вместе с тем закрываю свою философскую лавочку».
Надо отметить, что в усадьбе Горемыкина имелась библиотека на 2000 томов русских, немецких и французских книг.
Про Канта И.Л. Горемыкин писал и А.В. Белостоцкому, судя по ответу 1 октября 1862 г.: «Исполняя твоё желание, милейший мой Иван Логгинович, я купил сочинение о скитах, оно стоит 4 р., посылаю его тебе вместе с сим через обер-кондуктора, так как посылка слишком мала, чтобы отдавать в багаж. Октябрь уж наступил, а у тебя кажется и намерения нет посетить столицу Севера, многогрешными творениями немцев заниматься полезно, но надо и друзей не забывать. Если ты можешь приехать в скором времени и тебя не пугнёт отдалённость нашего дома от центра, то остановись у меня», «расскажешь как ты праздновал тысячелетие в Новгороде» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.409 Л.6].
Чем приходилось ему заниматься, выясняется из других корреспонденций. На следующий раз, 28 октября 1862 г. из с. Белое Иван Логгинович сообщал, что ездил недавно в Боровичи и потому не писал. «Дорога такая, что хуже и быть не может». «Причиной моей поездки было то, что меня выбрали в члены комиссии, составленной здесь для ответа на разные вопросы, касательно местных дел и преобразований, предложенных Новгородскому дворянству по Высочайшему повелению». Из-за дурной дороги Горемыкин не поехал на выборы, но оказался избран. «Делать было нечего и скрепя сердце и предав тело на растерзание пришлось ехать. Два раза пришлось ночевать в дороге в Боровиче, раз у Фелисова и раз у Ивана Евграфовича. Старик был очень доволен нашим посещением». Штабс-капитан Николай Александрович Фелисов был управляющим его имением.
Боровичский уезд Новгородской губернии был известен разработкой глины для огнеупорных кирпичей. Но похоже что Горемыкин ими не занимался.
Эти месяцы И.Л. Горемыкин продолжает приискивать подходящее место для службы. 10 ноября 1862 г. из с. Белое писал об этом, что срочно собирается в С.-Петербург: «Принц получает где-то место прокурора и сообщил мне об этом через дядю». Дядей был Фёдор Иванович Горемыкин. Освободившееся место в городе Иван Логгинович вознамерился занять, считая выгодным и смиряя свои личные запросы согласно обстоятельствам. «Признаюсь откровенно, что по вкусам моя служба в Новгороде не очень привлекательна, но в этом случае надо подчиниться требованиям рассудка; не знаю, устроится ли это дело, даже думаю навряд ли, но во всяком случае сделаю что от меня зависит, чтобы потом не упрекать себя».
24 ноября, вернувшись в Белое, сообщил, что на 15 декабря, когда сестра Александра собралась к нему приехать, он будет на выборах в Новгороде. Их «по разным причинам не хотелось бы пропустить». Затем «я думаю с Капой ехать в Петербург и оставить её там». Капитолина писала сестре отдельно, но одна её приписка от 1 декабря 1862 г. оказывается весьма ценной, это хотя и шуточное, в семейном обиходе, но всё-таки указание на характерную, присущую И.Л. Горемыкину в то время и на все последующие годы легендарную невозмутимость. Капитолина писала так: «милая моя Саша. Ваня мне всё колет глаза своим ужасным хладнокровием и потом уверяет, что мы с тобой “порем горячку”, выражаясь изящным слогом; но я не смотря на всё это отбросила всякую попытку на хладнокровие». Иван Логгинович тогда пообещал, что их переписка прервётся. Следующее письмо датировано уже 27 июня 1863 г., когда он прислал «крепкий поцелуй».
После всех летних трудов 14 августа Горемыкин подытожил: «кажется, что моя деревенская деятельность весьма близка к своему окончанию. Всё устроено и приведено в такой порядок, что было бы непрактическим желанием хотеть лучшего в теперешнее время и если не заводить кого-либо нового предприятия, то мне оставаться здесь не стоит».
30 сентября Горемыкин привёл расчёт производительности усадьбы: расход 1933 р., приход 2740, остаток 537 руб. «Как видите результат не важный». Усадьба, которую продаёт Бахметев по семейным обстоятельствам, стоила 12 тыс., а даст 5%. Горемыкин задавался вопросом, не выгоднее ли поместить капитал в ценные бумаги и банковские вклады.
Судя по всему, возможность взяться за более серьёзное дело, не являлась сразу запросто. Горемыкин и тут не расстраивался. 29 ноября 1863 г. он изрёк: «вообще в жизни самое важное уметь ждать» [РГИА Ф.1926 Оп.1 Д.1760 Л.3-40].
В 1863 г. И.Л. Горемыкин начал работу в канцелярии новгородского губернского прокурора. Вероятность такого служебного перехода ранее упоминается в его переписке. О красотах Новгорода потом вспоминал Митрополит Антоний (Храповицкий), родившийся в этой губернии в 1863 г.: «всё-таки Петербург со всею громадностью местных соборов и их благолепием не заменил мне вполне священного Новгорода, который я продолжал видеть во сне довольно часто. Мне всё в Новгороде казалось лучшим и более благолепным» [«Царский Вестник» (Белград), 1935, 2 июня, с.2].
13 марта 1864 г. Иван Горемыкин подал прошение об откомандировании его на службу в Царство Польское после подавленного там восстания, в распоряжение высших русских властей, т.е. Учредительного комитета, и был назначен чиновником для особых поручений. Предначертанная ему должность комиссара по польским крестьянским делам должна была способствовать выяснению мер, необходимых для мятежного края. В Империи все наиболее важные и проблемные дела, касающиеся значительной части населения, решались путём выяснения на местах конкретных нужд жителей и обсуждения наиболее эффективных мер на собрании узкого круга самых компетентных специалистов. Своими трудами в Польше Горемыкин заслужил вхождения в их круг.
Назначенный в октябре 1863 г. управляющим Собственной Его Величества канцелярии по делам Царства Польского Н.А. Милютин призвал в Варшаву князя В.А. Черкасского и Ю.Ф. Самарина, совершил с ними и В.А. Арцимовичем поездку по краю. 24 октября в письме к жене сенатор Арцимович отмечал по результатам 4-х дней поездки по уездам под охраной полусотни линейных казаков и полуэскадрона улан: польский «класс крестьян находится в покое и удовольствии», присланные русские войска «за крестьянами ухаживают», они не пострадали при подавлении восстания [В.Д. Спасович «Сочинения» СПб.: Право, 1913, Т.10, с.375].
Н. Милютин с его командой совместно выработали основное политическое направление, создали руководящий Учредительный комитет. Под началом его председателя, Наместника в Царстве Польском, генерал-адъютанта Ф.Ф. Берга, числились генерал-лейтенант В.И. Заболоцкий, тайный советник В.А. Арцимович, д.с.с. Р.И. Брауншвейг, сенатор Я.А. Соловьёв, председательствующий в правительственной комиссии Финансов и Казначейства А.И. Кошелев и В.А. Черкасский, управляющий Внутренними и Духовными Делами.
В феврале 1864 г. Н. Милютин пригласил в Варшаву своего близкого приятеля Ивана Тургенева засвидетельствовать начало введения выкупа крестьянских наделов в Польше по русскому образцу. Тургенев предпочёл отдых в Баден-Бадене, пытаясь без малейшего успеха сохранить дружбу с А. Герценом, печатно запустившего в него «грязью», и продолжая спонсировать М. Бакунина, умудрявшего одновременно брать деньги и распространять «обо мне самые пошлые и гадкие клеветы» [И.С. Тургенев «Письма. 1862-1864» М.: Наука, 1988, Т.5, с.292, 387]. Академик С.Ф. Ольденбург, навещавший своего сына-монархиста в Германии, провёл с ним отпуск в Баден-Бадене возле дома где жил тогда Тургенев и записал 7 октября 1923 г.: «говорят, будто среди [правых бело]эмигрантов Тургенева терпеть не могут и даже многие его ненавидят за якобы слишком определённое сочувствие революционерам и революции» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.15 Л.130об.].
В переписке И.Л. Горемыкина с сёстрами имеется упоминание писателя, без точной датировки: «посылаю пока одного Белинского, а Тургенева спрашивал и на днях получу и при первой оказии пришлю», с шутливой подписью «Ванька Шубин» после вопроса: «Что значит что Вы похожи на Шубина?????». Обсуждается герой романа «Накануне» (1860), сравнения с которым Горемыкина носят случайный и произвольный характер.
По приглашению Милютина в Варшаву приехал писатель В.П. Боткин, который в отличие от Тургенева горячо поддерживал политику Муравьёва. Против польских революционеров был серьёзно настроен и Афанасий Фет, печатавшийся у Каткова.
Н.А. Милютин нуждался в 150 комиссарах и глав губернских комиссий. Им было предоставлено приличное содержание, но одного жалования было недостаточно для привлечения в опасный мятежный край для проживания в небольших городах, в постоянных полевых разъездах, чтобы решать запутанные местные вопросы, требующие знания трудноуяснимых для русских приезжих обычаев. К устроению положения польских крестьян звал русских возвышенный патриотический энтузиазм. «Для всего этого нужны были некоторая подготовка, неутомимая деятельность, почти спартанское равнодушие к удобствам жизни и, что едва ли не всего важнее, честность, но честность не вульгарная, не та только которая отказывается от взяток, а которая в состоянии противостоять и ласкательствам и женским соблазнам» [П.К. Щебальский «Николай Алексеевич Милютин и реформы в Царстве Польском» М.: Университетская типография, 1882, с.73].
Высокие нравственные требования к чиновничеству Российской Империи отмечены в критике интеллигентской академической некультурности при гибкости языка и совести: «если раньше подбирали людей на различные чиновные должности по признаку их честности, чувства долга и пригодности для требуемого дела, то с некоторых пор стало признаком хорошего тона назначать людей по университетскому диплому» [Э. Райс «Интеллигенция и культура» // «Возрождение» (Париж), 1966, сентябрь, №177, с.70, 73].
Иван Горемыкин отправился туда, где более всего в Империи требовалось деятельное участие русских монархистов. Попечитель Виленского учебного округа в марте 1864 г. писал об этом М.Н. Каткову: «нам нужны люди», а не одно содействие «печатного слова и общественного мнения». Приезд из России более тысячи чиновников пока ещё считался недостаточным [И.П. Корнилов «Русское дело в Северо-Западном крае» СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1908, Вып.1, с.68-69].
И.Л. Горемыкин сразу получил ценный опыт общения с Николаем Милютиным (1818-1872), который регулярно приглашал к себе на обеды приезжих комиссаров, прежде чем отправить их по местам службы. Н. Милютин объяснял особенности крестьянского быта, отношение крестьян к помещикам, духовенству и правительству, старался внушить великие исторические задачи русской политики, передать миссионерский дух, непременно требуемый для одоления апатии крестьянства и интриг шляхты. В марте 1864 г. Н.А. Милютин открыл итоговые обучающие пятидневные курсы для 60 начинающих политиков. Получив печатные и письменные инструкции, после благословения Архиепископа Иоанникия (Горского), под военным конвоем, комиссары первого призыва 14 апреля разъехались из Варшавы.
Им не рекомендовалось останавливаться на постой в помещичьих имениях. В основном они разъясняли крестьянам Царские указы, истолковывали сельской администрации и крестьянским сходам их обязанности, судили жалобы и споры, собирали статистические данные.
Комиссары показали себя быстродействующими, неподкупными и результативными политиками. При необходимости они обращались за консультациями друг к другу, а также к князю В.А. Черкасскому (1824-1878), управляющему польскими делами, оказавшемуся заинтересованным в общем успехе и потому доступным для общения. Черкасский лично занимался вербовкой добровольцев в Москве для введения нового крестьянского положения в польском крае и усиления там русской власти. При наборе людей он отдавал предпочтение по уровню образованию.
В 1859 г., защищая князя Черкасского от журнала Каткова, автор превосходной «Истории Русской Литературы» С.П. Шевырёв причислил его к разряду благородных людей, подвергаемых литературным казням [«Благонамеренный» (Брюссель), 1926, Кн.1, с.159].
После двух месяцев поездок комиссарам полагалось вернуться в Варшаву для докладов и получения дальнейших распоряжений. Горемыкин предстал в качестве заместителя председателя Калишской комиссии, которую возглавлял надворный советник князь Иван Васильевич Мещерский, чиновник при Учредительном комитете по крестьянским делам. Им содействовали коллежский секретарь Н.Д. Рычков, поручик Л.-Гв. Литовского полка М.В. Розен и поручик гренадёрского полка В.Э. Сакс. Польские крестьяне радушно встречали их [М.И. Корнилович «Очерк истории крестьян и крестьянского дела губерний Привислинского края» СПб.: Тип. МВД, 1914, с.68].
От умершего отца И.Л. Горемыкин получит имение около 800 душ в Боровичском, Крестецком и Устюжном уездах Новгородской губернии, а также в Вышневолоцком уезде Тверской губернии. В дальнейшем владения Горемыкиным превратились к 1915 г. в 4900 десятин только в Боровичском уезде.
25 мая 1864 г. Горемыкин кратко дал знать о себе из древнего Калиша, где ныне служил. Калишская губерния граничила с Пруссией, являясь самой западной землёю Российской Империи. 7 июня уделил ещё немного внимания сестре Александре: «на будущей неделе собираюсь на несколько дней в Варшаву». После того как вырвалась подходящая его натуре устремлённость к действию: «скучно здесь подчас очень», Горемыкин мгновенно поправляется: «скучать я никогда не скучаю, это от себя зависит, но грустно невольно». «Может быть в Варшаве удастся повидаться с Капой, если она решится ехать прямой дорогой» «через Варшаву и Вену».
16 июня уже из Варшавы сообщал сестре, что приехал на несколько дней по случаю съезда председателей всех комиссий с отчётами. «Теперь в Варшаве гадко и ездить очень неприятно по случаю разных полицейских формальностей». «Сам я пока здоров», «все находят, что я похудел».
Строгий режим был вызван террористическими акциями. 19 сентября 1863 г. в Варшаве бросили бомбу в царского наместника графа Ф.Ф. Берга с крыши дворца Замойских [Ф. Шопен «Письма» М.: Музыка, 1984, Т.2, с.334].
6 октября террористы сожгли ратушу на Театральной площади. На генерал-полицмейстера Ф.Ф. Трепова во время его пешей прогулки из квартиры на Сенаторскую улицу совершили неудачное покушение 21 октября 1863 г.
Всего при подавлении восстания погибло 403 русского солдата, имеются также данные о 916 раненых. Военно-полевые суды за два года казнят 128 революционеров [П.А. Федосов «Жизнь М.Н. Муравьёва 1796-1866» СПб.: Нестор-История, 2021, с.323, 332].
Поддержка польского восстания А. Герценым и другими социалистами показала полное расхождение революционных устремлений с русскими интересами, подорвало репутацию врагов Царской России. Лондонский «Колокол», как писали русские монархисты, «так и сыплет проклятиями на всю Россию», «русские не оправдали надежд его милости», «осмеливаются даже сочувствовать героической энергии Михаила Николаевича Муравьёва» [«Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1859-1864» М.: Наука, 1983, с.568]. В 1861 г. парижский суд разоблачил как клеветника и шантажиста другого сочинителя революционной литературы, князя П.В. Долгорукова, который вымогал 50 тыс. руб. у фельдмаршала М.С. Воронцова [«Дело князя С.М. Воронцова против князя Петра Долгорукова» М.: Университетская типография, 1862].
Можно сказать что в Польше началась и борьба И.Л. Горемыкина с марксизмом, поскольку К. Маркс лично поддерживал русофобский расизм польских революционеров и осенью 1864 г. написал учредительный манифест международного товарищества рабочих, образованного «с демонстрацией в защиту Польши» [К. Маркс и Ф. Энгельс «Сочинения» М.: Политиздат, 1963, Т.31, с.107, 365].
26 июня 1864 г. из Варшавы И.Л. Горемыкин написал своим сёстрам: «ещё до сих пор не знаю, когда можно будет отсюда уехать. Здесь время проходит самым скучнейшим образом. Главною частью официальные обеды, а по вечерам заседания, длящиеся до 2 часов, так что раньше третьего не ложишься и спишь до 10 часов, а всё-таки не выспишься. При этом отсутствие, не говоря уже необходимого комфорта, но даже какого-нибудь порядка в домашней жизни, не смотря на дороговизну жизни – делают её не очень приятною. Когда выйдет свободная минута, то не знаешь за что взяться. Заниматься ничем нельзя последовательно, даже читать что-нибудь порядочное. В Калише было до сих пор почти то же; не знаю как удастся устроиться вперёд, но иногда очень тяжело. Хочется окончить начатое дело, признаюсь с нетерпением ожидаешь его конца, но он ещё так далёк, что подчас мелькает надежда, что вот явится какой-нибудь случай как deus ex machina и переменит обстоятельства. На днях я сделал свои карточки и посылаю тебе одну из них по обещанию. Кажется они довольно похожи. От Капы не имею никаких сведений; если она мне писала, то вероятно в Калиш» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1759 Л.11].
Тяжесть повседневного служения чиновников Империи убедительно показывает их положительные достоинства, сравнительно с тем как красные идейные противники монархистов пошлейшим приподнятым тоном описывают революционеров: «молодой энергичный марксист» «познал наслаждение успешной агитационной и пропагандистской работы в массах» [В.Ф. Солдатенко «Георгий Пятаков: оппонент Ленина, соперник Сталина» М.: РОССПЭН, 2017, с.70].
Далее И.Л. Горемыкин отзывался о письмах управляющего имением Фелисова, который потерял сына, и грусть развивает в нём «мистицизм», не тождественный с религиозностью: «может плохо кончиться. У меня были с ним очень странные разговоры, но его трудно в чём-нибудь убеждать ».
В Польше при общем хорошем отношении к русским администраторам сельских жителей, сохранялась и опасность революционных преступлений. Так произошло покушение на комиссара Добродеева, которому польские крестьяне выражали сочувствие.
За несколько месяцев работы в 1864 г. многие русские молодые политики овладели устной польской речью. И.Л. Горемыкина выделился ещё и особенным глубоким погружением в польскую историческую и юридическую литературу.
Осенью крестьяне особенно сильно торопили комиссаров с разрешением их дел в пору озимых посевов.
Н.А. Милютин 22 сентября 1864 г. писал Я.А. Соловьёву: «Вам и всем нашим необходимо окружить себя людьми честными, твёрдыми и вполне надежными, которые составят не только материальную трудовую, но и нравственную нашу опору в Царстве. Эти люди (даже наименее блистательные и способные) будут всё-таки способнее и полезнее местных корифеев». Милютин лично следил за соответствием русских администраторов возложенным на ним задачам осуществления имперской политики в Польше. Одного из комиссаров Келецкой комиссии в том же письме Милютин обвинил в помещении в «Голосе» статей в пользу польской шляхты в сочетании с неприемлемым «пренебрежением к крестьянам». Такое поведение считалось совершенно не допустимым. «Как он к нам попал?» [«Николай Алексеевич Милютин в его заботах о крестьянском и судебном деле в Царстве Польском» // «Русская Старина», 1884, июнь, Т.42, с.587].
Н.А. Милютин и его единомышленники отстаивали принцип силы Самодержавия в качестве лучшей альтернативы либерализму и западническому конституционализму. Их поддерживал «Русский Вестник», а славянофилы были настроены к ним враждебно [«Дело Чернышевского. Сборник документов» Саратов, 1968, с.577]. Вокруг Н.А. Милютина длительное время группировались талантливые патриоты, которые хотели усилить положение русских учёных и политиков сравнительно с немцами и иностранцами [Н.И. Веселовский «История Императорского Русского Археологического Общества за первое пятидесятилетие его существования. 1846-1896» СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 1900, с.61].
Приехав в Вену, А.В. Белостоцкий 10 октября 1864 г. написал своему другу заверение, что хотя за всё время пребывания И.Л. Горемыкина в Польше, не имел возможности написать ему, но «не переставал любить и уважать тебя». «Сведения о тебе я постоянно имел из твоих писем к Григ. Алекс.» (Евреинову). В Варшаве Белостоцкий узнал, что Горемыкин там редко бывает. «Интересно было бы тебя послушать и о многом поговорить, ни в одном уголке Европы не происходит и не происходило таких курьёзов как в Царстве Польском и Литовских Губерниях». «Отсутствие единодушия между лицами, стоящими во главе администрации более всего поразили меня». «В Варшаве я обедал у Фёд. Фёд. [Берга] и он мне сообщил, что деятельностью твоею очень довольны, а особенно Черкасский, не знаю только доволен ли ты распоряжениями Олимпа» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.409 Л.7-8].
Родственник Ивана Логгиновича А.Д. Горемыкин в 1864 г. был назначен председателем Варшавской комиссии по крестьянским делам, а в 1865 г. председателем Пултусской комиссии.
13 декабря 1864 г. вновь из Калиша Горемыкин пишет, что планирует покинуть комиссию или взять 4-месячный для поездки за границу или в с. Белое, т.к. «вновь присланный председатель совершенная невежда и в отношении дела и в общем». «Что касается самого дела, которому я глубоко предан, то бояться за него нечего», «мы вывезли его на гладкую дорогу, теперь всякий его повезёт. Обидно только, если этими трудами воспользуется кто-нибудь другой, но я не такой человек, чтобы отдать своё без боя. Много есть ещё других причин и расчётов, которые привели меня к моему решению».
Каждое письмо показывает решительность и принципиальность Горемыкина, постоянные черты его характера, встречаемые смолоду и до конца. Политический принцип браться только за то, чего не может никто другой – великолепная идея, сильно импонирует.
С какими именно затруднениями сталкивался Горемыкин и как пытался их преодолевать, показывает не датированный черновик письма, несомненно, адресованный члену Совета управления Царства Польского В.А. Арцимовичу, занимавшемуся с сентября 1863 г. до ухода в уголовный кассационный департамент Сената 7 февраля 1866 г., всеми делами, какие заботили И.Л. Горемыкина.
«Ваше Превосходительство Милостивый Государь Виктор Антонович! Помня дозволение, данное мне Вами, обращаться к Вам за советами и помощью, я решаюсь беспокоить Вас этим письмом».
«Вашему Превосходительству без сомнения известно лучше нашего, какое влияние имеет на успех наших действий военно-полицейское управление, главнейшим образом это влияние зависит от того участия, которое военно-полицейское управление уезда имеет в гминном устройстве. Я сказал участие, но кажется правильнее было бы сказать [о] полнейшей зависимости, в которой всё гминное крестьянское управление находится от военно-полицейского начальства. Об этом-то предмете я и решаюсь писать Вам и признаюсь, не без колебаний, так как сущность моего письма есть жалоба и просьба о помощи; жаловаться всегда неприятно и я пересилил своё нерасположение к ним только зрелым обсуждением необходимости и посоветовавшись с моими товарищами по делу».
«Состояние сельского гминного управления в Калишском уезде весьма плачевно. Гминные войты по большей части, за самыми редкими исключениями никуда не годны, солтысы также не только нигде не способствуют сохранению порядка, но часто сами суть первые зачинщики его нарушения, потому что ни те ни другие не привыкли видеть в себе лиц должностных, а смотрят на себя как на представителей правых и не правых, законных и не законных притязаний крестьян. Гминные канцелярии – вещь не существующая в действительности, в своём участке я не видел ни одной, им стал по большей части сброд личностей повыгнанных из разных мест за негодностью. Гминные суды также если и действуют где-нибудь, то уже конечно без лишней суеты и не с тем успехом, который имеет в виду закон их установивший. Есть гмины, где суд собирался уже 80 раз и во все собрания решил 20 дел; есть гмины, где суд не собирался ни разу, даже каких-либо точных сведений по данному предмету иметь нельзя, потому что трудно считать за заседания суда сходки солтысов и лавников, происходящие без всякого законного порядка, и не оставляющие по себе никаких следов, кроме шумных и часто не трезвых бестолковых разговоров. Всего лучше можно судить о их достоинствах по тому мнению, которое имеют о их достоинствах сами крестьяне; нельзя сделать крестьянину, подающему просьбу, большей неприятности, как сказать ему, что его дело подлежит рассмотрению гминного суда. Управление, составленное исключительно из крестьян устроить очень не легко: у нас в России крестьяне гораздо способнее здешних и где самый круг действий сельских управлений гораздо теснее – дело не обошлось без затруднений; здесь же без особенной попечительности со стороны полицейского управления, оно решительно идти не может. В Калишском уезде попечительства этого нет и гминные управления в большом беспорядке и что ещё хуже это то, что при настоящем начальнике уезда нет надежды, чтобы оно когда-нибудь пришло в порядок. Наше косвенное влияние на это дело уже истощило все свои силы.
В отчётах Калишской комиссии не раз было упомянуто о начальнике Калишского уезда майоре Химентовском. Когда председатель комиссии был в Варшаве, то князь Мещерский не раз доводил о нём речь и о нём князю Черкасскому оставлена была записка, содержавшая в себе разные обвинительные против него пункты. Всё это до сих пор не имело никаких результатов; Химентовский по-прежнему начальствует в Калишском уезде, а беспорядки и неустройства не уменьшаются, а вместе с временем приобретают всё более и более значения и опасности».
«Как ни трудна задача устроить крестьянское управление, она всё-таки в некоторой степени исполнима», доказательством чего служит Калишский уезд.
«Ожидания крестьян так несбыточны, притязания их столь чрезмерны, что, несмотря на самое заботливое охранение их интересов с нашей стороны, почти все они остаются недовольными», а гминные должностные лица не помогают, а противодействуют [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1440 Л.24-26].
Как видно, проницательный дальновидный Горемыкин поддерживая суды и самоуправление в принципе, не питает насчёт них лишних иллюзий, добиваясь, чтобы их положительные функции, в случаях неспособности, выполняло чиновничество и полиция в интересах крестьян. Именно в эту сторону двинется корректировка реформ при Александре III, в качестве логического развития крестьянской политики.
Войт – это глава гмины – низшей административно-территориальной единицы в Царстве Польском. Войты должны были исполнять распоряжения гминных судов и крестьянских сходов, наблюдать за уплатой денежных сборов и исполнением повинностей. Солтыс – глава солецства, вспомогательного подразделения гмины. Лавники – заседатели судов.
На 28 января 1865 г. новым председателем Калишской комиссии значился титулярный советник Николай Карлович Рутцен (бывший мировой посредник), его заместителем Н.Д. Рычков, а секретарём В.Ф. Лазарович. Коллежский ассесор И.Л. Горемыкин записан комиссаром 1-го Калишского участка из 8-ми [«Общий состав Учредительного комитета и комиссий по крестьянским делам в Царств Польском» Варшава, 1865, с.12].
О назначенном по желанию Я.А. Соловьёва Рутцене вспоминают как об одном из лучших деятелей, присланных в Царство Польское, отмечают его рвение, какое он прежде проявлял и при устройстве крестьянских дел в Орловской губернии, старание избегать при разверстании земель применения военной силы, против беспорядков пускать предварительно увещевания и штрафы. По-видимому, о том же неугомонном Химентовском есть такое упоминание в рассказе о работе Н.К. Рутцена, заслужившего благодарность Я. Соловьёва и Ф. Берга: «никуда калишский военный начальник не мог пронесться с казаками без того, чтобы Н.К. или не остановил его, или не отправился бы с ним туда же. Войска не могли быть введены ни в одно селение без ведома председателя комиссии и сколько раз его личное присутствие на месте разрешало дело мирным путём. Бывали дела очень сложные, но благодаря поддержке учредительного комитета, они всегда разрешались в смысле улучшения положения крестьян» [«Русская Старина», 1882, Т.33, с.617-618].
Заседании в Калишской комиссии перемежались с частыми разъездами. Каждое спорное дело подробно и тщательно расследовалось. Признаком умиротворения в Калишском уезде явилось проведение в полном порядке рекрутского набора.
Другой подобный черновик письма Горемыкина написан до его ухода из Калишской комиссии, но уже в преддверье. Горемыкин, опасаясь быть навязчивым, всё же решался напомнить о сложившихся в Варшаве хороших отношениях и встреченное расположение своего собеседника. Горемыкин сообщал что несколько дней назад получил от председателя его комиссии предложение стать заместителем председателя другой крестьянской комиссии. Горемыкин боялся «обречь себя на совершенно бездействие» при неподходящем начальстве, но и оставлять Калишскую комиссию с переходом в Варшаву остерегался, дабы его отказ сотрудничать не был превратно понят как нежелание работать с крестьянскими делами. Затрудняясь в выборе, Горемыкин испрашивал совета.
В написанном Владимиром Спасовичем очерке «В.А. Арцимович, его жизнь и деятельность в Царстве Польском в 1863-1865 г.» (1901) есть важная датировка: 4 мая по представлению вице-председателя Г. Совета Арцимовича И.Л. Горемыкин получил направление для ревизии судилищ чиновников учредительного комитета вместе с состоявшими далее при 2-м отделении Канцелярии Его Величества С.И. Лукьяновым (будущий сенатор) и Ф.И. Пясецким (редактор полного собрания законов). 23 июня Арцимович, поляк и католик, разошедшийся во взглядах с русскими администраторами, подал первое прошение об отставке, удовлетворённое осенью.
Дальнейшие занятия обрисованы в письме Горемыкина сестре, датированном 31 октября 1865 г. и помеченного городом Седльце, 90 км. от Варшавы: «дел разного рода всё много и по большей части занимаюсь ими довольно усердно, к чему принуждает и самая одинокая жизнь, лишённая других развлечений, иногда впрочем приходят минуты нравственной лени, когда хочется чего-нибудь другого и на обыденное смотришь скучно, но благоразумие одерживает верх и всё идёт по заведённому порядку».
Интересно как понятие лени Горемыкин относит к нравственности и соблазнам перемен. Если Горемыкин часто жаловался на такую склонность к лени, неудивительно если собеседники его не понимали и распространяли потом легенды о сонном Горемыкине, как будет с фразой о шубе, превратно толкуемой сплетниками, и многими приписываемыми ему высказываниями.
Выясняется, что предыдущие 7 месяцев он прожил в бараке и теперь доволен своей квартирой. Испытывал желание съездить в С.-Петербург, но держит дело и ожидание отпуска летом, но может и зимой, если лето займут поездки по служебным делам.
14 декабря 1865 г. Иван Горемыкин вновь изрекает ноты мудрого смирения: «по какому праву будем мы требовать от судьбы того, чего она не давала тем, которые были не хуже нас и сделали больше нас». Из переписки можно составить коллекцию афоризмов. На будущей неделе он собирался в Варшаву.
В 1866 г. И.Л. Горемыкин станет вице-губернатором Плоцкой губернии, а в 1867-м перейдёт в Канцелярию Наместника в Варшаве.
Будущий сенатор, делавший успешную карьеру в Министерстве Юстиции, А.В. Белостоцкий писал 13 марта 1867 г.: «Спешу уведомить тебя, дорогой друг, что ещё не вполне потеряна надежда устранить Гурьева. Сегодня я виделся с Адамовым, Правителем Канцелярии Министерства, и он сказал, что о назначении Гурьева членом окружного суда, в один из провинциальных городов, уже была речь несколько месяцев тому назад».
22 декабря 1867 г. из С.-Петербурга Белостоцкий отвечал на приглашение на свадьбу, что «не в силах отказать себе в удовольствии исполнить твоё желание и потому вторично обещаю тебе явиться в Варшаву ко дню назначенному ждя твоей свадьбы. Меня смущает несколько стужа», «если не захвораю, то в день свадьбы твоей обниму тебя». «Если твоя свадьба будет 7-го, то я выеду из Питера 4-го, буде же 8-го, то 5-го». Г.А. Евреинов получил новую должность в Твери и поэтому не мог быть на свадьбе.
10 марта 1868 г. И.Л. Горемыкин отправлял письмо А.В. Белостоцкому, и получил ответ: «я вполне оценил это доказательство того что и среди полного счастья ты не забываешь людей тебя искренне и неизменно любящих». Из политических новостей Белостоцкий перечислял передачу «усмирительного управления внутр. дел. Царства Польского из Варшавы в Петербург, полное подчинение губернаторов здешнему МВД и Сенату и сравнение власти Наместника с властью Генерал-Губернатора – говорят этому очень противился Берг».
Владимир Гурко, состоявший при И.Л. Горемыкине в 1906 г. заместителем министра внутренних дел, перед смертью в Париже в 1927 г., оставил подробные воспоминания, изданные потом под названием «Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II». В них даётся обстоятельная характеристика личности Ивана Горемыкина, заслуживающая критического внимания. Владимир Гурко не знал Горемыкина достаточно близко и долго. Когда супруга Горемыкина в переписке упоминает встречу с Гурко в поезде, вероятнее, она говорит про его отца, Иосифа Гурко.
Они нигде не служили бок о бок, за исключением Особого совещания марта 1905 г. и Совета Министров 1906 г., поэтому Владимир Гурко мало может рассказать о прошлом своего начальника и о его подлинных убеждениях и чувствах. Чаще всего он передаёт внешние впечатления от знакомства и опирается на сложившуюся репутацию Горемыкина и распространявшиеся о нём разговоры. Следует учитывать, что Гурко не только постоянно не был в лагере Горемыкина, но наряду с С.Ю. Витте, вёл интриги против группы сторонников Горемыкина. Гурко говорит как идейный оппонент Горемыкина и как завистливый политик, потерпевший неудачу, сбитый на взлёте и не сумевший добиться достигнутых Горемыкиным высот.
Близко ко времени написания мемуаров, Гурко неоднократно делал публичные выпады против Горемыкина, например, считая что в 1915 г. против него поднималась «справедливая волна» [«Последние Новости» (Париж), 1924, 20 сентября, с.3].
При разнице в возрасте в 23 года и столь же крупной дистанции в личных отношениях, Владимир Гурко не может быть уверен в том, что Иван Горемыкин любил только свою семью и ни к кому другому не испытывал благодарности и привязанности. Это ничем не обоснованный вздор, как и частая аналогичная болтовня о Николае II. Слова «едва ли кого-либо любил» означают лишь, что И.Л. Горемыкин не выказывал свои чувства при Вл. Гурко персонально, а мемуарист склонен к выдумкам на пустом месте.
С таким отношением сталкиваются самые разные политики. Хиллари Клинтон пишет: «если мы слишком сдержанны, нас считают холодными и фальшивыми». Это частое обвинение политиков, обдумывающих и взвешивающих свои слова, не поступающих импульсивно и взбаломошно [H.R. Clinton «What Happened» Simon&Schuster, 2017].
И.Л. Горемыкин в этом соответствовал христианским устремлениям: «не следует выходить из себя, волноваться и малодушествовать при внутреннем нашем борении, ибо это может вредить успеху нашей духовной работы» [Архимандрит Арсений «Духовный дневник» М.: Печатня А. Снегиревой, 1911, Вып.2, с.40].
Владимир Гурко передаёт ходившее к 1895 г. мнение о причастности И.Л. Горемыкина к либеральному лагерю, ввиду его приверженности к законности и неприятию произвола. Определяет он такую причастность по личным связям в Сенате. Но Горемыкин имел самые широкие связи, поэтому не понятно какую именно сенаторскую группу Гурко выделяет и почему называет её либеральной. Изучив конкретные взаимоотношения И.Л. Горемыкина, мнение Гурко приходится признать ошибочным, безответственным легкомыслием мемуариста.
Нет нужды пользоваться левой политической терминологией: приверженность правовой культуре составляет важную часть правомонархической политической доктрины, которой оппонирует либерализм. Главными распространителями либеральных идей были газетчики и профессора, завороженные пантеистической философией. Преподаватели на юридическом факультете Московского университета, например, традиционно составляли оплот западничества, как вспоминал Б.Н. Чичерин про 1840-е [«Русские мемуары. 1826-1856» М.: Правда, 1990, с.173].
И.Л. Горемыкин, как будет видно, неизменно держал преемственность с лучшими монархическими традициями. Тем же отличалось его Училище Правоведения. Николай Лесков в путевых очерках «Из одного дорожного дневника» в сентябре 1862 г. записывал такой разговор в поезде по пути из С.-Петербурга в Вильно: «я уважаю чистую религию и для того сына моего отдала в училище правоведения, чтобы был… ну, понимаете, не то, что из университетов выходят». Т.е., можно быть уверенным, что И.Л. Горемыкин также возражал бы против отнесения его взглядов к либеральным, как Лесков в те же годы, в 1863 г. объяснял свой отзыв в правой «Северной Пчеле» на роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» желанием писать собственное мнение, не заимствованное, «никем не навязанное насильно, по системе новейшего либерализма» [Н.С. Лесков «Полное собрание сочинений» М.: Терра, 1996, Т.3, с.8, 176].
Правый монархист П.К. Щебальский в 1861 г. в «Русском Вестнике» писал о близкой И.Л. Горемыкину проблеме польского шовинизма: «Довольно насилия во имя цивилизации. Европа не забыла ещё Наполеона и его орлов, трепавших Германию и Испанию во имя свободы». Превосходно писал и в 1864 г. М.О. Коялович про «демократически либеральный фанатизм и постоянно тесно связанный с ним деспотизм» [«Забытые страницы польского вопроса» СПбГУ, 2022, с.123, 294].
Ввиду актуальности проблемы, в 1861 г. и Фёдор Достоевский писал об опасных искоренителях предрассудков: «до какого деспотизма может дойти иной либерал!» «чуть мыслит человек не по-вашему – губить его» [Ф.М. Достоевский «Полное собрание сочинений» Л.: Наука, 1979, Т.19, с.48, 58].
Таким либералом Горемыкин не был. Его не обманули ложные огни 1860-х, когда «сотрудники зла начали проклинать старые порядки и старых людей, а высшее сословие, испугавшись проклятий, стало отказываться чуть не от своего рода – своих имён и заиграло словом “свобода”, как маленький ребёнок играет игрушкой, ломая и коверкая её. Дворянство, как легкомысленная бабочка, летело к этому ярко горевшему слову и спалило все свои красивые золотые крылья!» [Е.Ю. Хвощинская «Воспоминания» М.: ГПИБ, 2016, с.84].
И.Л. Горемыкин, боровшийся с обманами либерализма, вполне мог со всем этим согласиться. Присоединившись к стремлению людей 60-х к развитию Империи, он не разрывал с тем лучшим, чем отличалась дворянская культура и оставался живым её воплощением.
После ужасов тоталитаризма в СССР стали писать про жизнь в «либеральной» царской ссылке, сравнительно с концлагерями под дулами автоматов за колючей проволокой. Хотя совершенно верно говорить о безвинности жертв большевизма и о том что революционеры при монархическом строе «сидели за дело», всё же охранительная политика самодержавия либерализмом не является [В.Р. Кабо «Дорога в Австралию. Воспоминания» М.: Восточная литература, 2008, с.165]. Точнее выражается арестованный в 1940 г. во Львове мемуарист, вспоминая про ГУЛАГ: «когда читаешь описание культурно и материально благополучной жизни, которую вели царские заключённые и ссыльные, трудно поверить своим глазам; а ведь именно эти люди свергли царский строй» [Г. Герлинг-Грудзиньский «Иной мир. Советские записки» СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019, с.22].
Владимир Гурко не пытается ничего рассказать о взглядах Горемыкина в 1860-е, поскольку их не знает. Но и манеру изложения о 1890-х нельзя назвать безукоризненной. «По природе, несомненно, умный, тонкий и вдумчивый, с заметной склонностью к философскому умозрению», И.Л. Горемыкин «считался» «даже сторонником, конечно платоническим, толстовского учения».
Согласно возрасту, взгляды И.Л. Горемыкина сложились в 1860-е. Он стал не просто государственным служащим, польский опыт сделал его идеологом Имперской системы. Позднее анархическое толстовство с этим решительно не вяжется, но на читателей, заставших восхождение Льва Толстого, продолжало действовать его раннее очарование, а на дальнейшие проповеди смотрели снисходительно. В какой части мог Горемыкин разделять взгляды Льва Толстого в 1890-е, видно по статьям идеолога русского национализма Михаила Меньшикова, где он, защищая Л.Н. Толстого, вспоминает про 1860-е, когда «величие ума и чувства не только не встречало подобающего уважения, но принципиально отрицалось, как всё аристократическое». Не одобряя нигилистический лозунг отрицания авторитетов, он призывает уважительно относиться к великому писателю. Трудно согласиться с М.О. Меньшиковым насчёт редкой правдивости и не лицемерности Л.Н. Толстого. Однако в его заслугу правые писатели ставили выступление против идолопоклонства перед политикой и наукой, название более важными любовь и воздержанность [М.О. Меньшиков «Критические очерки» СПб.: Тип. М. Меркушева, 1899, Т.1, с.9-10, 24].
Если же брать более позднюю проповедь непротивления, то она совершенно не приложима к воззрениям И.Л. Горемыкина, применявшего силу в качестве министра внутренних дел ровно в той мере, сколько это было нужно, не злоупотребляя ею и не пасуя перед злом.
Всеми силами отвергал Горемыкин и такое центральное убеждение утопически изуверского толстовства, будто «нельзя быть христианином, имея собственность» [Л.Н. Толстой «Письма 1882-1910» М.: Художественная литература, 1984, Т.19, с.39].
Похоже, Гурко заимствовал вздор о толстовстве из воспоминаний А.П. Извольского, который ошибочно видел в игнорировании Горемыкиным в 1906 г. бессмысленной Г. Думы «столь дорогое Толстому непротивление злу» [«Le Gaulois» (Paris), 1919, 30 mai, p.1].
Владимир Гурко также пишет, что И.Л. Горемыкин «сохранял некоторую приверженность к народническому направлению 60-х годов, причём хвалился своим участием в проведении крестьянской реформы 1864 г. в Царстве Польском, где он занимал должность вице-губернатора».
Понятие народничества используется только как революционное, относительно монархистов правильнее говорить о правом национализме. Положительная практика русского национализма не исключала и даже прямо подразумевала заботу о польских крестьянах, труды на пользу которых составляли гордость Ивана Горемыкина. Их благополучие умножало общее довольство Империи, т.е. вполне соответствовало русским интересам.
Основательность подхода И.Л. Горемыкина к своему делу и его стремление к достижению высшего уровня квалификации выразились в предпринятом им серьёзном изучении истории Польши. Не удовлетворяясь текущим состоянием края, Иван Горемыкин желал выявить самые существенные исторические закономерности, определяющие это положение. Итогом его трудов стали изданные в С.-Петербурге «Очерки истории крестьян в Польше» (1869, 159 стр.).
Автор первоначально предлагал их редакции «Вестника Европы». 17 июля 1869 г. Евгений Утин, отдавая рукопись обратно, предложил сделать «изменения и сокращения. Во всяком случае я прошу Вас не считать это временное возвращение за окончательное, и надеюсь, что Вы будете столь добры и возьмёте на себя труд снова доставить Вашу статью в Редакцию «Вестника Европы», особенно, если Вы решитесь подвергнуть её небольшой ампутации» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.16].
И.Л. Горемыкин в своём исследовании проводит критический разбор литературы на польском языке. Предметом его изучения является главным образом значение законодательства в национальной жизни. Он видит три основных влияния на юридический быт Польши. 1) право национальное, оно же польское, славянское, земское. 2) римское право, занесённое католическим духовенством. 3) немецкое право от колонистов, что приводило к значительному беспорядку (начало 2-го тысячелетия от Р.Х.).
Говоря о постепенном водворении в Польше тяжёлого крепостного права с начала XVI века, Горемыкин объясняет: «незаметно приносил каждый год свою частицу в общую массу тягостей, угнетавших земледельческое население; одно за другим терялись его права. Начиналось с противозаконного их нарушения, а потом, мало по малу, делаясь общим, беззаконие обращалось в обычай и закон. Нельзя упрекнуть польских крестьян в том, что они не защищали своих прав и своей свободы, но борьба их со всеми обстоятельствами, под влиянием которых сложилась государственная жизнь Польского народа, была не равною борьбою. В этой борьбе, кроме отдалённых славянских преданий, опереться им было не на что, и борьба скоро сделалась невозможною; подавляющая сила обстоятельств взяла своё и крестьянское население принуждено было лишиться всех своих прав на всё время самостоятельного существования Польши».
Исторический опыт давал И.Л. Горемыкину полное обоснование принятия монархических имперских идей. Он указывает, что в России крепостное право в отрицательном смысле установилось с 1719 г. при Петре I, которого русские националисты всегда осуждали за западнические заимствования и абсолютистскую подмену идеи Самодержавия.
Так раз в 1718 г. состоялось убийство Царевича Алексея Петровича, от которого Пётр I желал избавиться для передачи престола наследникам от второго, беззаконного, брака, ради которого он прежде преступным путём удалил в монастырь его мать Царицу Евдокию. Начав против неё новое жестокое преследование в 1718 г., Пётр лично руководил сфальсифицированным следствием, которого стыдились его преемники и от чего ужасаются даже апологеты Петра, так что его можно назвать не только первым большевиком, но и первым чекистом [В.Н. Козляков «Царица Евдокия» М.: Молодая гвардия, 2014].
Точно так и установление крепостного права в Польше произошло в результате навязывания германских аристократических республиканских начал, чуждых славянству. Это влияние не дало возникнуть в Польше сильной монархической власти, которая одна могла защитить права земледельческого населения.
И.Л. Горемыкин: «Каждый шляхтич мог составлять и издавать для своих крестьян какие было ему угодно законы, и никакой контроль не ограничивал его произвола».
«Первым шагом на пути своём к освобождению, обеспечением своей жизни, за которую прежде господин его оплачивался гривнами, польский крестьянин обязан русскому правительству также, как он обязан всеми последующими улучшениями в своём быту, правительствам тех государств, между которыми разделились земли Речи Посполитой. В последние годы самостоятельного существования Польши в пользу крестьян не было сделано ничего».
Сеймы не занимались благополучием крестьян. Кодекс Наполеона не облагодетельствовал польский народ, введя равенство всех перед законом, поскольку за шляхтой осталось всё имущество. И оно продолжило безраздельно править крестьянами, пользуясь этим.
«21 декабря 1807 года издан был декрет, которым предписывалось владельцам давать крестьянам годовой срок, до легального изгнания их из их участков», – И.Л. Горемыкин предоставляет очень полезную информацию для критики революционной бонапартистской политики. Император Николай I 26 мая 1846 г. издал указ, запретив отнимать у хлебопашцев Царства Польского их участки земли, уменьшать их, повышать повинности. Этот указ признал за крестьянами права на землю, существовавшие до введения крепостного права – тогда как Наполеон I закрепил зависимость крестьян от шляхты.
Крестьянскую реформу 19 февраля 1864 г, причастность к которой составляла гордость И.Л. Горемыкина, он называл услугой, на которую «вряд ли было бы способно оказать» «само польское общество». Только русская монархическая власть – был вывод Ивана Горемыкина, служит естественной опорой как русского, так и польского крестьянства. Закономерность этого он видел в самом распаде Польши и в отсутствии поддержки в народе освободительных восстаний, поднимавшихся шляхтой и интеллигенцией исключительно в своих интересах [И.Л. Горемыкин «Очерки истории крестьян в Польше» СПб.: Тип. В. Демакова, 1869, с.53, 68, 118-122, 130-132, 157-159].
Эта книга представляет ценность для выявления сложившихся к тому времени политических убеждений Ивана Горемыкина. Не только семейные традиции и современные литературные влияния, его опыт государственной службы сформировал стойкие и определённые монархические и националистические взгляды.
Опыт правления Петра I показал серьёзную опасность для русского благополучия западнических влияний. Однако подражательные тенденции остались в Российской Империи и в эпоху Императора Николая I, при котором идея национализма формально победила принцип политических заимствований, Самодержавный правовой принцип одолел абсолютистский произвол. Империя нуждалась в политиках, которые бы отстаивали русские принципы Самодержавия в противовес абсолютистскому угнетению или конституционалистской передаче власти из рук Монарха финансовой олигархии.
Министр внутренних дел (1861-1868) Пётр Валуев, вскоре после выхода в отставку, обращаясь в дневнике к Императору Петру I, выразил сожаление насчёт идейных успехов русских националистов: «если бы не было его, в этот день забытого, не вспоминаемого, почти изгоняемого из отечественных летописей первого русского императора, не было бы и нынешней России, не было бы Академии, не было бы празднуемого юбилея, ни самого Карамзина. Англичане заставляли бы нас покупать опиум в Архангельске, а Погодиных и Аксаковых били бы батогами по царскому указу в Москве» [П.А. Валуев «Дневник» М.: АН СССР, 1961, Т.2, с.415].
Вопреки инерции представлений такого рода, ещё при Николае I в исторической публицистике западничество Петра I получило самую критическую оценку. В 1846 г. можно было прочесть о петровском правлении: «государство было истощено, народонаселение истреблено, природные жители бросали кров родной и бежали далеко от родины. В селениях оставались старый да малый, и нищета дошла до крайности» [А.С. Хомяков «Всемирная задача России» М.: Институт русской цивилизации, 2008, с.571]. «Время после Петра Великого являет новую односторонность, ужасную крайность, до какой когда-либо достигал народ: доходило до того, что мы вовсе отрекались от нашей истории, литературы, даже языка» [К.С. Аксаков, И.С. Аксаков «Литературная критика» М.: Современник, 1982, с.31].
Фигура Петра I осталась дискуссионной, даже из числа славянофилов её продолжали защищать те же М.П. Погодин и А.С. Хомяков. Уход из МВД противника славянофилов П.А. Валуева кажется особенно закономерным, поскольку в его дневнике постоянно выражено непонимание идеи, оправдывающей владычество русских в Польше, идеи, способной победить стремление поляков к независимости. Сенатор К.Н. Лебедев писал о Валуеве, что после второго брака с Вакульской он стал «немножко» поляком и космополитом. Упрёки властей Империи в отсутствии осознанной стратегии в отношении поляков выдвигали оппозиционные историки и позднее. Относительно политики в Польше Валуев оппонировал Милютину.
П.А. Валуев зарекомендовал себя и как противник муравьёвской политики аграрной политики в Польше [А.И. Миловидов «Освобождение крестьян Северо-Западного края и поземельное устройство при графе М.Н. Муравьёве» Вильна, 1901, с.49].
Но как видно по работе И.Л. Горемыкина над влиянием русской политики на благополучие польских крестьян, положительные задачи властями Империи вполне сознавались и реализовывались. В июле 1866 г. Горемыкин получил серебряную медаль за деятельность по устройству крестьян в Царстве Польском. Эта награда последовала за почётной медалью к усмирению мятежа 1863 г. [А.Г. Звягинцев «Роковая Фемида. Драматические судьбы знаменитых российских юристов» М.: АСТ, 2010, с.129].
И.С. Аксаков, в отличие от М.Н. Каткова, считал польское восстание 1863 г. народным. Он ссылался на то, что сопротивление Наполеону в Германии тоже считается народным, хотя крестьянство не принимало в нём активного участия. Однако посещение Польши отвратило его от симпатий к польскому сепаратизму. Из Вильно в 1863 г. Аксаков писал: «нигде в России сельское население не доведено до такого унижения и до той крайней нищеты, как в здешнем крае». Он рассчитывал, что «строгая и справедливая администрация поставит народ на место панов» [А.А. Тесля «Последний из «отцов»: биография Ивана Аксакова» СПб.: Владимир Даль, 2015, с.345, 352].
Относительно роли в восстании шляхты справедливости ради не помешает отметить и что сравнительно с русским разделом Польши, австрийская оккупация по-настоящему ударила по помещикам в Галиции. Их права собственности на имения не были гарантированы, замки и земли подвергались конфискации, вводилось завышенное налогообложение. «Многие помещики полностью покинули свои земли» [Н.П. Голицына «Моя судьба – это я» М.: Русскiй Мiръ, 2010, с.97, 102].
Реализацию пожеланий Аксакова о подъёме крестьян отметил белоэмигрантский писатель родом из Гродненской губернии: «граф Муравьёв не только вешал. Он раскрыл белорусскому мужику дорогу хотя бы в низшие слои интеллигенции» [И.Л. Солоневич «Россия и революция» М.: ФИВ, 2007, с.98]. Из Гродно П.И. Небольсин, член губернского присутствия по крестьянским делам, 4 сентября 1866 г. писал о произведённом политическом влиянии на белорусов: «здесь крестьяне оживились русским духом: к польскому – отвращение; ко всему русскому льнут» [«Переписка И.А. Голышева с разными учёными лицами» Владимир, 1898, с.91].
Об этом писали даже близкие Герцену славянофилы, обличая его за поддержку революционного насилия, которое лишало всякого смысла критику правой монархической политики: «вы повторяли гнусные клеветы продажных польских публицистов и приберегали своё негодование для Муравьёва, который в три месяца поднял на ноги и оживил целый забитый народ» [Ю.Ф. Самарин «Собрание сочинений» СПб.: Росток, 2016, Т.3, с.565].
Сосланные в Сибирь бунтовщики устроились там неплохо. В мае 1890 г. Чехов из Томска писал семье, что поляки, сосланные в 1864 г., после амнистии уезжали отсюда, но вернулись: «здесь богаче». Менее обеспеченные поляки продолжали служить писарями на станциях [А.П. Чехов «Письма 1890 – февраль 1892» М.: Наука, 2009, Т.4, с.80].
Граф М.Н. Муравьёв в записке об устройстве Северо-Западного края, 14 мая 1864 г. поданной Александру II, называл этот край населённым 5/6 вполне русскими православными людьми, в интересах которых край не должен быть признаваем польским. Граф предлагал устранить польскую пропаганду, возвысить русскую нацию и православие, для чего заняться прочным устройством быта крестьян и их образованием в православном и русском духе. Он также предлагал водворять в край на переселение русских крестьян и управлять краем преимущественно русскими чиновниками, добиться подлинной независимости русских крестьян от польских помещиков, обеспечить правильную оценку земельных угодий мировыми учреждениями [«Из бумаг графа М.Н. Муравьёва» // «Старина и новизна», 1898, №2, с.300-305].
Для проведения в жизнь решительно всех указанных пунктов и понадобился переезд в Варшаву И.Л. Горемыкина.
Бюджет Царства Польского за 1865 г. показывал серьёзную финансовую поддержку со стороны Империи, и со следующего года, во избежание недовольства со стороны ревнителей русских интересов, польский бюджет был объединён с имперским, как того желал сотрудник Государственной канцелярии А.Н. Куломзин, с которым Горемыкину предстоит познакомиться. Благодаря помощи со стороны русских, польские губернии со временем стали доходными [Е.А. Правилова «Финансы империи. Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801-1917» М.: Новое издательство, 2006, с.176, 198]. «После поземельного устройства 1864 года развитие местной промышленности и ремёсл пошло весьма быстрыми шагами». Промышленное производство Варшавы выросло с 1876 г. по 1893-й на 62%, а ремесленное на 422% [А.С. «К столетию третьего раздела Польши» Варшава, 1895, с.28-29].
Советник министров Империи, экономист И.И. Янжул объяснял значительный рост промышленности Царства Польского русской правительственной опекой и оплатой товаров из карманов русских же потребителей. Он писал про «многомиллионный долг Польши русской империи за создание и столетнее поддержание её промышленности» [И.И. Янжул «Воспоминания о пережитом и виденном в 1864-1909 гг.» М.: ГПИБ, 2006, с.365].
В декабре 1866 г. Н.А. Милютина поразил нервный удар, он полгода лечился в Баден-Бадене с женой Марией Агеевной. К ним приезжали Ю. Самарин и В. Черкасский, подавший в отставку с болезнью Милютина [И.С. Тургенев «Письма. Июнь 1867 – июнь 1868» М.: Наука, 1990, Т.8, с.9, 47, 284].
Управление Черкасского звали лучшим временем для Холмского края, его уход объясняли влиянием поляков, имевших связи в Петербурге [«Сборник клуба русских националистов» Киев, 1911, Вып.3, с.30]. 26 апреля 1868 г. Свербеева передавала слухи: «поговаривают, что кн. Черкасский будет министром просвещения» [«Переписка И.С. Аксакова и Е.А. Свербеевой (1861-1885)» СПб.: Пушкинский Дом, 2022, с.196]. Юрий Самарин 13 февраля 1869 г. писал о выдвижении его единомышленниками кн. Черкасского на пост градоначальника [«Я любил вас любовью брата…». Переписка Ю.Ф. Самарина и баронессы Э.Ф. Раден (1861-1876) СПб.: Владимир Даль, 2015, с.98]. 5 декабря 1870 г. К.П. Победоносцев приводил мнение сторонников Черкасского, уверенных, что пока его карьера везде окончена, но при необходимости о нём вспомнят, что и произойдёт в войну 1878 г. [«Новый Мир», 1994, №3, с.210].
Личный вклад И.Л. Горемыкина в благополучие Польши считался весьма значительным даже спустя полвека, когда к юбилею крестьянской реформы его пригласили на торжества в Варшаву. Были отмечены его заслуги «в качестве комиссара по крестьянским делам Пултусскаго уезда» Варшавской губернии. Он «принимал деятельное участие во введении реформ. Приглашение сделано И.Л. Горемыкину до назначения его премьером» [«Русское Слово» (Москва), 1914, 2 февраля]. 50-летие приходилось на 19 февраля, и ближе к этому дню в газетах портрет Горемыкина, комиссара по крестьянским делам «первого призыва», размещали сообща с фотографией польских крестьян, приезжавших в 1864 г. в Петербург благодарить Императора Александра II [Иллюстрированное приложение к «Новому Времени», 1914, 15 февраля].
О работе И.Л. Горемыкина в 1860-е есть редкое мемуарное свидетельство. После получения учёной степени в Германии и возвращения в Россию, в гостях у брата Михаила, губернатора Плоцкой губернии в Польше, Николай Егорович Врангель, будущий искусствовед, отец белого генерала Петра Врангеля, познакомился с вице-губернатором И.Л. Горемыкиным, занимавшим эту высокую должность с 1866 г. по 1869-й.
Н.Е. Врангель спрашивал у своего брата, чем ему заняться в жизни. Губернатор сказал, что насчёт гражданской службы лучшую консультацию даст его заместитель, «он в этих вопросах дока. Чиновник в квадрате». Они поговорили на обеде в присутствии офицера Генштаба Щербатова. «Горемыкин на все мои вопросы отвечал любезно и обстоятельно, но ничего мне не разъяснил. Из его слов выходило, что нужно сделать одно, но, принимая в соображение разные обстоятельства, совершенно другое. – Уж эти мне чиновники! – сказал Щербатов, когда Горемыкин уехал. – Ты спросишь его, который час, а он тебе обстоятельно доложит, как измеряется время, как изобрели часы, какие бывают системы часов, – но который час, он тебе никогда не скажет» [Н.Е. Врангель «Воспоминания. От крепостного права до большевиков» М.: НЛО, 2003, с.111].
Характеристика И.Л. Горемыкина как образцового и выдающегося чиновника очень показательна. Причём важно заметить, что в вопросе устройства человека на службу не может быть прямого и однозначного ответа – тут важно, какими качествами обладает конкретная личность. Н.Е. Врангель явно не для того был предназначен, и его брат справедливо предупреждал: «лучше брось. Ты не выдержишь». Обстоятельный и расчётливый И.Л. Горемыкин мог заметить то же в характере барона.
Запись Н.Е. Врангеля о Горемыкине похожа на воспоминания о руководителе русской политики в Польше Н.А. Милютине: «это был истинно даровитый человек, но чиновник». «Всю жизнь он провёл в канцелярии», «он не имел кроме чиновничьего, иного образа мыслей, не знал, кроме канцелярских, иных способов» [Из записок М.А. Унковского // «Огонёк», 1906, 4 сентября, №18, с.138].
Мемуаристы таким способом пытались уязвить бюрократов, но в действительности давали высшую похвалу их профессиональной принадлежности и соответствию их призванию.
9 мая 1869 г. И.Л. Горемыкин отправлял ещё одно письмо А.В. Белостоцкому, который в ответ рекомендовал ему из соображений продвижения его карьеры «почаще повторять свою физиономию в М-ве Вн. Дел, и особенно у Мансурова (с которым к сожалению не знаком и потому не могу лично к нему обратиться за справками) и серьёзно спросить его намерение чтобы в скором времени дать должность вице-губернатора или нет. Весьма не мешало бы тебе также просить его, чтобы тебе дали какое-либо поручение, ибо тогда можно было бы скорее подняться, что о тебе не забыли бы». «Необходимо приводить больше личной энергии», «надеяться на то, что особи, стоящие во главе административного управления будут оценивать деятелей, а не назначать только тех, которые им попадаются на глаза, едва ли основательно. Поэтому прими дружеский совет, и хоть на короткое время, но по чаще приезжай в Петербург и являйся к своему равнодушному начальству» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.409 Л.18].
Родственник Ивана Логгиновича, А.Д. Горемыкин, на 1866-1869 г. был назначен Подольским губернатором. 16 октября 1869 г. В.П. Мещерский в письме Наследнику называл его бестактным, но честным. «Самый русский» из 3-х губернаторов в Польше [В.П. Мещерский «Письма к великого князю Александру Александровичу. 1869-1878» М.: НЛО, 2014, с.280].
В письме от 26 ноября И.Л. Горемыкин попросил А.В. Белостоцкого навести справки в МВД о желательном порядке представления Келецкого губернатора к Наместнику. В ответе Белостоцкий рекомендовал сообщить министру ВД представление «о тебе», а министр подаст рапорт в Сенат. «Иногда Наместник сам представляет Сенату, из которого дело идёт» на заключение МВД. Похоже, переписка шла об официальном уведомлении Наместнику насчёт книги «Очерки».
Будущий председатель Г. Совета И.Я. Голубев, вместе с которым учился в юности И.Л. Горемыкин, 18 декабря 1869 г. писал ему: «Любезный друг Иван Логгинович. На днях Алексей Васильевич [Белостоцкий] по твоему поручению передал мне твои «Очерки истории крестьян в Польше». Приношу тебе искреннюю благодарность за эту книгу. На праздниках я с особенным удовольствием примусь за чтение её и заранее уверен, что найду в ней весьма много интересного. Я не имел случая поздравить тебя, когда состоялось твоё назначение на нынешнюю должность, но относительно принесения поздравлений я не держусь пословицы: лучше поздно, чем никогда. Постараюсь не запоздать поздравлением когда ты получишь следующую в административной иерархии должность, и тогда уже поздравлю не только тебя, но и ту губернию, которой придётся состоять под твоим управлением» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.585 Л.1].
Далее И.Я. Голубев попросил устроить его брата, штабс-капитана Финляндского полка, «которого ты быть может помнишь по Училищу», на административную должность в Царстве Польском, где действовали усиленные оклады. «Он мечтает о должности, которая приносила бы до 1200 р. в год». Для такого устройства необходимо было знать местных начальников в губернском или уездном правлении.
И.Л. Горемыкин выразил «готовность» «пристроить его», и 13 января 1870 г. Иван Голубев благодарил, «что с особенною предупредительностью вызываешься помочь моему брату в приискании места». «Брат мой хочет выждать твоего приезда в СПбург, чтобы подробнее переговорить с тобою и выслушать твой совет». «Книгу твою я успел прочесть – и с большим интересом, как и предполагал. Тебе пришлось познакомиться с многими источниками и немало порыться в архивной пыли. У меня на подобную работу не хватило бы терпения, и потому я с особенным уважением смотрю на лиц, занимающихся историческими исследованиями». И.Я. Голубев пожелал И.Л. Горемыкину скорейшего перехода на службу в великорусские губернии, считая что служба и жизнь в Польше не столь приятна, чем в более родных краях.
В 1870 г. либеральный «Вестник Европы» увидел в книге И.Л. Горемыкина в первую очередь работу чиновника и потому отнёсся к ней с претензией: это «официальная записка, составленная добросовестно, но крайне сухо, игнорирующая внутренний быт крестьян и почти только указывающая на главнейшие законодательные меры, которые изменяли их положение. Г. Горемыкин не особенно хорошо овладел и этой не широкой темою, допустив в свою весьма необъёмистую монографию многочисленные повторения, и расположив материал, преимущественно в первой половине книги, довольно неудачно. Впрочем, в нашей исторической литературе этот труд всё-таки не бесполезный» [«Вестник Европы» (С.-Петербург), 1870, март, с.478].
Этот журнал Василий Розанов обвинил, что тот «не написал ни одного доброго слова о Христе, о христианстве, о церкви», предпочитая им Маркса и Лассаля, «вечно грыз любивших Россию людей» [В.В. Розанов «Последние листья» СПб.: Кристалл, 2002, с.116]. 11 июня 1870 г. чуть ли ни точно про номер с рецензией на И.Л. Горемыкина, Фёдор Достоевский написал Н.Н. Страхову: «какое подлое подлаживание под уличное мнение. Самая последняя казёнщина либерализма». Противопоставляя «Вестнику Европы» национально ориентированные журналы, Достоевский заявлял М.П. Погодину: «моя идея в том, что социализм и христианство – антитезы» [Ф.М. Достоевский «Письма 1869-1874» Л.: Наука, 1986, Т.29, Кн.1, с.127, 262].
В письме к редактору «Вестника Европы» М.М. Стасюлевичу 1 октября 1871 г. А.К. Толстой критиковал опасное направление журнала: «отрицание религии, семейства, государства, собственности, искусства – это не только нечистота, – это чума». «Учение и пропаганда отрицания находят себе пристанище даже в таких журналах, которых редакторы их не исповедуют, как, например, в Вашем». «Нигилизм будет отрицать всё на свете, но его самого никто не смей отрицать! Гвалт!» [А.К. Толстой «Дневник. Письма» М.: Классика, 2018, Т.5, с.446-447].
Монархисты отнеслись к труду Горемыкина с полным одобрением, используя его в обзоре положительной деятельности русских властей при подавлении мятежа 1863 г. Н.К. Щебальский в изданной у М.Н. Каткова в 1882 г. книжке про политику Н.А. Милютина обозначил в источниках: «во всём касающемся польского крестьянства мы руководствовались Моллером и Горемыкиным».
В современной научной литературе отмечается безусловное превосходство исследований Н.И. Костомарова над первой книжкой молодого И.Л. Горемыкина. Ничего удивительного, судя по разности их занятий. Костомаров возглавлял кафедру русской истории в 1859-1862 г. [«Исторический факультет Санкт-Петербургского университета» СПбГУ, 2004, с.8].
Горемыкин не профессиональный историк, кто всю жизнь посвятил изучению источников. Работа Горемыкина – труд политика, стремящегося понять Польшу, её состояние и нужды, для уяснения линии современной русской политики в Польше. Горемыкин дал полное опровержение спекуляциям о бессмысленности, бесполезности или непоследовательности действий русской администрации.
Вместе с тем, историки отмечают особенностью труда Горемыкина использование главным образом польских авторов, внимание Горемыкина к взгляду самих поляков [Л.М. Аржакова «Польский вопрос и его преломление в российской исторической полонистике XIX века». Дисс. д.и.н. СПбГУ, 2014, с.322-323].
Владимир Гурко замечал явную любовь И.Л. Горемыкина к своей семье. В 1869 г. Иван Горемыкин породнился с именитым семейством Капгер. Насколько оно было высокопоставленным, можно увидеть по тому, как упоминается в дневнике Петра Валуева за 1861 г. сенатор Александр Христианович Капгер. 6 января 1862 г. есть запись про нескончаемые визиты сенатора Капгера, а в примечании к своим записям Валуев в 1868 г. добавляет, что тогда генерал-лейтенант Капгер ревизовал Калужскую губернию с целью наложить узду на действия по крестьянскому делу губернатора В.А. Арцимовича. Но губернатор оказался «умнее» сенатора. «Единственным полезным последствием было то, что Капгер сам себя потопил и что с тех пор он не всплывал» [П.А. Валуев «Дневник министра внутренних дел» М.: Изд. АН СССР, 1961, Т.1, с.112, 139, 323].
А.Х. Капгер представил Арцимовича к ордену Св. Анны, стал его другом и защитником. Как отмечалось выше, в деловых отношениях с Арцимовичем в Польше состоял Горемыкин.
Александра Ивановна Капгер, которая вышла замуж за Ивана Горемыкина, являлась дочерью брата генерала, Ивана Капгера (1806-1867), который тоже был сенатором, а также военным юристом. О нём можно прочитать в записках другого крупнейшего деятеля эпохи Императора Александра II, военного министра Дмитрия Милютина: с 1856 г. И.Х. Капгер начал пересмотр военно-уголовного устава, а летом и осенью 1861 г. «приходилось заниматься с сенатором Капгером, которому поручено было, также моим предместником, составление нового устава о воинских преступлениях и наказаниях» [Д.А. Милютин «Воспоминания 1860-1862» М.: Российский архив, 1999, с.244, 270].
Исходя из воспоминаний барона Врангеля, Ивана Горемыкина не следует представлять чрезмерно засушенным бюрократом в качестве вице-губернатора Плоцкой губернии, хотя бы из того, что там он нашёл даму своего сердца, с которой ему будет суждена долгая совместная жизнь на полвека и смерть – в один и тот же час и миг. Супружеская верность и сохраняющаяся на протяжении всей жизни пылкая привязанность к спутнику жизни у Горемыкиных заставляет вспомнить о Государе Николае II и Царице Александре, о генерале Петре Краснове и неразлучной с ним Лидии Фёдоровне, министре Дмитрии Сипягине и княжне Александре Павловне. У всех них прослеживается общий психологический тип.
Чёрствый сухарь не мог бы вызвать к себе сильных чувств, а зародились они в годы службы нашего героя в Польше. В октябре 1864 г. другая дочь Ивана Капгера, Софья, вышла замуж за полковника Н.Н. Медема, который в 1865 г. недолго пробыл Плоцким губернатором, а с 1866 г. стал губернатором Варшавским. По годам службы Ивана Горемыкина следует предположить его знакомство с Александрой Капгер в связи со свадьбой сестры.
После женитьбы Александра Ивановны переехала жить в его усадьбу в село Белое и её супруг оставался на службе в Польше. Из переписки между ними можно увидеть, что это не брак по расчёту и он не вызван родительским принуждением. 19 октября 1869 г., в первом из сохранившихся писем между ними Александра писала: «в пятницу в пять вечера получила твоё дорогое послание, а твои ласки были мне несказанно приятны». «Верю, что Бог нас не оставит и в будущем» … «Какое я тебе скучное письмо пишу, право, даже совестно посылать. Вчера вечером у нас был втроём весьма оживлённый разговор о замужестве, об отношении невесты к жениху, о власти родителей. Маман была противного нас мнения, но под конец разговора нам всё-таки удалось склонить её на нашу сторону. Я стараюсь по мере возможности не горячиться» … «Думаю о Тебе постоянно» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.595 Л.2 об.].
Со стороны левых нигилистов в те же годы звучала совершенно иная критика основополагающих принципов христианского брака, призывающая не «бояться общественного мнения», «давать воли своим влечениям», не связывая себя «перед лицом общества и церкви» [Д.И. Писарев «Сочинения» М.: ГИХЛ, 1955, Т.2, с.40].
До 31 декабря 1869 г. Александра отправила Горемыкину 51 письмо, отвечать удавалось не столь регулярно. Она утешала возлюбленного и заверяла, что не будет сильно скучать, не получая столь же частых ответов: «Друг, не тоскуй», «не утомляй себя, меня это мучает. Ради Бога, подумай о себе», – отправила она 28 ноября 1869 г. из С.-Петербурга. «Никому я всё это не говорю, как Тебе и вообще Ты один только знаешь всё что у меня на душе». Желая перевода мужа поближе к себе, она сообщала об открывшейся вакансии в Пскове и предлагала написать Трепову об этом. «Друг мой родной, делай как Ты думаешь лучше, ты ведь знаешь это лучше, а я вполне и во всём тебе доверяю. Сообщаю тебе это только как рассказываемый мне слух, может быть ещё это не скоро сделается и тогда легко устроится дело».
В письме из С.-Петербурга Александра Ивановна 31 декабря 1869 г. сообщала о посещении мадам Арцимович и долгой с ней беседе. Это подтверждает предложенное определение адресата приведённых ранее черновых писем. «Она мне очень нравится, и мы напоследок поцеловались очень дружески».
В.А. Арцимович характеризовался в юридической литературе человеком решительным и многоумным. Будучи с 1866 г. пятнадцать лет сенатором Уголовного кассационного департамента, он активно поддерживал лучшие стороны судебного порядка [С.К. Гогель «Правительствующий Сенат в XIX столетии. Компетенция. Делопроизводство. Уголовный процесс. Охранение прав личности» СПб.: Сенатская типография, 1911, с.119].
Также, в 1869 г. академик пейзажной живописи Павел Джогин выполнил три картины усадьбы Горемыкиных карандашом. Джогин прославился множеством этюдов из Новгородской губернии.
До встречи Александры с мужем оставалось целых 50 дней. «Это ещё очень много, хотя вообще 50 д. не очень большой срок». «С новым годом, друг мой дорогой, и с старым счастьем, могу сказать что желаю» «только того же счастья». В письме она отправила супругу прядь своих волос.
Тем временем приближался момент рождения их первенца. 1 февраля 1870 г. А.И. Горемыкина писала: «у меня вчера был очень тревожный день». Относительно сроков врач «объявила, что я ошибаюсь, и ошибаюсь на целый месяц». Она была очень взволнована тем, что супруг не сможет присутствовать при родах. Заранее советовалась насчёт намерения «взять ту самую русскую няньку», «говорят она хорошо ходит за маленькими детьми». «Ещё раз умоляю тебя не слишком тревожиться». «Буду писать каждый день хоть несколько слов».
На другой день, 2 февраля обещанные несколько слов были такими: «Маман и Соня друг друга не понимают, о многом говорят, но рассуждения их вовсе не действуют, всё остаётся по-старому и пережёвывается опять и опять».
20 февраля 1870 г. у них родилась дочь Александра. Меж тем, Горемыкину пришлось пережить ещё одну тяжёлую утрату, 11 марта 1870 г. умерла его младшая сестра, Капитолина Логгиновна Фуфаевская, едва успевшая выйти замуж 7 января того же года.
Исследователи замечают, что преимущественно русские чиновники в Царстве Польском заключали браки в течение первых лет службы. Так вышло и с И.Л. Горемыкиным. После рождения детей можно было подать прошение о прибавке 15% к жалованию или о выдаче пособий [«Библиография. Археография. Источниковедение» М.: Старая Басманная, 2017, Вып.3, с.36].
Тогда И.Л. Горемыкин занимался завершением работ по составлению сборника административных распоряжений. Он отлучался на несколько дней в Петербург в связи с появлением на свет дочери, а из-за кончины сестры запросил начальство отлучиться в Новгородскую губернию и Петербург на три недели. Горемыкин, судя по не датированному черновику обращения, решился на просьбу, «чтобы отлучка моя была сопряжена с наименьшим ущербом для моих служебных обязанностей, так как в конце будущего месяца» потребуется «увеличение занятий по поводу рекрутского набора» и введения в действие «административной реформы». «Барон Медем в свою очередь полагает, что я совершу свою поездку с начала будущего месяца по возвращении его из предпринятого им в настоящее время объезда губернии».
Николай Фуфаевский, супруг покойной Капитолины, 5 мая 1870 г. писал И.Л. Горемыкину: «Голубчик мой Ваня, поручение твоё: сделать справку и уведомить Н.А. Фелисова исполнено недели три тому назад, но Фелисов до сих пор ещё не был в Петерб., так что я начинаю думать, что он или болен или моё письмо до него не дошло – почему намерен сегодня написать ещё раз. – Много благодарю тебя и А.И. за портреты, хотя они оба вышли не совсем согласно с натурой». «Тебе надо пополнеть, чтоб ты был совершенно похож, – а в портр. А.И. черты лица вышли грубоватее». «Портрет К. [Капитолины] вышел удовлетворителен насколько можно требовать при снятии с карточки, для этого должен быть совершенно особый аппарат, которого ни один Петербургский фотограф не имеет» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1344 Л.1-2].
В другом письме Н. Фуфаевский писал о страхе за трудные роды Александры, поздравляя с первым появлением дочери. Фразу «обстоятельства жизни превратили меня в пуганую ворону» можно понять, что Капитолина умерла именно от родов.
28 мая 1870 г. А.И. Горемыкина приехала в Варшаву, добираясь к нему: «чувствую себя совсем хорошо, спала отлично, к лекарствам ни разу не прибегала». За собою у вице-губернатора Горемыкина она запрашивала выслать карету.
А.В. Белостоцкий 3 марта 1871 г. приглашал И.Л. Горемыкина «зайти ко мне» в С.-Петербурге для передачи разговоров, по всей видимости, о губернаторских должностях. «Если бы ты пожелал ехать в провинции, то затруднений бы не представилось и даже» «были бы очень рады, но в Петерб. пока есть только должности без содержания».
На время отпуска супруг смог приехать к Александре Ивановне. А 3 апреля 1871 г. «снова для нас настала пора писем» – Иван Логгинович вернулся в Польшу. Александра вдогонку прислала ему 2 мая «целый короб Петербургских историй и сплетен». «Про Муланова рассказывают, что он будет назначен в Рим, но это ещё не верно. Одесская история занимает всех. Государь очень недоволен Коцебу и что приказ где велено было сечь розгами был подписан Алек. Дмитр. Но в скобках прибавлено «по повелению» Коцебу. Возмутительно!». В Одессе жил её брат Михаил Капгер.
Используя свои связи в столице, жена снова и снова пыталась найти супругу более подходящее для совместно семейной жизни место службы. Делала она это осторожно и с разрешения мужа: «напиши мне об этом, иначе меня это будет мучить – ты знаешь как мне больно, если ты чем-нибудь недоволен, но если это так, то не скрывай от меня, а скажи откровенно, оно лучше». Среди тех, кто дружественно интересовался их служебными планами, упоминался Александр Дмитриевич Нератов. А.И. Горемыкина ссылалась на него 20 мая 1871 г.: «если ты в министерстве юстиции тотчас можешь получить лучшее место, то оно выгоднее, если же нет и придётся ждать год, другой, то расчёт иной и лучше остаться. Я с ним согласна». 22 мая она передала не оправдавшиеся слухи, что государственный секретарь А.А. Половцов станет министром юстиции («вот будет хорошо»). Шумахер уходит и назначается сенатором – если речь про директора Хозяйственного департамента МВД А.Д. Шумахера, то он получил назначение в Сенат в 1879-м. Знакомство с петербургскими слухами научило Горемыкина ни во что их не ставить.
23 мая 1871 г. жена уведомила, что их управляющий имением Фелисов «здоров совсем и велик и толст по-прежнему». В связи с отъездом в Царство Польское Горемыкин выдал ему доверенность на принятие дел в имении.
24 мая Александра Ивановна предупредила, что 12 июля Император Александр II будет в Варшаве. 26 мая по пути в Петербург «в вагоне встретили Гурко, который чуть было не навёл на нас тоску, он такой скучный». Письма мужу она посылала каждый день весь май и июнь 1871 г., в них мало политики, в основном про встречи с соседями, это Нератов, Бюнтинги, Дараган, Медем. В ноябре она призналась, что ни за что не променяла бы жизнь в усадьбе на житье в какой-нибудь даче.
На съезде боровичских землевладельцев 30 сентября – 1 октября 1871 г. обнаружилось, что только один И.Л. Горемыкин составил запрошенную у всех записку о имеющейся породе скота и методах разведения. В ней отмечена необходимость скота главным образом для удобрений к производству хлеба, т.к. сбыт молока может покрыть цены на корм только при наличии «значительного центра потребления». Далее Горемыкин подробно описал какая именно разновидность породы наиболее подходит местным климатическим условиям. Выведением её занимался А.А. Сухарев, бывший «попечителем И.Л. Горемыкина». Такой сорт скота существовал также в имениях Л.Л. Кастанды, генерал-адъютанта Лутковского и в имении князей Елисеевых. Съезд под председательством князя А.А. Суворова благодарил И.Л. Горемыкина за составление записки, прочитанной перед собравшимися секретарём съезда К.Ф. Лупандиным [«Земледельческая Газета», 1972, 15 апреля, с.244-245].
В другой подготовленной И.Л. Горемыкиным записке рассматривались условия обработки пашни и её стоимость.
А.В. Белостоцкий 19 февраля 1872 г. писал И.Л. Горемыкину: «я всё надеялся, что получу возможность сообщить тебе что-либо определённое по части реформы судебных установлений в Царстве Польском, но к сожалению в наших государственных сферах медленность образцовая и столь насущный вопрос остаётся целыми годами без разрешения. Разрешения этого вопроса я с нетерпением ожидаю в твоих интересах, ибо думаю, что если ты пожелаешь служить в нашем Министерстве, то всего удобнее тебе было бы устроиться в том управлении, которое вероятно образуется по делам Царства. Если ты желаешь непременно служить в Петербурге, то едва ли можно придумать для тебя что-нибудь лучшее». «По слухам, вопрос о суд. реформе в Царстве будет рассматриваться в Госуд. Сов. не ранее мая – потому распоряжения по введению едва ли начнут ранее конца года». «Ты столько истратил трудов для этого края, что благоразумие требовало бы ещё потерпеть и дождаться какого-нибудь результата» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.409 Л.26-27].
5 июня 1872 г. Белостоцкий написал, что виделся с Александрой Ивановной и узнал что И.Л. Горемыкин приедет в С.-Петербург только в июле. «Существует предположение из нескольких знакомых с привислинским краем лиц образовать отдел, который бы по примеру отдела при МВД по крестьянским делам, под непосредственным руководством Министра занимался введением реформы в Царстве Польском. В числе лиц, которые войдут в этот отдел предусматривается наш общий знакомый Н.Д. Рычков, который много занимался у нас эту зиму и очень хорошо заявил себя. Я думаю, если у тебя желание перейти в наше ведомство, то для начала всего лучше будет поступить в этот отдел, из которого переход на более или менее высшую должность не будет затруднителен. После 15 июня М-вом будет управлять О.В. Эссен, который кажется очень расположен к тебе и потому ты будешь иметь возможность с ним объясниться».
Отто Эссен (1828-1876), сенатор и заместитель министра юстиции, активный сторонник судебных уставов 1864 г.
В ожидании перемен приходилось продолжать терпеть долгие разлуки. 17 июля 1872 г. перед встречей Александра Ивановна послала приветствие: «милый, дорогой Друг мой, сегодня последний раз я пишу тебе несколько словечек – не хочу, не хочу больше писать, – хочу Мушу целовать!». 20 сентября о себе и дочери: «Твои две женщины себя ведут примерно, здоровы и не слишком скучают после Твоего отъезда». 1 декабря 1872 г. у них родилась вторая дочь Татьяна.
С 1869-го до 1873 г. Иван Горемыкин оставался вице-губернатором Келецкой губернии.
Переписка с женой возобновилась 11 января 1873 г. В корреспонденции отмечен траур по смерти Великой Княгини Елены Павловны, сестры Императора Николая I. Известно, что она была близка Н.А. Милютину и использовала своё влияние для поддержки его начинаний [И. Гофштеттер «Забытый государственный человек Николай Алексеевич Милютин» СПб., 1901, с.17]. О её политическом содействии имеется великое множество кратких положительных откликов в мемуарах. Из критических мнений о В.К. Елене Павловне есть весьма редкое суждение, будто, имея хорошие намерения, «на полтинник она правду говорила, а на два рубля врала» [«Тургенев и его современники» Л.: Наука, 1977, с.204].
«Преемники Милютина отличались усердием и вследствие этого усердия в несколько лет разобрали по частям всё воздвигавшееся им строение. Деятельность их рассчитана была на близкое расстояние» [Л. Страшевич «Взгляды Н.А. Милютина на учебное дело в Царстве Польском» СПб., 1897, с.17].
Такой отличительной переменой стал запрет разговоров на польском языке в стенах школы в 1872 г. Эффективность этой меры оспаривалась сторонниками Милютина. Свои наблюдения по этому поводу приводил А.И. Деникин в воспоминаниях «Путь русского офицера».
Среди правых оппонентов Н.А. Милютина можно отметить довольно полезную полемику газеты «Весть» с Ю.Ф. Самариным, чья неразумная типично славянофильская недооценка основных достоинств Российской Империи давала основание обвинять его лично в демократическом цезаризме и ненависти к дворянству, ввиду борьбы Самарина с важнейшим монархическим принципом неравенства [А.Э. Котов «Русский политический предмодерн: забытые «консерваторы» второй половины XIX века» СПб.: Владимир Даль, 2019, с.199].
Из литературных новостей жена И.Л. Горемыкина упомянула рассказ «Конец Чертопханова» из «Записок охотника» Ивана Тургенева. Он вышел в «Вестнике Европы», 1872, №11. Тургенев одно время отгораживался от Герцена и польского восстания, объявлял себя монархистом и оказал влияние на появление серии антинигилистических романов талантливых писателей Всеволода Крестовского, Болеслава Маркевича и др. И.С. Тургенев ввёл в моду использование термина «нигилист» вместо бывшего в ходу до 60-х определения «красный». В 70-е его постепенно стало сменять понятие «социалист».
17 февраля 1873 г. А.В. Белостоцкий написал И.Л. Горемыкину: «Я душевно порадовался, узнав на днях, что ты переходишь на службу в столицу и получаешь хорошую должность».
На финансовые операции Горемыкиных указывает письмо из Ревельского банка насчёт акций.
Именной высочайший указ 20 июня назначил вице-губернатора Горемыкина членом временной комиссии МВД по польским крестьянским делам [«С.-Петербургские Сенатские Ведомости», 1873, №53, с.1].
1 июля 1873 г. супруга писала из с. Белое с расчётом на то что Иван Логгинович едет к Варшаве. За июль сохранилось ещё три письма.
Из Киева Н. Фуфаевский писал 28 июля 1873 г., касаясь вопроса о возможной выгодности вложения средств в ж/д строительство: «Известие о твоём переселении из Польши в Петерб. меня очень обрадовало», «для тебя лично как мне кажется по многим причинам это будет выгоднее». «На желание твоё изложенное в письме, должен тебе сказать, что в настоящее время с явлением на сушу г-а Блиоха», положение дел с ж/д изменяется, «предпринимать что-либо нахожу крайне не рациональным, и мой совет ждать пока всё ясно не обрисуется и тогда уже начать действовать» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1344 Л.5-6].
24 января 1874 г. И.Л. Горемыкину отправили приглашение в Варшаву на праздничный обед в честь 10-летия 19 февраля.
28 августа 1874 г. Александра Ивановна писала, что ждёт возвращения мужа из Варшавы.
Однако 9 сентября 1874 г. И.Л. Горемыкин выступил поручителем при венчании в Преображенском соборе Одессы Михаила Капгера. В следующем году тот станет восприемником при крещении сына Горемыкина, Михаила Ивановича [О.В. Капгер «Род Капгер» СПб.: Роза ветров, 2014, с.267].
В юбилейном издании «LXXV» говорится, что в 1874-м г. было решено сохранить ограниченные права пользования крестьянами не принадлежащими им лесами. «Для собрания по этому предмету сведений и составления этих положений был командирован И.Л. Горемыкин, обозревший до того некоторые лесные хозяйства в Пруссии».
В другой работе Михаил Корнилович относит к 1875 г., помимо обозрения Пруссии, осмотр И.Л. Горемыкиным и польских губерний для установления правил пользования лесами, на какие крестьяне имеют частичные права пользования. Следовало выработать порядок защиты лесов от вырубки при том чтобы не нарушить права крестьян. 31 декабря 1875 г. составленные с этой целью правила были утверждены Императором Александром II. В 1898 г., уже будучи министром, Горемыкин лично будет участвовать в дальнейшей разработке этих правил.
Как можно убедиться, И.Л. Горемыкин был занят деятельным разрешением наиболее актуальных проблем, указываемых современниками, каково общее ослабление нравов, расстройство финансов, не обходя вниманием и «вырубки лесов» [«Дон-Кихот русского монашества. Жизнь и творчество игумена Антония (Бочкова) (1803-1872)» СПб.: Пушкинский Дом, 2010, с.45].
В соответствии с трудами И.Л. Горемыкина был выпущен и Указ 29 декабря 1875 г. об обязательном разверстании состоящих в общем пользовании пастбищ, а также правила о межевании крестьянских земель.
В 1876 г. на И.Л. Горемыкина было возложено наблюдение за введением правил о порядке пользования лесами. Также он выпустил издание правил о порядке утверждения приговоров крестьянских сходов для раздела общинных земель на подворные участки.
1 августа 1876 г. Иван Логгинович получил признание жены: «хорошо понимаю чувство тоски, которая овладела тобой по возвращении в душную петербургскую квартиру» – когда в деревне удивительная погода. «Неудачи сербов меня ужасно печалят, а человеколюбие нашего общества, людей как Самарин, Склифософский и др. меня приводит в восторг».
И.Я. Голубев в письме А.И. Горемыкиной 4 октября 1876 г. упоминает что её муж направился по служебным делам в Польшу. «Теперь газеты более интересны чем когда-либо». Голубев звал неизбежной войну с Турцией. «Не сочтите меня, на основании этого признания, за шовиниста, увлекающегося панславинистическими утопиями» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1498 Л.1-2].
Получив письмо И.Л. Горемыкина из Келеца, 20 октября 1876 г. жена посочувствовала ему: «вижу, что ты очень занят и очень устал», «когда-то закончится эта скучная скучная поездка!».
25 января 1877 г. писала в Варшаве по пути к нему: «в тоску же много ссор и сплетен, а это ужасно». Снова пришлось терпеть разлуку 19 октября: «без тебя на Белой живётся совсем не так приятно, но я так уже привыкла к нашей однообразной жизни, так с нею обжилась».
За ревностную службу 1 января 1878 г. И.Л. Горемыкин пожалован кавалером ордена Св. Станислава 1-й ст.
10 июня 1878 г. Александра Ивановна передавала мужу что увлекается чтением в бессонные ночи, а после отъезда Ивана Логгиновича «на Белой стало гораздо тише».
3 сентября 1878 г. в с. Белое «слава Богу, ничего особенного не имею сообщить Тебе. Все мы здоровы и веселы. Я уже совершенно вошла в старую колею и наше путешествие кажется мне давно минувшим сном. Провожу весь день с детьми, которые милы и ласковы».
В письме за 18 сентября 1878 г. подробнее расписан распорядок семейного быта: «Ты улыбаешься, и скажешь, Ленчик, ты верно днём транжирила своё время, ничего не делала, а теперь говоришь, что тебе не было времени. Как это ни странно, а это всё-таки так. Вот слушай: встаю я в 8 ½ – пью кофе в 9 ½ — хозяйничаю, распоряжаюсь, хлопочу до 11 ч. Тут, присутствовала при уроке детей до 12 ½ — до часу заставляю детей рисовать у меня, в час завтрак – тут идём гулять все вместе и возвращаемся около 4 ч. – в четыре урок музыки – в 5 ч. обед – возня с детьми, кофе, чтение русское детям вслух, — пока они бегают, работа и разговор, — молитва с ними, — от 8 до 9 игра на фортепьянах правильная, каждый день, — чай, заказывание обеда, хозяйство: распоряжения и вот смотришь уже одиннадцать часов. Теперь, муша моя, я вижу что ты уже меньше улыбаешься, а если улыбаешься, то улыбка хорошая» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.595 Л.68-235].
Летом 1879 г. А.И. Горемыкина писала мужу из с. Белое. От 12 августа есть ориентировка на место пребывание: «надеюсь что ты не останешься в Петербурге до среды».
Духовный настрой И.Л. Горемыкина использовать все свои возможности в благих целях сохранился в принадлежащей его перу и скреплённой подписью записке 30 марта 1880 г. в С.-Петербурге: «в Писании сказано: ищите и обрящете, просите – и дастся вам». Сообразно с этим и «мудрость народная говорит» «спрос не беда». «Будьте уверены, я сделаю всё что смогу, чтобы удовлетворить Вашу просьбу. Искренне преданный Вам И. Горемыкин».
Из Минска Н. Петров 27 апреля писал: «благодарю» «за Вашу обо мне память и за дружбу, которую Вы мне оказываете, помогая мне сформировать личный состав моих сослуживцев» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1088 Л.3].
В следующие месяцы от Горемыкина к Петрову приезжали ещё сотрудники, получавшие назначение исправниками.
10 мая 1880 г. А.И. Горемыкина из с. Белое снова просила супруга приезжать к ней скорее, сообщала о здоровье троих детей: «Мишу катают на коляске по зале, чем он очень доволен». 25 мая она же благодарила: «лошадки хоть куда – прелесть, – масть мне очень нравится, и я вполне довольна, и благодарю ещё раз за этот милый подарок».
В 1880 г. Горемыкин участвовал в сенаторской ревизии саратовской и самарской губерний. Горемыкин состоял старшим чиновником при сенаторе Шамшине и занимался исследованием экономического состояния крестьянства и их юридического положения. По результатам ревизии Горемыкиным был составлен подробный отчёт.
Когда Горемыкин стал министром внутренних дел, Иван Иванович Шамшин, следуя специально утверждённому церемониалу, помогал графу Гейдену перевозить большую Императорскую корону из Зимнего дворца к Николаевскому вокзалу при подготовке к Коронации Николая II.
Н. Петров, писавший о дружбе с И.Л. Горемыкиным, 23 сентября 1880 г., беспокоился: «Что же будет с Временной Канцелярией на время Вашего отъезда? Я знаю что наконец-то она замечена» «сравнительно с другими заведениями Министерства».
Сенаторские ревизии 1880-1881, согласно циркуляру МВД, выявили несоответствие исполнения полицейских должностей урядников их замыслу и не удовлетворение потребности охраны порядка. Это было связано с личными недостатками служащих [«Русское Богатство», 1887, ноябрь, с.177]. В данном случае мемуарист не путает, что Шамшин и другие сенаторы ещё и определяли влияние ссылки политических преступников на общественное настроение [С.М. Проппер «То, что не попало в печать» М.: СМЛ-групп, 2024, с.117].
Задачами по части МВД было определить крестьянские настроения, ценить работу земств и их личный состав, рассмотреть санитарные условия городов, положение евреев. По судебном ведомству полагалось расследовать составление суда присяжных, работу адвокатов, порядок исполнения судебных постановлений. М.Т. Лорис-Меликов собирался определить по данным сенаторских ревизий направление дальнейших работ правительственных учреждений и порядок их преобразований [С.С. Татищев «Александр II. Его жизнь и царствование» М.: Эксмо, 2010, с.414-417].
Ревизия просматривала дела губернского правления, собирала статистические сведения об экономическом состоянии, рассматривала сведения о помощи крестьянам, пострадавшим от неурожая. Принимались жалобы на действия мещанских старост и учреждений всех уровней от волостных до губернских. Рассматривались жалобы на медлительность судопроизводства. Ревизии подверглось Самарское губернское присутствие по крестьянским делам и аналогичные уездные присутствия. Сенатор Шамшин задавал вопросы предводителям дворянства, председателям земских уездных управ о работе земских учреждений. Разбирались дела о лихоимстве земцев.
Знание земства изнутри И.Л. Горемыкин почерпнул и от исполнения им самим несколько трёхлетий обязанностей гласного Боровичкого уездного собрания в родной Новгородской губернии.
13 октября 1880 г. А.И. Горемыкина писала мужу: «Ты, друг мой золотой, там впрочем не скучай, я в душе – конечно рада Твоему путешествию». По пути из С.-Петербурга И.Л. Горемыкин должен был побывать в Москве. Супруга рекомендовала ему посетить там в Малом Театре пьесу В.А. Крылова «Дело Плеянова»: «по газетам – это совершенство. Я воображаю, как ты занят, в какой суете». 22 октября А.И. Горемыкина сообщает: «с нетерпением буду ждать письма из Москвы. Хорошо сделал, что взял Кошелева, Тебе удобнее, и спокойнее. Успешному окончанию Твоего ж. дор. дела тоже радуюсь, и надеюсь что эти деньги пойдут, отчасти, на удовольствие Тебе» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.596 Л.25-34].
Отец одного из министров адмирала Колчака, гласный Самарской городской думы и служащий городской Управы, когда шло проектирование железной дороги, старался добиться проведения линии возле своего родного города. По-видимому, рассказ идёт о дороге, строительство которой было начато в 1885 г. «Он поехал в Петербург и там вёл переговоры, но никто не принимал его предложения всерьёз. Ему помог Иван Логгинович Горемыкин, тогда ещё молодой человек. Он отнёсся к проекту отца внимательно и дружески, особенно после того, как увидел, что у отца нет личной выгоды в этом деле. Отец понял, что, на его счастье, он не пытался дать взяток: люди, бравшие деньги, не были способны повлиять на окончательное решение. Вопрос состоял в том, где и как встретить нужных людей. Для создания полезных связей нужны были месяцы, петербургские чиновники неохотно вступали в отношения с чужаками. Горемыкин стал советчиком и помощником отца в этом. Он ввёл отца в дом влиятельного человека и посоветовал принять участие в карточных играх, показать хорошую игру, но в конце проиграть. При этом не рассказывать поначалу о планах, с которыми он приехал в Петербург. Видимо, отец произвёл хорошее впечатление на хозяев, так как они стали его приглашать в дом. Прошло два месяца прежде, чем он познакомился с помощником министра путей сообщения. Тут он раскрыл свои карты и был приглашён для официальной встречи в министерство. Отцу удалось убедить чиновников изменить прежний проект, что и было сделано». В связи с таким поведением Горемыкина и других служащих его круга в семье Неклютина были убеждены, что высшие чиновники Империи честны, старательны, и не подвержены коррупции. Они видели в И.Л. Горемыкине крупные заслуги перед городом и способность «предвидеть события» [К.Н. Неклютин «От Самары до Сиэтла. Воспоминания министра Колчаковского Правительства» Самара, 2011, с.27-29].
Н.Г. Неклютин в 1896 г. будет одним из представителей Самары на Коронации. Его сын, в 1918 г. — председатель самарского союза промышленников, рассчитывая на монархическую реставрацию, дал отличную характеристику эсерам, которые признавали за ним чрезвычайный ум: «мы понимаем разницу между вами и большевиками, но ваша власть, которая нас немного прирежет, но не дорежет, так же нас не успокаивает» [«Гражданская война на Волге» Прага, 1930, Сб.1, с.63].
В РФ господствующее социалистическое направление имеет именно такой эсеровский характер. А сравнительно с честностью И.Л. Горемыкина, коррупционная стоимость допуска к встрече с деятелями из правительства колеблется в размере 150-300 тысяч долларов. Значительно выше цена президента, свои цены есть и у глав регионов. Общий объём коррупции в РФ исчисляется в десятки и даже сотни миллиардов долларов в год [А. Роксборо «Железный Путин: взгляд с Запада» М.: Альпина Бизнес Букс, 2012, с.312]. Для сопоставления разных режимов, на 1995 г. цена встречи с премьер-министром оценивалась всего в 5 тыс. долл. [В. Стрелецкий «Мракобесие» М.: Детектив-пресс, 1998, с.78]. Точно такие же коррупционные системы работают и в современной Англии [«Дилеммы Британии. Поиск путей развития» М.: Весь мир, 2014].
Сравнительно с примером от К.Н. Неклютина совсем другие представления о чиновниках Империи хотят внедрить историки и публикаторы, не желающие вникать в смысл печатаемых ими документов, лишь бы они обличали бюрократию. К примеру, осенью 1890 г. Владимир Крутовский писал Г.Н. Потанину: «не имеете ли Вы, Григорий Николаевич, ходов через кого-нибудь к Горемыкину или Дурново, дабы объяснить им, что за сокровище мы имеем и чем это отразится на Енисейской губернии. Доносы, шпионство, взяточничество – самое отвратительно и страшное покровительство всем кабатчикам, торговцам, полное игнорирование общественного мнения, обделывание личных делишек и устройство своих приятелей удобнее к казённому пирогу – вот теперь программа действия» – обвинял он губернатора Теляковского. Составитель и комментатор считает, что имеется ввиду И.Л. Горемыкин, возглавлявший МВД с 1895 г. В 1890-м же в С.-Петербурге закрыли газету «Восточное обозрение», и сибиряки-автономисты хотели восстановить её в Иркутске, что в итоге удалось. Упоминается, безусловно, генерал-губернатор Восточной Сибири, располагавшийся в Иркутске в 1889-1900 г., Александр Дмитриевич Горемыкин. Дипломат Ю.Я. Соловьёв в мемуарах ошибочно зовёт его братом И.Л. Горемыкина.
Сибирские историки никак не могут вылезти из советских штанишек на лямках: биографы Крутовского без изменений и проверки воспроизводят его ругань по адресу властей, не пытаясь её удостоверить, уточнить, сличить с точкой зрения администрации и красноярских монархистов. Видимо, по причине той же слабой исследовательской инициативности происходит путаница с именем И.Л. Горемыкина. В 1897 г. тот же Крутовский пишет про Горемыкина: «последний, как большая колода, давит всё в Восточной Сибири, и у него, кажется, идеал его деятельности – на десять лет заморозить местную жизнь». А в комментариях к письму той же А.В. Бродневой, инициалы снова проставляются И.Л., даётся отсылка к предыдущему упоминанию Крутовским, но Горемыкин теперь становится генерал-губернатором Восточной Сибири. Форменную необъективность характеристик из переписки Крутовского его биографы замечают в одном лишь случае. 6 апреля 1892 г. он отзывается о корреспонденциях А.П. Чехова: «пошлость и гадость», «бред пьяного человека» [А.В. Броднева «Кто Вы, доктор Крутовский?» Красноярск, 2014, с.41-42, 54].
Сразу становится видно, что отзывы Крутовского о писателе Чехове из-за его публикаций в консервативной печати приблизительно столь же вздорно неуместны, как о губернаторах и чиновниках. Сторонники революционной пропаганды завязли в двойных стандартах, не замечая этого.
3 ноября 1880 г. из письма к Григорьеву А.И. Горемыкина узнала что её супруг уже в Саратове. И.Я Голубев в недатированном письме выражал свою поддержку: «веруя в благотворность предпринимаемой ревизии, я самым искренним образом желаю Вам полного успеха в» «исследовании и в изыскании средств к действительному излечению многих наших болезней».
А.В. Богданович, собиравшая у себя в дневнике наиболее невероятные сплетни и самое наглое злословие, в 1896 г., без указания имени источника, сообщала о министре, будто во время ревизии Шамшина И.Л. Горемыкин «потащил с собой целый арсенал всевозможных флаконов, банок и туалетных аксессуаров» [А.В. Богданович «Три самодержца» М.: Вече, 2008, с.159].
Есть редкое воспоминание о ревизии от графа Анатолия Дмитриевича Нессельроде, относившегося к Горемыкину с предубеждением, обусловленным идеологическими расхождениями. Насколько глубоко они простирались станет ясно, если отметить, что он был масоном, спонсором партии эсеров, вышедшим из русского подданства – полный антипод Горемыкина, все причины для ненависти ясны.
Лорис-Меликов назначил 4 сенаторских расследования: Ковалевского, Половцова, Мордвинова и Шамшина. При Шамшине состояли сотрудниками И.Л. Горемыкин, М.М. Серебряков, К.К. Арсеньев и А.Д. Нессельроде, внук великого канцлера, в скором времени помрачивший память о предке, а пока что – служащий министерства юстиции. Нессельроде на протяжении 14 месяцев почти ежедневно общался с Горемыкиным и он опровергает вымысел Витте, будто Горемыкин бросил либеральные взгляды в 1895 г.:
«Подбородок и губы побриты, длинные бакенбарды начали седеть, и он заботится о них с особенным кокетством. Выглядит как нотариус или старомодный морской офицер. Его водянистые серо-зелёные глаза невыразительны и отражают только довольство и уверенность. Он говорил медленно и холодно, казалось, взвешивая каждое слово, вышедшее из его уст. И то, что он произносил, оказывалось раздражительно банально. Его отрекомендовали И.И. Шамшину через Делянова (будущего графа). Отвечая за ревизию земского самоуправления, он проявил узкие и ретроградные бюрократические склонности. И как все верные монархисты, он был юдофобом».
Несмотря на отпускаемые колкости, за ними можно рассмотреть характерные положительные черты Горемыкина. Нессельроде вспоминает совместные ежедневные обеды у сенатора с саратовским губернатором М. Тимирязевым. Уже тогда сотрудником при Горемыкине стал А.А. Хвостов. Также ассистировал Горемыкину Юрий Владимирович Трубников, будущий член Г. Совета и сенатор при Адмирале Колчаке в Омске.
Хвостов и Трубников разделяли идеи Горемыкина, шокировавшие либералов. Согласно наблюдению Нессельроде, в 1880 г. Горемыкин придерживался ровно тех же «антилиберальных» взглядов, что и затем во главе МВД, когда они снова встретились. Горемыкин убеждённо противопоставлял привязанность Трону и Православию опасным еретическим идеям западных пропагандистов и еврейских революционеров [A. de Nesselrode «Pages de mes souvenirs. I.L. Goremykine» // «La Tribune juive» (Paris), 1922, 22 Decembe, №153. P.2-3].
«Еврейская Трибуна» известна регулярными публикациями клеветнических материалов о русских монархистах. Даже эти воспоминания будто специально приурочены к соседней статье масона Якова Юделевского с ложными тезисами, будто «Протоколы сионских мудрецов» были подделаны Департаментом Полиции, и в 1895 г. их собирался представить Императору Николаю II какой-то министр внутренних дел. Т.е., чуть ни самого Горемыкина пытались подверстать под лживую пропаганду о «Протоколах» и откровения Нессельроде объявились как по заказу.
«Была очень полезна и поучительна издававшаяся в течение нескольких лет после революции «Еврейская Трибуна». К сожалению, евреи спохватились и закрыли этот великолепный рефлектор, освещавший еврейские подкопы» [«Двуглавый Орёл» (Париж), 1929, 12 ноября, №33, с.1583].
По самым точным исследованиям теперь известно, что А.Д. Нессельроде был масоном и в декабре 1918 г. присоединился к эмигрантскому масонскому комитету в Париже [А.И. Серков «История русского масонства. 1845-1945» СПб.: Изд-во им. Новикова, 1997, с.128]. Ранее жандармы отмечали крайне либеральные выступления А.Д. Нессельроде в саратовском дворянском губернском собрании [Л.В. Ульянова «Политическая полиция и либеральное движение» СПб.: Алетейя, 2020, с.211].
Надо полагать, что Горемыкин правильно понимал необходимость ограничения чрезмерной еврейской миграции. Назначенный в декабре 1872 г. членом еврейской комиссии под председательством заместителя министра внутренних князя Лобанова-Ростовского, выдающийся историк В.В. Григорьев утверждал: «вопрос еврейский есть вопрос о возможности самостоятельной русской жизни, или о гибели русского народа», поскольку отмена черты оседлости и повсеместное расселение еврейства угрожает вредными последствиями в экономическом, нравственном и политическом отношении [Н.И. Веселовский «Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам. 1816-1881» СПб.: Издание Императорского Русского Археологического Общества, 1887, с.249].
С такими же актуальными инициативами против опасного и вредного миграционного потопа выступали все наиболее выдающиеся европейские правые политики. М. Тэтчер в 1978 г. говорила: «люди действительно с опасением наблюдают, как страна наполняется выходцами из иной культуры». «Мы должны открыто рассмотреть вопрос о прекращении иммиграции» [Жан Луи Тьерио «Маргарет Тэтчер» М.: Молодая гвардия, 2010, с.215].
Русские монархисты поднимали вопрос об опасности любой существенной миграции независимо от определённой этнической разновидности. К примеру, в Союзе Русского Народа Н.Е. Марков обращал внимание на число привлекаемых к работам китайцев и корейцев на Дальнем Востоке.
В правой газете со ссылкой на сравнительно достоверное немецкое католическое издание утверждали, будто Горемыкин «считается откровенно антигерманским и антисемитским» [«La Libre Parole» (Paris), 1895, 7 novembre, p.1].
Во французской прессе можно найти попытки разобраться в личности Горемыкина путём сопоставления противоположных суждений о нём. Не подписанная статья «Министерство Горемыкина» стремится объяснить, почему именно он неожиданно для многих заменил Витте и возглавил правительство. С одной стороны, Горемыкина клеймят как типичного русского бюрократа, лодыря, искателя удовольствий. Таким его представляли враждебные России газеты в Австро-Венгрии. В Вене уверяли, будто Николай II сделал худший выбор. Однако те кто обращает внимание на реальную карьеру Горемыкина, указывали на другую сторону: не будучи либералом, Горемыкин написал «блестящие» юридические исследования. «Замечательный» отчёт, приготовленный им в результате ревизии сенатора Шамшина, «поставил его в центр внимания» [«Le Temps» (Paris), 1906, 6 mai].
В статье особо подчёркивается, что непубличный характер государственной службы Горемыкина не позволяет судить его, поскольку для вынесения определённого приговора его критики не имеют никаких данных.
Как говорится в духовной литературе про подобное злоречивое изобилие лжи, «многословие требует клеветы» [«Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого Афонского» СПб.: Воскресенie, 2000, с.103].
В декабре 1880 г., ближе к Рождеству, И.Л. Горемыкин приезжал в С.-Петербург, его жена радовалась 14 декабря: «главное что скоро, скоро ты будешь здесь. Все ожидают тебя с нетерпением». В семейной переписке упомянуты её встречи с Лукояновым, Евреиновым, Ковалевским, Гартманом и др. «Дорогой мой, приезжай скорее на Фурштат., тогда будет хорошо». Несколько следующих лет Горемыкин продолжал жить в собственном доме на Фурштатской, 50.
Вскоре после Нового года им снова пришлось разъехаться. 29 января 1881 г. в С.-Петербург И.Л. Горемыкин прислал свой портрет и письмо через Г.А. Гревеница. По мнению жены, «карточка весьма недурная, только немного слишком в профиль». «В такой форме никто никогда тебя не видел, и Николай даже не узнал барина в эполетах». Относительно карьерных перспектив, А.И. Горемыкина в том же письме передала сообщение близкого друга их семьи, А. Нератова, относительно предложения Мосолова, явившегося к нему от имени министра Льва Макова. Мосолов предлагал И.Л. Горемыкину «вице-директорство» (в МВД Л.С. Макова), с тем чтобы немедленно принять эту должность, «не окончив ревизии». А. Нератов сразу же за И.Л. Горемыкина отказался от такого предложения, не считая нужным даже тратиться на запрос в Саратов: «быть в зависимом положении, из 4 переходить в 5 кл., бросив ревизию, всё это теперь не время». «Он уверен что Ты не будешь недоволен его ответом».
Всё это едва ли даёт основание относить И.Л. Горемыкина непосредственно к команде М.Т. Лорис-Меликова. Но интересно что уже при Императоре Александре II И.Л. Горемыкин лично стал известен самым высокопоставленным министрам.
Дочь Горемыкина Татьяна 1 февраля писала ему: «была свадьба и Саша Нератов нёс образ». «Сегодня мы приглашены к Мирским». 15 февраля Татьяна добавила красочную деталь: «волков так много, что они гуляют по саду» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.643 Л.5об.-9об.].
В феврале И.Л. Горемыкин располагался не в Саратове, как ранее, а в Сердобске, вернулся в Саратов в марте.
Катастрофа 1 марта 1881 г. отражена в письме А.И. Горемыкиной мужу из С.-Петербурга, на следующий день: «Отчаяние, ужас, смятение наполняют душу в ту минуту». «Да ужас! ужас! ужас! слов нет, чтобы выразить все чувства от впечатления, которые все, все переживают со вчерашнего дня! Тяжкий гнёт камнем лежит на сердце – всё это произошло так скоро, так неожиданно, так бесчеловечно! Узнали мы страшную весть полчаса после происшествия».
И.И. Шамшин в 6.45 утра 2 марта из Саратова отправил телеграмму И.Л. Горемыкину в Балашов, сообщив о покушении «посредством подброшенных под экипаж разрывных бомб. В три часа 35 минут Его Величество в Бозе почил».
Т.И. Горемыкина писала 15 марта: «На месте где убили Государя, сделана из цветов часовня, в двери висит образ Божьей Матери; там висят короны, кресты и ветки из цветов. Мария Фёдоровна была вчера в крепости посмотреть на покойника».
В следующем месяце они повидались, а 29 апреля повторяется сожаление Александры Ивановны о вынужденной разлуке: «снова начинается корреспонденция». 1 мая она получила первое письмо И.Л. Горемыкина из Самары.
Из Петербурга Горемыкину 1 мая отправили весть, что Лорис-Меликов подал в отставку и его просьба уже принята. «Кто его заменит пока неизвестно, но поговаривают о том, что Игнатьев. Со вчерашнего дня Абаза бывал и тоже подал просьбу об увольнении», вместо него с докладом отправился Бунге. «Говорят, что Лорис уезжает на днях за границу» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.61-62].
Помимо того, из Саратова Горемыкин получил уведомление от своего сотрудника, что его ждут там «для разговоров по городским делам. Материалы по ревизии Гор. управы собраны и готовы для передачи Вам». Горемыкин переслал в Саратов объяснения управ, которые его корреспондент назвал канцелярскими отписками, от бесполезности которых «все мы так жаждем избавиться». К июньскому приезду Горемыкина в Саратов готовились справки по поводу этих объяснений.
Татьяна Ивановна писала 3 мая 1881 г. про брата: «Миша был очень болен, но теперь ему лучше». «Мама отдала в наём Канюгины». «Желаю тебе благословение и защищение Господа Бога».
Обе дочери И.Л. Горемыкина, Александра и Татьяна, обучались в каком-то брюссельском пансионе. Татьяна в какой-то момент заслужила звание первой ученицы по древней истории. И.Я. Голубев писал: «Вашим дочерям суждено упрочить в Бельгии более справедливое мнение о России и Русских» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1498 Л.49].
А.В. Белостоцкий 4 мая в письме сообщил о переменах в правительстве, которые состоялись, но ещё не опубликованы официально: «Вместо Лориса назначен Игнатьев, а вместо последнего – Островский. Вопрос об отставке Абазы ещё не разрешён, и как говорят, он остаётся до окончания сессии Г. Совета 15 мая и в преемники ему называют Бунге». «Завтра, как ходит слух, подаёт в отставку Милютин. О Каханове говорят также что он остаётся только на самое короткое время».
В бумагах И.Л. Горемыкина есть датированный 23 мая 1881 г. памятный листок с записью: «вопрос об увольнении Каханова от должности товарища Министра ещё не разрешён, хотя преемником его называют уже Гейнса. Директором Департамента Общих Дел предназначается староста Исаакиевского собора Богданович» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1440 Л.8].
Горемыкин мог соприкасаться с выпускником Училища Правоведения М.С. Кахановым когда тот был псковским губернатором в 1868-1872 годах. С августа 1880 г. Каханов являлся заместителем Лорис-Меликова. В качестве кандидата упомянут, по-видимому, генерал Александр Константинович Гейнс, который в 1863 г. руководил разгромом польских мятежников при Калише. С сентября 1878 г. Гейнс – Одесский градоначальник, причислен к МВД, с ноября 1880 г. – Казанский губернатор. Его назначение на указанную должность не состоялось.
В письме от 28 мая 1881 г. А.И. Горемыкина из Приютино передавала министерские слухи насчёт возможного назначения Воейкова, которого Иван Логгинович ранее встречал у А. Нератова. 6 июня Александра Ивановна написала: «в минист. называют уже нового кандидата на тов. мин.: Дмитрия Самарина», «место Воейкова по земскому отделу пока только предположение».
Результаты ревизии И.Л. Горемыкин изложил в записке, положенной в основу дальнейших работ Земского отдела МВД. За эту работу он получил орден Св. Анны 1-й ст.
28 декабря 1881 г. вышло «Положение о выкупе наделов в помещичьих имениях губерний великоросских и малорусских». Со следующего года Горемыкин вошёл в состав комиссии, занимавшейся выработкой правил в развитие этого положения.
В газетах печатали уведомление о производстве члена временной комиссии по крестьянским делам губерний Царства Польского И.Л. Горемыкина в чин тайного советника [«Харьковские Губернские Ведомости», 1882, 1 февраля, с.2].
Осенью 1882 г. вышли правила, способствующие приобретению недвижимой собственности или аренды земель в северо-западном крае: в Ковенской, Виленской и Гродненской губерниях. Эти правила предназначались для многочисленной шляхты, не сумевшей доказать своё дворянство и платившей помещикам за пользование их землёй.
27 декабря 1882 г. И.И. Шамшин писал что во время встречи с И.Л. Горемыкиным в С.-Петербурге забыл спросить об «окончании известного Вам дела князя Щербатова с его крестьянами. Вы знаете это дело лучше, чем я, знаете князя Щербатова». «Что же касается до других пробелов в нашем разговоре», «то их осталось так много, что их нельзя заменить письмом». Шамшин писал что дорожит Горемыкиным и привязан к нему.
В январе-феврале 1883 г. супруга И.Л. Горемыкина писала ему из Брюсселя, в мае она уже вернулась в с. Белое.
И.И. Шамшину И.Л. Горемыкин сообщил об окончании упомянутого дела князя Щербатова. 19 января Шамшин продолжал благодарить его: «я конечно не забуду ни оказанной мне Вами услуги, ни доброго участия, которое Вы не раз во мне принимали, ни Вашей доброты, ни того, что даже в тех случаях, когда происходила какая-нибудь неизбежная шороховатость, отношения с Вами не переставали быть приятными». Шамшин спрашивал о положении в Сенате: «В чём дело? Почему Д.Н. Набоков не держит своё обещание? и когда он его сдержит».
3 февраля Горемыкина уведомили, что всеподданнейший доклад о его отпуске представлен к разрешению, но министр не ездил лично к Александру III, а послал записки, которые вернутся с резолюциями сегодня. Ожидалось, что к заграничному выезду Горемыкина нет препятствий.
Из письма Шамшина от 27 февраля следует, что И.Л. Горемыкин выехал за границу на отдых, что огорчило князя Щербатова, который хотел поблагодарить его в С.-Петербурге. Оба корреспондента продолжали ставить между собой задачи общего улучшения крестьянского строя и устранения революционных угроз. Шамшин писал о наблюдаемой им в деревне, как и по делу Щербатова, вражде «не к разорителю и угнетателю лично, а к тому, кто имеет ещё остатки собственности, немножко развивается, как плод существующего строя вещей», что может перейти «во вражду к порядку. Но остановить её можно лишь в зародыше. Два министра, один за другим, видели для этого только одно пресловутое средство – конституцию. Третий, кажется, не считает необходимым никакие средства». Шашмин имеет ввиду последних управителей МВД М.Т. Лорис-Меликова, Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого (1882-1889). «Я часто вспоминаю о Ваших добрых отношениях ко мне во время ревизии и незачем прибавлять, что вспоминаю о них с большою к Вам благодарностью. Между строками Вашего письма звучат эти добрые отношения».
Сблизившийся с И.Л. Горемыкиным И.И. Шамшин может считаться его единомышленником. Показательно общее их отвержение бесполезных конституционных химер, а также основанное на долгой совместной работе восприятие И.Л. Горемыкина как самого инициативного политика, а не инертного, лично занятого самыми важными вопросами крестьянского устроения. По воспоминаниям графа И.И. Толстого, Шамшин, помногу выступавший в Г. Совете, придерживался очень консервативных, т.е. крайне правых взглядов [И.И. Толстой «Мемуары» М.: Индрик, 2002, с.238].
Шамшин далее писал 6 июня, что во время Коронации в Москве «свидания ограничивались мимоходными встречами». «Когда Вы переезжаете в Петербург? Состоялось ли Ваше назначение? Предложил ли Вам Грот своего товарища?». «Приняли ли Вы предложение Грота?».
Горемыкин 15 июня 1883 г. вошёл в состав Консультации при министерстве юстиции и принял обязанности заместителя обер-прокурора отделения по крестьянским делам 1-го департамента Сената.. 17 июля он получил и официальную должность Горемыкин зам. обер-прокурора. Следует думать, это и есть исполнение обещания министра юстиции.
27 октября 1883 г. Александра Ивановна просила мужа привезти из С.-Петербурга в подарок сыну «маленький ящик с красками», тетрадку для раскрашивания. «Ещё прошу несколько стёкол для ламп с двойными фитилями. Все сломаны» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.597 Л.39].
В печати появлялись упоминания о выделении крестьянского департамента из состава 1-го Департамента Сената в самостоятельное учреждение, и о назначении И.Л. Горемыкина обер-прокурором 1-го Департамента [«Харьковские Губернские Ведомости», 1883, 29 октября, с.3].
Сенатор И.И. Шамшин 12 декабря 1883 г. писал И.Л. Горемыкину: «из газет я знаю, что дело образования Вашего отделения Первого Департамента идёт вперёд. Будет ли оно решено к первому январю? Я с большим нетерпением жду, когда Ваше служебное положение примет определённый характер. Будете отвечать мне, напишите подробнее, как и на что можно рассчитывать. Особенно подробно расскажите мне, как Вы поживаете» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1384 Л.2об].
29 января 1884 г. А.И. Горемыкина снова писала из с. Белое: «в усадьбе и в доме всё благополучно, всё тихо и мирно».
С 1 февраля 1884 по 1891-й И.Л. Горемыкин служил обер-прокурором 2-го департамента Сената, называемого крестьянским. В обязанности департамента входило толкование законов по крестьянскому праву, определение правильности применения законов, слежение за соблюдением положенных пределов власти правительственных учреждений. Рассмотрению в департаменте подлежали дела по представлению министров и губернских присутствий, жалобы на постановления губернских землеустроительных комиссий, споры о приобретении земель в собственность.
Определяя порядок пользования крестьянами землёй, 2-й департамент во главе с Горемыкиным считал за собственника подворного участка не одного домохозяина, как это было до 1880-х, но совокупность лиц крестьянской семьи. Этот момент используется для превратных либеральных спекуляций относительно отсутствия у крестьян частной собственности. Особо запутавшиеся неразборчивые критики Русской Императорской политики говорят даже об отсутствии крестьян собственности как таковой.
Действительно, для полного единоличного владения следовало полностью завершить выплату выкупных платежей, запланированных до 1911 г. и отменённых за несколько лет с опережением времени. Но в сути подворного владения определения департамента Горемыкина за 1885-86 г. ничего не изменили. Как и прежде, домохозяин оставался единоличным распорядителем в родственном подворном союзе, он один заключал сделки по ведению хозяйства, принимал решения о характере использования земли и даже единолично мог отдать землю в аренду без согласия семьи. Сенат лишь не позволял продажу или изъятие надела, защищая крестьянское сословие и предотвращая опасность обезземеливания [Л.А. Кассо «Русское поземельное право» М.: Кн. маг. И.К. Голубева, 1906, с.189-190].
Либеральные критики видят проблему даже не на пустом месте несоответствия отвлечённой теории, а в самых положительных актах в пользу крестьянства, к каким имел прямое отношение И.Л. Горемыкин.
Склонный к такой шаблонной демагогии Экштут умудрился обличить распространённый факт, когда крестьяне «были убеждены, что в неурожайный год барин обязан безвозмездно раздавать им хлеб из господских амбаров, и не мыслили своего существования без отеческого попечения собственного господина» [С.А. Экштут «Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ до Серебряного века» М.: Молодая гвардия, 2012, с.50].
Ф. Энгельс в «Происхождении» возмущался аналогичными воззрениями европейских крестьян. Но так и происходило, помещик «был истинным благодетелем дальних и близких». «Полные амбары дедушки были открыты всем – бери, что угодно», «раздавал дедушка щедрою рукой хлебные запасы на семены» [С.Т. Аксаков «Избранные сочинения» М.: Современник, 1982, с.36]. Ю. Самарин, подготавливая отмену крепостного права, в 1859 г. в письме В. Черкасскому назвал существующей общей обязанностью помещиков оказывать помощь крестьянам [«Россия сельская. XIX — начало XX века» М.: РОССПЭН, 2004, с.88]. П.В. Киреевский в неурожайный 1840 г. раздал все свои запасы в амбарах своим крестьянам и чужим из соседних сёл, а позднее высказывал опасение, что раскрепощение крестьян избавит помещиков от хлопот за них [М.О. Гершензон «Избранное» М.: Университетская книга, 2000, Т.3, с.111-112].
Любая интеллектуально сильная власть и придерживающиеся нравственных принципов владельцы крупных капиталов занимаются помощью пострадавшим от бедствий. Это самое положительное явление и факты попечительной заботы дворянства являются великой гордостью национальной культуры и истории. Но для антирусской интеллигенции это всё позор и угнетение. С тем же успехом можно видеть рабскую психологию в страховых компаниях, в получении государственных выплат нуждающимся и всей частной благотворительности.
Возникновение большого числа бездомных является следствием отсутствия подобного законодательства, какое, не снимая с людей долговых обязательств, не лишало бы их источника дохода, каким служит имущество. К тому же, и при наличии важных официальных частнособственнических прав, практика семейных отношений подразумевает совместное владение, что зачастую имеет полное юридическое закрепление. Современный экономический мир по-прежнему полон примерами эффективного владения собственностью организованных групп лиц типа акционерных обществ, но недалёкие критики общины не в состоянии проводить параллелей и замечать суть явлений. Необходимо всё разнообразие форм собственности, каждая из которых исполняет выделенную ей роль, без подмены не свойственных функций.
Как правило, критика подворного и общинного владения поразительно малосообразительна и показывает, с какими негодными средствами противники монархического строя и капиталистического развития подходили к разрушению Российской Империи и теперь обосновывают закономерности революционного безумия для оправдания собственных ложных идей и представлений.
Такие же подходы мы встретим потом в оценке Японской войны 1904 г. и Великой войны 1914 г., какие заведомо ложно перетолковывались согласно необходимости обвинить монархическую власть во всех грехах и тем облегчить её свержение. Эта традиция восходит к чудовищному вздору о Крымской войне 1854 г., когда были «намерения неприятеля» «не раз высказаны, взять Анапу и Новороссийск» [«Рескрипты и письма Императора Николая I к князю Меншикову во время Севастопольской обороны» СПб.: Бережливость, 1908, с.23].
Хотя противники потерпели неудачу, не достигнув никаких значимых целей, антимонархическая пропаганда превратила несомненные достижения Российской Империи в доказательства её полной негодности. Особо рьяные революционные идеологи, как Н.Г. Чернышевский в романе «Пролог», договорись до того, что неспособность вражеских сил захватить Севастополь – всё равно, что взятие ими Москвы и С.-Петербурга.
8 февраля 1884 г. И.И. Шамшин поздравил И.Л. Горемыкина с назначением обер-прокурора 2-го Департамента Сената: «чрезвычайно рад, что это дело, тянувшееся так долго, пришло к концу». Шамшин надеялся, что теперь Горемыкин сможет «привести все свои личные предположения в исполнение наилучшим образом».
В посвящённых Горемыкину публикациях сообщалось, что он возвысился благодаря «репутации неутомимого работника» и стойкости убеждений, а во главе 2-го департамента Горемыкин приобрёл «глубокие и разнообразные познания сельской жизни» [«Альманах современных русских государственных деятелей» СПб.: Тип. И. Гольденберга, 1897, с.148].
В переписке Шамшин затрагивал также разработку проектов городского управления, народного образования. Упоминается взаимодействие И.Л. Горемыкина с министром юстиции Д.Н. Набоковым (1878-1885).
1 января 1885 г. И.Л. Горемыкин награждён орденом Св. Владимира 2-й ст.
В издании к 75-летию Горемыкина упоминается, что в 1885 г. он работал в особой комиссии для разработки мер прекращения наплыва «иностранцев в западные окраины».
В начале июля 1885 г. супруга три дня подряд отправляла И.Л. Горемыкину телеграммы о состоянии здоровья дочери Татьяны, отмечая падение температуры. «Тане лучше, спала спокойно. Кори нет. Приезжать нет надобности».
Князь И.Н. Святополк-Мирский 13 октября 1886 г. написал И.Л. Горемыкину, своему соседу: «желаю помочь погорельцам», крестьянам дер. Святицы, «посылаю для раздачи 53 семействам 4000 р.». «Вы конечно лучше знаете как это устроить; Вам и книги в руки, т.е. не книги, а деньги, которые при сём прилагаю» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1181 Л.35].
3 декабря 1886 г. В.К. Плеве уведомлял насчёт времени встречи с И.Л. Горемыкиным, намеченной на послезавтра [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1100 Л.1].
И.И. Шамшин 24 декабря 1886 г. прислал И.Л. Горемыкину свой проект Межевого устава, рассчитывая «при наших отношениях» на откровенный отзыв и самые строгие замечания: «я особенно дорожу Вашим приговором. Простите что навязываю Вам труд. Вы сами меня избаловали своим дружеским ко мне отношением».
15 июня 1887 г. И.И. Шамшин пригласил И.Л. Горемыкина на общий обед в понедельник с А.А. Хвостовым и Г.А. Гревеницем – участниками сблизившей их самарской ревизии. Пред тем «мне так было досадно, что в пятницу мы обменялись неудавшимися визитами» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1384 Л.6].
В 1888 г. Горемыкин работал в комиссии В.К. Плеве, рассматривавшей меры к сохранению за крестьянами их земель, для предупреждения отчуждения.
В 1889 г. И.Л. Горемыкин выпустил «Сборник решений Правительствующего Сената по крестьянским делам».
Как явствует из имеющихся воспоминаний, хорошее знание законодательства требовалось каждому губернатору на ежедневных приёмах ходатайств крестьян по земельным делам. Ввиду доступности высокого начальства, крестьяне предпочитали обращаться к ним, а не только в соответствующие учреждения.
Продолжая разработку темы, к началу 1891 г. И.Л. Горемыкин подготовил к изданию огромный трёхтомный труд с внушительным заглавием «Свод распоряжений и узаконений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам с воспоследовавшими к ним разъяснениями, содержащимися в решениях Правительствующего Сената и в постановлениях и распоряжениях высших правительственных учреждений». Горемыкин выступил не только составителем, но и издателем этого труда. Впервые он был напечатан тиражом в 3500 экз., к 1903 г. вышло уже 5-е дополненное издание, ввиду его чрезвычайной востребованности в Российской Империи,
Горемыкин сумел не только продвинуться на государственной стезе, но и прилично заработать на этой частной инициативе, повсюду создать себе имя и репутацию. Его устремлённость к взятию первых высот своей специализации схоже с тем, чего достиг К.П. Победоносцев с трёхтомным «Курсом гражданского права», Н.П. Боголепов с «Учебником истории римского права», Л.А. Кассо с книгами о византийском и остзейском праве, многие другие министры Александра III и Николая II, являвшие интеллектуальную элиту Империи.
Первоначально издательское предприятие Горемыкина потребовало денежных вложений. Заведующий работами в Государственной Типографии С. Стецовский писал 23 ноября 1890 г., что фабриканту надо ссудить за бумагу для издания 1000 руб., остальную сумму – по завершении печати. Работа корректора обошлась в 150 руб. 26 ноября Стецовский получил их от Горемыкина. 19 февраля 1891 г. корректор Залевский получил ещё 96 руб. за остальные листы Т.1 «Свода» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.91 Л.1].
Первую половину 90-х Горемыкин проживал на Эртелевом переулке, 5.
4 января 1891 г. И.Я. Голубев, продолжавший поддерживать контакт с И.Л. Горемыкиным, благодарил его за исполненную просьбу, переданное письмо Н.Н. Медема.
Скончавшегося заместителя Манасеина А.Т. Аракина 17 июня похоронили на кладбище Александро-Невской лавры. И.Л. Горемыкин провожал покойного от его квартиры среди других высших чинов министерства [«Петербургский Листок», 1891, №164, с.3].
М.Л. Казем-Бек писала в 1890 г. что Д.Н. Набоков возмущался назначением Аракина, ибо он низкого происхождения. Но про Манасеина говорили, что чем менее знатного происхождения его сотрудник, «тем больше шансов попасть на высшие места». Совершенно неверно такую практику звали демократической. Признание талантов, способных по уму и трудоспособности конкурировать с выдвиженцами из элиты – достоинство монархического принципа. Именно так сама знать и формируется, из доподлинно лучших людей. Понятие черни при этом должно иметь не демократический, а черносотенный смысл.
Киевский, подольский и волынский генерал-губернатор А.П. Игнатьев писал, что 9 сентября 1891 г. получил II тома изданного Свода узаконений.
Не так давно, в 1890 г. по С.-Петербургу ходили слухи об ожидаемом назначении А.П. Игнатьева министром внутренних дел, но его не произошло [«Неизвестные страницы отечественного востоковедения» М.: Леланд, 2014, Вып.IV, с.199].
Достоинства И.Л. Горемыкина хорошо видели те, кто выдвигал его наверх. Министр юстиции Н.А. Манасеин 25 сентября 1891 г. советовался с К.П. Победоносцевым относительно подбора себе заместителя на место скончавшегося А.Т. Аракина, выпускника Училища Правоведения, специалиста по крестьянским и поземельным делам.
Кандидатами Манасеин называл сенатора И.Я. Голубева, обер-прокурора первого департамента сената П.М. Бутовского и обер-прокурора второго департамента И.Л. Горемыкина. «Горемыкин – загадка, сфинкс в некотором роде; лично я его очень мало знаю; при деловых разговорах объясняется толково, хотя вяло и скучновато; молчать и слушать он умеет хорошо; отзывы о нём очень различны: одни говорят, что он умный человек, другие, что за его молчаливостью скрывается простая глупость, и сходятся только в том, что он морально вполне порядочный человек; познания и служебная опытность у него должны иметься в достаточной степени…» [«К.П. Победоносцев и его корреспонденты» Минск: Харвест, 2003, Т.II, с.516].
Двух других названных кандидатов министр считал недостаточно знающими и надёжными. Горемыкин сильно выделялся своей молчаливой серьёзностью, которую уже тогда его оппоненты стали толковать как лично им будет выгодно, вне зависимости от того, каким Горемыкин был настоящий. В характеристике Манасеина весь секрет монархической карьеры Горемыкина – в Империи ценились в первую очередь честность и умения, а в последнюю – умение задвигать речи.
В 1885 г. сфинксом назвал в письме Императору Александру III Владимир Мещерский – Вячеслава Плеве, ещё одного талантливого и энергичного чиновника. Как видно, титул сфинкса получали самые многообещающие и умные личности, но использования его не указывают на близость с аттестуемыми авторов осторожной похвалы. В той же переписке министр юстиции Манасеин характеризовался Мещерским как «умный, но безмерно страстный», подверженный влиянию Победоносцева.
И.И. Шамшин, осведомлённый о рассмотрении кандидатуры, спрашивал И.Л. Горемыкина 24 октября: «устроится ли наконец Ваше служебное положение в Министерстве Юстиции».
Лица, знавшие положение дел в министерстве, оказались очень довольны назначением И.Л. Горемыкина, как видно по записи 27 ноября 1891 г.: «это лучший из всех предполагавшихся кандидатов, и все очень рады!». Манасеин представил Александру III список претендентов, не выделив никого из них, так что Царь сделал выбор самостоятельно [М.Л. Казем-Бек «Дневники» М.: Сретенский монастырь, 2016, с.140-141].
Д.с.с. А.А. Казем-Бек служил в это время управляющим канцелярии министерства.
Супруга, А.И. Горемыкина, в эти дни находилась в Варшаве.
В отличие от того что можно вообразить насчёт его молчаливости, в качестве заместителя министра юстиции с 24 ноября 1891 г. И.Л. Горемыкин не плыл по течению и не ориентировался на преобладающие мнения, отстаивая свои позиции при необходимости. Это касалось других проектов железнодорожного строительства, помимо описанного Неклютиным. 3 января 1892 г. Владимир Ламздорф записал, что в Г. Совете при обсуждении проекта министерства финансов по строительству Рязанско-Козловской железной дороге, «Горемыкин проявил больше независимости, нежели наш» заместитель министра иностранных дел, «и признался Гирсу, что он голосовал с меньшинством против» [В.Н. Ламздорф «Дневник 1891-1892» Минск: Харвест, 2003, с.255].
Немаловажно заметить, что директором железнодорожного департамента министерства финансов на то время являлся С.Ю. Витте, а значит его первые трения с И.Л. Горемыкиным начались тогда – чего он сам в мемуарах раскрывать не пожелал, а историки не обратили на это внимания. В феврале 1892 г. Витте стал министром путей сообщения. Соперничество Горемыкина и Витте по мере восхождения их на самые значимые посты в Империи станет косвенно влиять на принятие политических решений, определяющих направления путей развития России.
Поскольку Цесаревич Николай Александрович с 1891 г. возглавлял железнодорожный комитет, то в нём должно было состояться знакомство Ивана Горемыкина с будущим Императором Николаем II, который получил возможность оценить достоинства сановника. Наряду со сходимостью на деловой и культурной почве, уже на то время вполне могла проявиться их психологическая совместимость.
Великий Князь Константин Константинович, служа вместе с Цесаревичем в Преображенском полку, 7 января 1894 г. писал о нём в дневнике: «Ники со всеми одинаково учтив, любезен и приветлив; сдержанность, которая у него в нраве, выручает его. Не было ни одной неприятности, страсти не разжигались, незаметно было ни зависти, ни старания подслужиться, всё шло самым мирным и приятным образом» [«Император Николай II. Тайны Российского Императорского двора» М.: АСТ, 2013, с.175].
Усидчивость и упорство, вежливая уравновешенность Цесаревича напоминают о точно тех же качествах И.Л. Горемыкина, его трудолюбии, способности гасить конфликты, налаживать деловую работу и создавать благоприятный эмоциональный фон.
Владимир Гурко так описывал Горемыкина: «силой воли и упорством он, несомненно, обладал. Хорошо знакомый с техникой административного управления, он умел заставлять своих многочисленных подчинённых вполне точно исполнять сделанные им распоряжения и вообще согласовывать свой образ действий с данными им указаниями. Сам он всегда знал, чего хотел, и к намеченной цели шёл осторожными, тихими, но верными шагами. Приступая к всякому действию неохотно и лишь после всестороннего его обдумания, он, остановившись на каком-либо решении, уже не испытывал колебаний и проводил его без всякой горячности, но решительно и настойчиво. При этом он не терял хладнокровия и самообладания ни при каких обстоятельствах» [«Английская набережная, 4» СПб.: Лики России, 2004, Вып.4, с.317].
Воспоминания о заместителе министра юстиции крайне обрывочны. Алексей Ознобишин, служивший тогда в уголовном отделении, в эмиграции напишет про Брянцова, переписчика шедших к Александру III черновых докладов. Как-то раз он допустил ошибку и пропустил строку о лишении особенных, а не всех прав. Ошибку обнаружили только после наложения царской резолюции. «Переполох получился страшный». Нагоняй пошёл от Манасеина к Горемыкину, затем к директору департамента, начальнику отделения, и постепенно добрался до переписчика.
Сколько бы современные либеральные пропагандисты ни выдумывали на пустом месте чепуху, за неимением ничего другого, про пренебрежение монархической бюрократии к “человеку”, все такие примеры указывают на весьма ответственное и чуткое отношение к каждой рассматриваемой служащими персоне, насколько оно в принципе возможно при обилии дел.
Левые писатели, противники положительного принципа монархического неравенства, им недовольны, однако признают самое важное достоинство, что законодательство Империи «позволяло всем подданным» «предъявлять государству претензии, ссылаясь на существующие» юридические правила [Е.М. Аврутин «Велижское дело» СПб.: БиблиоРоссика, 2020, с.154].
М.И. Горемыкин в январе 1892 г. поступил в приготовительный класс Александровского лицея [«Императорский Александровский Лицей» М.: Старая Басманная, 2019].
В ночь с 24 на 25 января министр Манасеин написал: «Душевноуважаемый Иван Логгинович, потрудитесь прислать мне теперь же бумаги по Городовому Положению; я поеду в заседание сам» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.949 Л.7].
На 26 января Манасеин внезапно прислал 4 дела, по которым просил «отсидеть» в соединённых департаментах Г. Совета. «Дела же все так незначительны, что особого приготовления по ним не требуется, – хотя самое «сидение» отнимет времени всё-таки не мало. – Вчера нас Перетц продержал почти до половины шестого и мы остановились на ст. 11-й. Город. Положения».
После того как командированный в Тобольскую губернию сенатор, генерал-лейтенант кн. Голицын, получил для устройства продовольственной части права генерал-губернатора и официальную возможность «объявлять в чрезвычайных случаях от имени Его Императорского Величества Высочайшие повеления», 11 февраля 1892 г. сенатор Белостоцкий написал Горемыкину, с полным основанием, что Верховная власть Монарха не может передаваться иным лицам. Белостоцкий напомнил, что в подобной ситуации при Александре II граф Пален составил представление в Комитет Министров и объявление таких прав киевскому генерал-губернатору Безаку было отменено как недопустимое Основными Законами [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.409 Л.43-45].
18 февраля 1892 г. А.Н. Куломзин письменно извинился перед И.Л. Горемыкиным за то что «не сделал в проекте резолюции» предложенного Горемыкиным редакционного изложения. «Дело в том что мы всячески избегаем отрицательной формы в положениях». Рассматривалось дело о сельском арендаторе, которого полагалось «освободить не от взыскания, которое не наложено, а от ответственности, это может быть грамматически верно, не смотря на то, что взыскание ещё не наложено. Эта форма более подходит и традиционной практике» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.888 Л.1].
Манасеин из Риги, где проживала его жена, 20 февраля телеграфировал, что приедет 21-го вечером, а к 22-му просил подготовить материалы по Городовому положению. Им же пришлось в Г. Совете заняться Горемыкину на заседаниях 24 февраля, подменяя министра. Рассмотрение дошло до ст.106.
13 марта Манасеин «совершенно секретно» на два дня покидал Петербург, оставляя Горемыкину право при необходимости принять экстренные распоряжения за министра «по Вашему усмотрению». Дела для заседания в Департаменте экономии Манасеин поручил М.В. Красовскому.
Заседание в Г. Совете 21 марта по законопроекту о местностях, объявленных на военном положении, Манасеин попросил Горемыкина взять на себя, что помогло бы министру разобраться с накопившимися делами и назначить приёмы нужным лицам.
30 марта 1892 г. по поручению Манасеина Горемыкин должен был участвовать в заседании Комитета Министров по делу о выкупе железной дороги из Варшавы, но из-за болезни министра финансов И.А. Вышнеградского за пару дней до того произошла отмена.
В записке от 8 апреля Манасеин написал Горемыкину: «дела идут успешно. Курляндцы только плачут по Сипягину, главным образом потому что преемник его Свербеев слишком уж плох и ему предшествовала его некрасивая (вполне справедливая) репутация».
Манасеин опять решил «говоря совершенно по секрету» «скрыться из С.-Пбурга» «проветриться и освежиться», почему на 11 мая Горемыкин брал на себя заседания Г. Совета. Зато с 12 мая министр давал Горемыкину разрешение на двухнедельный отпуск «и даже более».
Манасеин полагал что 31 мая Горемыкин поедет на акт в Училище Правоведения в 12 ч. Министр по нездоровью пропускал ежегодный приём окончивших курс. Директор Училища поэтому представил всех выпущенных к службе И.Л. Горемыкину.
Первое сохранившееся письмо К.П. Победоносцева к И.Л. Горемыкину датировано 2 июня 1892 г. и касается следственного дела в Москве о пропаганде пашковцев и штундистов. Обер-прокурор опасался, что дело «может окончиться оправданием обвинённых, что было бы в высшей степени вредно для дела». К.П. Победоносцев предлагал И.Л. Горемыкину вытребовать следственное производство, совместно с Синодом рассмотреть его и «прийти к заключению о дальнейшем направлении» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1103 Л.2].
Террористы из левых партий очень рассчитывали на проявление симпатий к ним со стороны «сект рационалистических (как молокане, штундисты)» и иных: «бегуны, шалопуты, хлысты» [«Из истории «Земли и Воли» и «Народной воли». Споры о тактике. Сборник документов» СПб.: Альянс-Архео, 2012, с.449].
9 июня 1892 г. И.Л. Горемыкин ещё раз принял управление министерством юстиции в связи с отъездом Манасеина.
И.Я. Голубев 23 июля писал Ивану Логгиновичу об опечатках в собрании узаконений «относительно пошлины на каменный уголь» и по просьбе Горемыкина прислал ему подробную справку по этому поводу. Относительно опечаток «Свода» и по его содержанию Иван Голубев присылал ещё несколько писем.
К.П. Победоносцев 26 июля пересылал письмо для прочтения И.Л. Горемыкину про одно из судебных дел: «писавший мне вовсе не известен и правду ли он пишет, не знаю». И попутно спрашивал: «неужели неизвестно ещё место пребывания Н.А. Манасеина? Это начинает беспокоить меня за него».
Манасеин, страдавший от хронического кишечного катара, более месяца, до 20 августа, не отвечал на письмо И.Л. Горемыкина, оправдываясь: «лень-то прежде нас родилась и вообще летом плохо пишется».
Как сообщает Л.Е. Барабохина в статье «О вкладе Александры Ивановны Горемыкиной в создание и развитие школы в с. Белое», в 1892 г. супруга И.Л. Горемыкина на свои средства выстроила просторный и красивый дом для школы за 3000 руб. Дом включал помещения для церковно-приходского класса с трёхлетним курсом обучения, с квартирами для учителя и сторожа, а также приют на 8 учеников из отдалённых селений, которые могли оставаться в школе на ночь целую недели и возвращаться домой только на выходные и праздничные дни. С заведующим школой и учителем Закона Божьего священником Иоанном Доброхотовым И.Л. Горемыкин состоял в переписке и в последующие годы общими усилиями они возводили новые церкви и школы. 30 июня 1894 г. А.И. Горемыкина дополнительно открыла приют на 10 человек, которые бы обучались при школе и там же кормились. Общее число учеников выросло до 50 человек.
Многие высшие чины Империи оказывали личное посильное содействие благотворительным обществам. На квартире министра земледелия А.С. Ермолова проходили литературно-музыкальные вечера в пользу попечения о бедных и больных детях [В.С. Соловьёв «Письма» СПб.: Общественная польза, 1909, Т.2, с.210].
Вместе с супругом этим занималась Софья Германовна Ермолова, урождённая баронесса Розен.
24 августа 1892 г. рескрипт Великого Князя Сергея Александровича был передан Горемыкину «для надлежащих распоряжений» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.81].
В сентябре семейство И.Л. Горемыкина, включая его самого и трёх детей, получило из департамента герольдии Сената именные свидетельства о дворянстве [«Сенатские Ведомости», 1892, №91, с.358]
А.И. Горемыкина 23 сентября 1892 г. из с. Белое писала сыну Михаилу: «Мы с Папой Тобой очень довольны, и я убеждена, что и в будущем ты покажешь – силу характера и воли». «Папа сажает 3000 маленьких дубов – для разведения леса. На них любоваться будешь уже Ты» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1730 Л.13-14 об.].
Манасеин предупреждал Горемыкина, что 23 октября Г. Совет будет рассматривать Туркестанское дело, а 25 октября Финляндские дела. 1 ноября министр поручил Горемыкину участвовать в работе Комитета Министров.
В.К. Саблер 7 декабря, К.П. Победоносцев 10 декабря, а И.Н. Дурново 14 декабря благодарили И.Л. Горемыкина за присланные им экземпляры 2-го издания «Свода узаконений».
12 января 1893 г. Мария Казем-Бек записала в дневнике: «сегодня костюмированный бал у Горемыкиных».
8 февраля Манасеин и Горемыкин оба представляли министерство на заседаниях соединённых департаментов Г. Совета по двум делам. 25 февраля Манасеин опять просил Горемыкина заменить министра в Г. Совете.
И.Н. Дурново 13 апреля писал о готовности вечером побеседовать с И.Л. Горемыкиным о делах, назначенных к слушанию в Г. Совете.
Заместитель обер-прокурора В.К. Саблер 17 апреля предупредил И.Л. Горемыкина, что у директора Хозяйственного Управления Синода он может забрать 500 руб. на устройство в с. Белое церковно-приходской школы [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1195 Л.3].
И.И. Шамшин 24 апреля просил И.Л. Горемыкина передать ему данные министерства юстиции о зам. председателя курского окружного суда Гизетти.
Согласно журналу соединённых департаментов Г. Совета 20, 24 и 28 апреля 1893 г. И.Л. Горемыкин в числе 18-ти сановников, включая Победоносцева, Витте, Ермолова, Островского, Философова, Фриша, Перетца, Дурново, Имеретинского и др., утверждал что положение 19 февраля 1861 г. наделило крестьян возможностью распоряжаться землёй, не оставив их в экономическом рабстве, которое может быть тяжелее крепостного состояния. «Некоторое ограничение крестьян в распоряжении землёй, направленное к удержанию её в их руках», объясняется расчётом, что от этого «выиграет благосостояние крестьянского населения», несмотря на то что из-за этого пострадает «отвлечённое понятие права полной собственности». Подобным образом некоторое время назад в интересах сохранения статуса дворянского сословия запрещалось продавать имения не дворянам. Такая политика в отношении крестьянства объяснялась ссылками на опыт Венгрии, где в 1870-е продажа земли привела к «обезземеливанию 50 000 мелких землевладельцев». Мнение 18-ти деятелей Г. Совета основывалось на данных, которые не показывали связи между благополучием всего крестьянского населения и продажей земли. Горемыкин присоединялся к тем, кто отстаивал право «на покупку надельной земли всем лицам сельского состояния, подразумевая под этим не только крестьян, но и лиц других сословий (купцов, мещан и т.п.), которые, имея на основании закона (зак. сост. ст. 701), право перечисления в сельское состояние действительно в него перечисляется. Мера эта послужит без сомнения средством к расширению круга покупателей». По тем же причинам нежелания потери крестьянами своей земли 18 были и против возможности её залога [РГИА Ф.1212 Оп.1 Д.4 Л.371-372].
Видно что элита Российской Империи основывалась на необходимости защищать права собственности и принимать меры к повышению общего благосостояния. Наиболее подходящие к тому меры не предписывались заведомо догматически, а определялись в зависимости от опыта реальной экономической практики. Представляется логичным, что сохранение защищаемых прав собственности зависит от факта наличия земельного надела, служившего основой крестьянского благосостояния.
30 апреля 1893 г. Манасеин попросил отбыть за него «повинность» в Комитете Министров.
В письме от 6 мая Манасеин сожалеет, что Горемыкина обидела хворь. «Главное – не тревожьтесь и о заседаниях не помышляйте; я надеюсь отбыть их, все подряд».
29 мая Манасеин вызвал Горемыкина с отдыха: «Я совсем лишился сна и работать решительно не в состоянии. Поэтому я вынужден Вас просить возвратиться поскорее, дабы помочь в тяжёлое переживаемое теперь время. Мне очень и очень совестно Вас тревожить, но крайняя нужда заставляет так поступить». Причина была в недовольстве Александром III относительно рассмотрения в 1-м Департаменте Сената дела о назначении следствия над бывшим начальником Могилёвского округа шоссейных сообщений Авринского. «Вы сами убедитесь, что положение очень серьёзное и тяжелое» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.949 Л.60].
Отправляя Горемыкина на заседание Комитета Министров 8 июня, Манасеин ожидал «больших споров».
В связи с отъездом министра юстиции Н.А. Манасеина на летний отдых в Лифляндскую губернию, 15 июня 1893 г. тайный советник И.Л. Горемыкин принял на себя управление министерством.
24 июня В.К. Саблер передал И.Л. Горемыкину благодарность Великой Княгини Екатерины Михайловны (1827-1894) за извещение её «об освобождении Плетюхина из-под стражи».
И.Я. Голубев 20 июля 1893 г. просил о назначении сына мирового судьи 3 участка Гродненского округа Ознобишина на место скончавшегося отца. «Он кончил курс Училища Правоведения в 1888 г. (одновременно с Медемом, Пестрежецким, Мих. Бюнтингом)».
12 августа 1893 г. из Казани А.А. Казем-Бек написал И.Л. Горемыкину: «спешу принести тебе сердечную признательность за тёплое участие, принятое тобою в предстоящем назначении моём к присутствии в Сенате. Заминка, происшедшая в этом деле благодаря не жданному возражению С.Ю. Витте, меня чрезвычайно встревожила и расстроила. Никогда я не находился в таком глупом положении». «Не могу передать тебе в более точно сильных выражениях, до какой степени я тебе признателен за то, что ты положил конец этому невозможному положению» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Л.1438 Л.86].
Канцелярия министерства юстиции, которую возглавлял Казем-Бек, по новому штату упразднялась. Манасеин писал о нём из Мюнхена: «предоставляю Вам на размышление и разрешение вопрос – не попытаться ли Вам побеседовать с С.Ю. [Витте] (съездив даже для этого к нему на дачу) и убедить его согласиться на осуществление наших пожеланий относительно Казем-Бека? После разговора можно бы было, не ожидая меня, написать С.Ю. и письмо по этому предмету». От Витте планировалось добиться сенаторского содержания в 10 тыс. руб.
14 августа 1893 г. Манасеин писал, что врачи пугают его возможностью «нервного удара» и потому желал своего увольнения из министерства. Затем поднялся вопрос о назначении сенатором С.Ф. Платонова с 7 тыс. оклада и 2 тыс. квартирных. «если бы Вы могли устроить это соглашение с С.Ю. Витте, то это было бы прекрасно. Пожалуйста, обсудите сей предмет». «Ведь, если Вы не уговорите С.Ю. Витте то, – всё равно, – не уломать его, значит и мне».
В записке от 19 августа Манасеин выражал надежду, что его сил хватит ещё на 2 месяца.
А.И. Горемыкина 11 сентября писала сыну из с. Белое: «два дня как здесь хорошая, тёплая погода, Папа этим очень доволен». 20 сентября она же добавляла: «вчера мы все были в церкви, потом завтракал у нас священник и земский начальник», «я с папой пошла по полям. Овёс наконец убрали, и начали усиленно пахать».
15 сентября поступало ходатайство от И.Я. Голубева о проведении их знакомого в податные инспектора.
К.П. Победоносцев пожаловался 20 октября: «Многоуважаемый Иван Логгинович. Очень грустно что приходится терпеть от вас обиду, и притом несправедливую. Вами подписано 31 августа предложение Общему Собр. Сената по делу об обложении монастыря, вопреки совершенно справедливому мнению значительного большинства и вопреки – утвердившейся уже прежней практике Сената. Не дай Бог если по этому предложению составится дело: не только монастырь, и без того бедный, разорён будет, но и на будущее время создадутся для нас великие затруднения!». Это, возможно, самый первый случай, когда независимые решения И.Л. Горемыкина разошлись с желаниями К.П. Победоносцева. В дальнейшем их накопится значительно больше, но пока Иван Логгинович продолжал пользоваться поддержкой и симпатиями обер-прокурора, с самого начала не превращаясь в его марионетку.
О тесных контактах И.Л. Горемыкина с другими сановниками свидетельствует письмо Д.С. Сипягина от 29 октября 1893 г.: «Многоуважаемый Иван Логгинович, к сожалению я вчера не застал Плеве дома, а так как сегодня на целый день уезжаю на охоту, то так не придётся уже с ним повидаться и переговорить на счёт телеграммы. Я, лично, остаюсь при том мнении, что телеграмму послать следует – от чинов министерства и от себя – и предлагаю послать таковую в понедельник рано утром, но если бы Вы нашли нужным и возможным повидаться сегодня с Плеве и там, переговоря с ним, пришли к иному результату, то очень бы меня обязали сообщив мне о Вашем решении сегодня вечером. Простите, что беспокою Вас и примите уверение в совершенном моём почтении. Преданный Вам Д. Сипягин» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1202 Л.7].
Манасеин приглашал к себе Горемыкина 20 ноября между 9 и 12 ч.
На общем собрании Г. Совета Горемыкин заменял Манасеина 29 ноября.
10 декабря Шамшин сообщал о своей встрече с Манасеиным и передал Горемыкину письмо А.А. Половцова «на Ваше доброе благоусмотрение» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1384 Л.10].
На квартире сенатора Я.Г. Есиповича 14 декабря прошло празднование 50-летия его службы. И.Л. Горемыкин принёс поздравления совместно с Манасеиным и с В.К. Плеве [«Петроградский Листок», 1893, №344, с.3].
Министр Манасеин 22 декабря представил Г. Совету проект межевого устава с соображениями, что порядок разрешения споров при межевании должен относиться не к уставу, а к положению о сельском состоянии. Изложение дела управлением межевой частью, И. Шамшиным, составило 222 стр. В 1905 г. И.Л. Горемыкин продолжит заниматься этими же вопросами, приняв на себе задачи их разрешения [РГИА Ф.1212 Оп.1 Д.1 Л.406об.].
И.Я. Голубев, пользуясь давней дружбой, 23 декабря снова обратился с просьбой к И.Л. Горемыкину, сознавая «что мои учащённые к тебе обращения переходят границу даже приличия и не извиняются» «добрыми товарищескими отношениями». Голубев хотел получить назначение и просил передать Д.С. Сипягину, что «Тобольск и вообще Сибирь меня вполне устроили бы, словом сделать в мою пользу нечто что тебя и твоего влияния может хватить. Моё положение (материальное) усложнилось». Про министерство государственных имуществ Голубев сообщал что «Ермолов не вполне хозяин в своём доме», «по слухам большое влияние имеет Сипягин», чем и вызвана просьба обратиться именно к нему.
1 января 1894 г. Н.А. Манасеин покинул министерство юстиции. Горемыкин подписал за министра назначение пожалованных орденов. В этот же день К.П. Победоносцев пометил в дневнике, что виделся с И.Л. Горемыкиным и новым министром Н.В. Муравьёвым. Правовед Ознобишин вспоминает его молодым и талантливым. Ему принадлежало проникнутое пониманием служебного долга вышедшее в 1889 г. пособие для прокурорской службы «Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности», излагающее его принципы и задачи наряду с обзором различия европейских юридических практик и толкований.
При вступлении в должность Н.В. Муравьёв назвал целью устранение розни между отдельными министерствами. Выдвижение им И.Л. Горемыкина в МВД при поддержке Победоносцева исходит из тех же соображений.
Муравьёв предложил провести систематический пересмотр судебного законодательства. Александр III утвердил его всеподданнейший доклад об образовании правительственной комиссии, в которой 12 января, став сенатором, И.Л. Горемыкин возглавил работу одного отдела из четырёх – того, что занимался местными судами. За пять следующих лет комиссия провела 503 заседания [Н.Н. Ефремова «Министерство юстиции Российской империи 1802-1917» М.: Наука, 1983, с.124-125].
12-м января 1894 г. датируется и новость о назначении И.Л. Горемыкина управляющим межевой частью на правах заместителя министра юстиции. Он занял должность И.И. Шамшина. Другим замминистра был назначен Бутовский, а Шмеман стал директором первого департамента минюста вместо Красовского [«Южный Край» (Харьков), 1894, 17 января, с.1]. В распоряжении межевой части Горемыкина находились две канцелярии, чертёжная и её архив. В его ведомстве числились также губернские межевые учреждения, Константиновский межевой институт и землемерные училища [«Общий обзор деятельности Министерства Юстиции и Правительствующего Сената за Царствование Императора Александра III» СПб.: Сенатская типография, 1901, с.92-94].
Отсутствие единства в организации местного суда Н.В. Муравьёвым было назначено первым в перечне дел, подлежащих устранению. Разнообразие устройства местного суда включало участки, где действовало положение о земских начальниках, где ведением суда занимались органы, не входящие в общую судебную организацию и где суд всецело зависел от местных органов, включённых в единую судебную систему. По воспоминаниям А.Ф. Кони, Горемыкин соглашался на отмену судебной власти земских начальников, в отличие от Н.В. Муравьёва [«Судебная реформа» М.: Объединение, 1915, Т.2, с.268-269].
15 января 1894 г. Н.В. Муравьёв прислал И.Л. Горемыкину «записки по Комитету Министров с просьбою заменить меня в заседании 18-го января, так как я возвращусь только на другой день в 11 ч. утра, а В.М. Бутовскому будет затруднительно». «Реестр означенных дел мною ещё не получен и будет доставлен Вам по поступлению. Крепко жму Вашу руку» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1006 Л.1-2].
И.Я. Голубев 2 февраля написал, что из «Пр. Вестника» узнал о назначении в Тобольск Шапошникова, но благодарил «за твоё доброе ко мне отношение».
Военный министр П.С. Ванновский 5 февраля прислал И.Л. Горемыкину ответ на ходатайство за лекаря 6-й резервной артиллерийской бригады Вениамина Белиповского о предоставлении ему возможности сдать последние 3 экзамена на степень доктора медицины. Для защиты диссертации «врач может воспользоваться своевременно отпуском».
Сенатор Белостоцкий, давний приятель Горемыкина, внезапно умер от сердечного приступа.
Интересные подробности взаимоотношений И.Л. Горемыкина с министрами встречаются в письме И.Я. Голубева 16 февраля: «ты мне говорил что с Витте теперь хорош. Не поговоришь ли с ним». «С Ермоловым очевидно каши не сваришь, вчера узнал что он меня вторично проваливает и в Томск не назначит».
Министр Юстиции в записке от 15 марта просил И.Л. Горемыкина повидаться насчёт какого-то сложного дела, «буду дома утром до 12 ч.».
Шамшин 21 марта писал: «Я несколько беспокоюсь, не получив от Вас ответа об Арцыбушеве по Большевскому делу. Вероятно напрасно. Если так, не отвечайте мне на эту записку».
4 апреля 1894 г. начальник Главного управления по делам печати Феоктистов написал Горемыкину, что вчера не застал его дома. Хотел поговорить насчёт просьбы редактора «Юридической Газеты». Феоктистов пытался объяснить И.Н. Дурново, что это честная газета, но придётся обратиться за отзывом министра юстиции Н.В. Муравьёва.
П.П. Гессе 17 апреля уведомлял И.Л. Горемыкина, что ему прислали письмо княгиня Шаховская и Писарева. «Не знаю, можно ли ей ответить, что в этом деле политического ничего нет и что оно касается огласки секретных документов, или это ещё преждевременно» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.563 Л.2].
26 апреля в следующем письме П.П. Гессе сообщал И.Л. Горемыкину, что Императрица Мария Фёдоровна запрашивает обстоятельства московского дела Ливена. «Кутузов по этому поводу обратился ко мне с просьбою, если возможно, доставить эти подробности», в т.ч. узнать причину ареста.
30 апреля начала работу комиссия по пересмотру судебных законоположений. Прошли два заседания в полном составе с обсуждением плана и организации работ до конца года [«Южный Край» (Харьков), 1894, 16 мая, с.1].
И.Я. Голубев 7 мая 1894 г., продолжая рассчитывать на влияние И.Л. Горемыкина среди министров, выразил надежду, что Н.В. Муравьёв ему не откажет в просьбе, и повторял: «ты очень хорош с Витте».
Насколько можно довериться воспоминаниям А.Ф. Кони, министр Манасеин, будучи в дружеских отношениях с Победоносцевым, позволял себе некоторое сопротивление его предпочтениям, а новый министр Муравьёв, обязанный возвышением Великому Князю Сергею Александровичу, больше добивался расположения Победоносцева [«К.П. Победоносцев в воспоминаниях современников» М.: Институт русской цивилизации, 2016, с.243].
В литературе можно встретить сомнительные наименования И.Д. Делянова слабым, уступчивым министром, подобным Н.А. Манасеину, нуждавшемуся в опоре на «сильную фигуру» Монарха в противостоянии Г. Совету [Н.В. Черникова «Государственный совет в системе управления Российской империи» М.: Научно-политическая книга, 2021, с.155-156].
Мне представляются неподобающими многие подобные представления о том, будто политики, принимающие во внимание чужие доводы и способные согласиться со своими оппонентами, являются слабыми. Сущность политики в достижении наиболее положительных целей, а не одних собственных инициатив во вред другим. Часто встречаемое глубоко порочное представление о такой “силе” объясняет происхождение неугасающей популярности мифологического противопоставления подобной карьеристской самодовлеющей “силы” С.Ю. Витте – способности Императора Николая II к маневрированию между различными политическими проектами. Похвальное достоинство И.Л. Горемыкина проявлялось в полном отсутствии такого злоупотребления мнимой “силой”.
В относительной близости от имения Горемыкина, на левом берегу Волхова располагалась небольшая скромная одноэтажная усадьба министра юстиции Н.В. Муравьёва. В ней когда-то родился композитор Рахманинов и в ней одинокой вдове министра приведётся доживать свой век [Н.Г. Порфиридов «Новгород 1917-1941. Воспоминания» Л.: Лениздат, 1987, с.125].
В начале августа в газетах сообщалось что председатель комиссии Г. Совета Абаза, разрабатывавший проект положения о майоратах, сложил полномочия. «С.-Петербургские Ведомости» назвали И.Л. Горемыкина ожидаемым кандидатом на его замену. В.К. Плеве тоже покинул комиссию, возобновления её работ ожидали к октябрю.
В сентябре 1894 г. И.Л. Горемыкин ездил по делам в Тифлис, где останавливался в гостинице «Кавказ». Елизавета Петрова присылала туда письмо от 16 сентября: «Завтра мы отправляемся в Вену», а затем телеграмму: «Будем [в] Риме по 30 сентября» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1080 Л.9]. Туда же отправлена Горемыкину телеграмма министра юстиции: «изменять ваш план работы нет надобности. В Тифлисе не буду» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1006 Л.32].
Приблизительно к 1894 г. относятся сведения из воспоминаний Анатолия Егорова о посещении Горемыкиным Одессы. Помощники занимающего должность градоначальника Одессы Старкова старались поместить в газете «Одесские Новости» сообщение, что Старков провожал Горемыкина на вокзале и подарил его супруге «изящный букет из белых и жёлтых роз».
Начала работу комиссия по вопросу о майоратах во главе с И.Л. Горемыкиным, с рассмотрением взглядов представителей дворянства.
4 ноября 1894 г. Н.В. Муравьёв просил И.Л. Горемыкина зайти к нему домой через два дня в 10 ½ утра, в воскресенье.
В 1893 году, пока Николай Николаевич Медем (1867 г.р.) ещё служил товарищем прокурора Митавского окружного суда, он женился на Татьяне Ивановне Горемыкине. У них было трое детей: Марина (1894), Николай (1901), Ирина (1906). В 1896 г. Н.Н. Медем стал товарищем С.-Петербургского окружного суда, в 1902 г. Черниговским вице-губернатором, а в 1903 г. – псковским. Оставаясь на этой должности до 1911 г., он наконец стал и губернатором в том же Пскове и пребывал им до 12 января 1916 г., когда был назначен губернатором в Петроград, но не приступил к должности из-за болезни. В октябре 1918 г. большевики убили Н.Н. Медема в Пятигорске вместе с Н.В. Рузским. Татьяна Ивановна Горемыкина сумела прожить до 1965 г. в Ницце.
Его отец барон Медем просил заступничества И.Л. Горемыкина, т.к. И.В. Гурко добивался его отставки (Медем самовольничал не по должности). В свою очередь, И.В. Гурко попросил у Горемыкина назначить помощником своего сына вместо барона. Горемыкин прежде не заступался за Медема, а после сказал, что в этом ходатайстве Государь отказал. По слухам, Горемыкин не докладывал Государю об этой просьбе, а самовольно отказал, последовав совету Медема, сказавшему ему: «я Гурко за одиннадцать лет хорошо изучил, он из самолюбия не станет выяснять у Государя причины отказа и вообще говорить о нём» [Д.И. Гурко. «Воспоминания генерала» // «Генералами рождаются» М.: Русское слово, 2002, с. 191-192].
И.В. Гурко не стал спрашивать и подал в отставку – 6 декабря 1894 г. его уволили по прошению. 12 декабря по его же просьбе освободили от занятий в Г. Совете «по слабости здоровья» Согласно записи Владимира Гурко, его отца уволили под влиянием Императрицы Марии Фёдоровны – без упоминаний про участие Горемыкина. По версии С.Ю. Витте, И.В. Гурко приехал-таки лично к Николаю II и потребовал назначить Владимира Гурко управляющим своей канцелярией. Государь не поддался ультиматуму и сразу принял отставку. В дневнике Император писал в январе 1896 г, что Гурко живёт в Зимнем дворце по праву фельдмаршала.
Советский мемуарист повторяет сведения Витте: «Николай II был другой складки, чем отец и не допускал разных речей со стороны подданных. Гурко в резкой категорической форме потребовал назначения своего сына правителем дел в генерал-губернаторстве. Сын не был назначен, а отцу пришлось покинуть свой пост» [Б.А. Энгельгардт «Потонувший мир» СПб.: РХГА, 2020, с.145].
«Страшный тягостный день», – обозначил в дневнике К.П. Победоносцев уход из жизни Александра III. 7 ноября его тело опустили в могилу.
Критики Императора Николая II часто находятся в согласии с непомерным почитанием могучей фигуры Александра III, остановившего, будто бы революционное движение, возродившееся после его смерти. Такое изображение нисколько не справедливо.
Глава заграничной агентуры П.И. Рачковский так писал директору Департамента Полиции П.Н. Дурново 24 ноября 1892 г. о возникновении в С.-Петербурге новой группы народовольцев: по представлениям революционеров, поддерживаемых либералами, «вне систематического террора» никакую успешную деятельность в России они вести не могут. «Предстоящая эпоха по всем данным, грозит неминуемыми катастрофами», одними средствами наружного наблюдения, без внутреннего, обезвредить их не удастся [«Политическая полиция Российской империи между реформами. От В.К. Плеве до В.Ф. Джунковского» СПб.: Алетейя, 2014, с.28].
Ещё при жизни Александра III стало ясно: «не только на искусство, но на всё общество и государство надвигается другая гроза, несравненно более страшная и в конец разрушительная, — гроза социализма, от которой у нас, Русских, есть все средства избавиться» [В. Грингмут «Враги живописи» М.: Университетская типография, 1893, с.48].
Император Николай II и его министр И.Л. Горемыкин входили в эпоху великих потрясений. Выступить против русской государственности готовилась огромная революционная армия, взращённая популяризацией агрессивной пантеистической философии, призывавшей раздавить Церковь, а с нею Монархию и всех, кто будет защищать Веру и Царя.
Личность Императора Александра III не могла остановить процесс распространения революционных идей, закрепление пантеистических догматов у интеллигенции и пропаганду студентов в народе. Пантеистическое обожествление природы и народа противопоставлялось теистической теологии и исповедующей её монархической власти. Борьба с революционным пантеизмом зависела от личного выбора каждого подданного Империи, его сознательности и стойкости, или внушаемой слабости.
Усиление революционной пропаганды произошло не в связи с вступлением на Престол Императора Николая II. Сильный толчок пропаганде давали обусловленные климатическими факторами неурожаи – и вызванный ими голод 1891 г. Н.М. Могилянский вспоминал: «лёг мрачный год 1891, явившийся своего рода демаркационной линией в общественном настроении» [«Голос минувшего на чужой стороне» Париж, 1926, №4, с.91]. Историк революционного движения, жандарм А.И. Спиридович, а за ним и современные историки, видят подъём революционного движения с голода 1891-92, давшего новый материал для обманных подтасовок [С.Б. Павлов «Опыт первой революции: Россия. 1900-1907» М.: Академический Проект, 2008, с.27].
В действительности ни что другое как голод 1891 г. не показывает всего точнее разницу между Российской Империей и Советским Союзом, выстроенным руками множества недовольных Царским Правительством. В 1891 г. правительство выделило на помощь голодающим 150 млн. руб. из бюджета, который впервые достигнет отметки в один миллиард только под новый 1894 г.
На одну Новгородскую губернию, родную Горемыкину, в 1891 г. было выделено более 6 млн. руб. [А.Ф. Кошко «Воспоминания губернатора» Петроград, 1916, с.5].
Была широко организована частная благотворительная помощь внутри России и поставки продовольствия от иностранных государств. Благодаря этому продовольственную помощь получали около 6 млн. человек – столько же, сколько умерло от голода в СССР в 1932-33 годах, когда для помощи голодающим не было выделено ни грамма. Напротив, хлеб насильственно изымался из колхозов, а за невыполнения планов по хлебозаготовкам в СССР арестовывали тысячи председателей колхозов.
Массовая смертность появилась ещё с насильственных ограблений и выселений коллективизации 1929 г. Но только в 1933 г., когда 6 миллионов уже погибли, Украина получила ссуды на 501 тыс. тонн зерна, РСФСР – 990 тыс. тонн [«Современная российско-украинская историография голода 1932-1933 гг. в СССР» М.: РОССПЭН, 2011, с.427].
С меньшими жертвами, та же ситуация повторилась и в голод 1946-47 годов. Этих данных достаточно, чтобы считать СССР страной победившего нацизма со всеми вытекающими отсюда осудительными последствиями. Следует признать возмутительными попытки современных историков и идеологов, придерживающихся просоветских взглядов на революцию и Гражданскую войну, отрицать характер геноцида – как русских, так и украинцев и казахов. Ложный культ величия Советского Союза и его военных побед, продвигаемый вместо признания геноцида, угрожает новыми повторениями массовых чекистских преступлений.
Сравнения Российской Империи с другими мировыми державами показывает, что революционная «страшилка», как иногда переводили «призрак» коммунистического манифеста, кралась повсюду и везде угрожала насадить террористический строй, хуже былого рабовладельческого.
Как писал Ф. Энгельс в 1883 г., монархические принципы и институты служили главным препятствием на пути политического господства марксизма. Установление демократии открывало социалистам дорогу во власть через выборы [К. Маркс и Ф. Энгельс «Сочинения» М.: Политиздат, 1964, Т.36, с.48].
Французская республика жила как на вулкане после 1870 г. Несмотря на то что Бурбоны не были восстановлены после Наполеона III из-за рыцарской принципиальности их отказа принять трёхцветное революционное знамя, «своей кульминации общее ожидание классовой борьбы достигло около 1890 года». Париж был на осадном положении, в черте города разместились 38 тысяч вооружённых солдат и полицейских [Ф.Р. Анкерсмит «Политическая репрезентация» М.: ВШЭ, 2012, с.83]. Революционные погромы не оставляли Париж и позднее. Трудно найти эпоху, когда бы их не было. После казни в США террористов Сакко и Ванцетти парижане «избивали любого американца, попавшегося им на глаза. Если американцев не попадалось, то толпа набрасывалась на чрезмерно богатых соотечественников». Толпа разорила могилу Неизвестного солдата и 200 полицейских получили ранения, в том числе ножевые [Билл Брайсон «Беспокойное лето 1927» М.: АСТ, 2017, с.363].
Брат убитого американского президента вспоминал, что во Франции, во время войны в Корее, он, будучи американским военнослужащим, подвергся нападению парижских бандитов. А именно, коммунистов: «французские коммунисты не любили американских военных даже больше, чем простые французы». Его преследовали трое громил с палками [Э.М. Кеннеди «Один за всех. Воспоминания» М.: КоЛибри, 2012, с.130-131]. «Я был в Париже летом 1968 года. Я пришёл к твёрдому убеждению, что во Франции было подлинно народное восстание, главной движущей силой которого были студенты. Это было антикапиталистическое восстание. То самое, о котором в СССР мечтали десятилетиями. В Париже оно победило. Если бы оно победило во Франции, то история конца XX века была бы иной» [Г.Х. Попов «Реформирование нереформируемого. Попытка Алексея Косыгина» М.: Международный университет, 2009, с.410].
Разница лишь в том, что подрывная операция Мильнера в феврале 1917 г. специально была произведена в Петрограде во время войны, что не позволяло направить все силы государства на подавление мятежа, как, например, удалось Германии после поражения 1918 г., и в том же Париже, и во время террористического движения коммунистов и негров в США 1960-х.
Можно вообразить такую же революционную “ситуацию” во многих сопоставимых странах и демократических политических режимах. В начале ХХ века в США «опасность представлял разгул преступности в городах. Воровство, проституция и систематические погромы, направленные против национальных меньшинств, делали жизнь в городах весьма небезопасной. Подобные ужасающие условия стали результатом не только слабого планирования, но и недостатка власти в городах» [Д. Макинерни «США. История страны» М.: Эксмо, 2009, с.375].
«В августе 1923 года тот случай, казалось, отразил всю нашу республиканскую действительность. Тогда я стал свидетелем, как полицейские били участников демонстрации безработных, избивали членов социал-демократической службы порядка. Были тяжелораненые, а сенат даже не нашёл слов для осуждения действий полиции» [Вилли Брандт «Воспоминания» М.: Новости, 1991, с.93]. И.В. Гессен, эмигрировавший в Берлин, объяснял: «напрасно взяточничество и протекция считались государственной особенностью России: где только ни появлялись исключительные законы, тотчас к ним прокладывались обходные тропинки, и в тем большем количестве, чем законы были сложней и стеснительней». В начале 1920-х Гессен дал взятку, чтобы не платить высокий налог для иностранцев за проживание к большой квартире [Олег Будницкий, Александра Полян «Русско-еврейский Берлин (1920-1941)» М.: НЛО, 2013, с.48].
Оговорка об исключительности России взялась не просто так. Система таких ложных представлений образовывала идеологию революционного движения. Поскольку сопоставления стран можно делать решительно по всем областям жизни, нет оснований повторять за революционными пропагандистами невежественные перепевы лживых вымыслов о каком-то системном кризисе Российской Империи и её монархической системы. Желающие рассуждать о нём пусть начнут с прогнивших демократий и их замшелых конституций. Сравнительно с ними, Русское Царство Николая II обладало рядом устойчивых преимуществ и вело борьбу с террористическим движением социалистов с завидным успехом.
Со значительным опозданием, хотя бы часть либеральных историков, как А.И. Миллер, признала: «мы наконец расстались с мифом об избыточности российской бюрократии, осознали, что империя в острой форме испытывала нехватку чиновников» [«Наследие империй и будущее России» М.: Новое литературное обозрение, 2008, с.37].
Этот вывод тянет за собой сразу несколько логических связей. Он позволяет говорить о правоте монархистов, которые делали это умозаключение вовремя. Либералы поддерживали все такие мифы, лишь бы они приближали революцию. И это очень важно, что именно компактная монархическая государственная модель с минимумом чиновников оказывается необычайно востребована в национальных интересах сравнительно с неостанавливаемо раздуваемым демократическим чиновничеством и налоговыми тратами на него.
В «Русском Вестнике» Н.В. Щербань, хорошо разбиравшейся в положении европейских стран, справедливо указывал в 1887 г. на несостоятельность революционной риторики: «оказывается, что в республиканской Франции, где “всё обложено, и повозка, и лошадь, и земледельческая машина, и даже навоз”, налоги куда неимовернее!» [«Под каким соусом нас съедят. Русский антинигилистический памфлет второй половины XIX века» СПб.: Владимир Даль, 2019, с.252].
Ложно обвиняющие в отсталости монархистов, либералы сами на 200 лет с лишним застряли на одной и той же утопической идее превратить Россию в США, к чему стремилась ещё террористическая организация декабристов, желавшая переустройства «по образцу Соединённых Штатов», ради чего «Пестель заставил принять большинством искоренение царской семьи» [«Восстание декабристов. Материалы» М.: Госполитиздат, 1950, Т.IX, с.46].
Либералы и следующие 200 лет всегда будут терпеть такие же поражения, пока не будут опираться на существующую Россию. Результатом их деятельности оказывается только усиление большевизма и отъезд западников на возжелаемый ими Запад. Как и во время борьбы с правительством Горемыкина, либералы всякий раз превращаются в политический труп, с безумным упорством выступая против русского патриотизма. Тем самым они добиваются только усиления большевизма, который не отказывается спекулировать на консерватизме негативного типа. Как это и обстояло в начале ХХ века, политическую победу над большевизмом может обеспечить только русский национализм, которым бежать некуда и которые способны опереться на свою религию, культуру и правые политические традиция в борьбе с ложью демократии и социализма.
Еврейский историк, избавленный от советского идейного балласта, пишет о настоящей причине революционных брожений, о движущих силах идей: «высшее образование» «инкубатор революции» [Б. Натанс «За чертой. Евреи встречаются с позднеимперской Россией» М.: РОССПЭН, 2007, с.233].
Если выражаться ешё точнее, это проблема лжезнания, угроза ложных мотиваторов, обманных манипуляций демократического самообольщения и социалистической дороги к рабству, соблазн райского утопизма. Всё то что Император Николай II назовёт бессмысленными и беспочвенными мечтаниями.
Проблема игнорирования подлинных достижений естественных и гуманитарных наук и пренебрегающую ими дезинформационную популяризацию хорошо осознавали русские политики, составлявшие элиту Империи. Особенно ясно её выразил в ряде своих публикаций и политических решений Константин Петрович Победоносцев, содействовавший появлению И.Л. Горемыкина в ближайшем окружении Николая II. В эмиграции, после пережитого опыта революции, Д.С. Пасманик оценил К.П. Победоносцева как гениального критика демократии, сумевшего правильно определить все её слабые стороны.
Профессор Московской Духовной Академии Алексей Лебедев в 1907 г., призывая читателей «Богословского вестника» бросить писать панегирики вместо настоящей истории Церкви, одновременно написал про почившего «К.П. Победоносцева, этого идеального обер-прокурора. К.П. Победоносцев был умнейший и добрейший человек, о доброте его я сужу по собственному опыту». Главным недостатком Победоносцева мемуарист назвал увлечение литературными занятиями в ущерб служебному долгу, передачу управления делами Церкви менее чем он сам заслуживающим того лицам. Так раз этого старался избежать И.Л. Горемыкин, отказавшись от написания самостоятельных исследовательских исторических трудов на интересующие его темы. Относительно Победоносцева едва ли этот упрёк вполне справедлив, но какие-то основания для него имелись. Интересно, что тот же мемуарист точно подметил суть критики К.П. Победоносцева, полностью совпадающей с позднейшими типовыми выпадами в адрес И.Л. Горемыкина: «так просто оказывается развенчать великого или замечательного человека: кричи, что у того или другого из них холодное сердце, отсутствие сердечных отношений или же тот или другой из них засушенный бюрократ и выпустошенная душа – и от действительного величия, по суду публики, осталось будто бы одно воспоминание. Шаблон заел нас!» [А.П. Лебедев «Великий и в малом…»: Исследования по истории Русской Церкви и развития русской церковно-исторической науки» СПб.: Издательство Олега Абышко, 2008, с.83, 157].
Часть 2. Внутренние Дела Империи.
При воцарении Его Величества состоялось знакомство молодой Царицы с И.Л. Горемыкиным, оказавшееся запоминающимся. 17 июня 1915 г. Императрица Александра Фёдоровна писала: «буду счастлива побеседовать с дорогим стариком. С ним я могу быть вполне откровенной, я его знаю с тех пор, как замужем; он безгранично тебе предан и поймёт меня» [«Николай Второй в секретной переписке» М.: Алгоритм, 2005, с.172].
Первые дни Царствования Николая II шли для И.Л. Горемыкина прежним служебным чередом. 3 декабря 1894 г. А.С. Стишинский писал ему: «Милостивый государь Иван Логгинович. В виду открытия занятий I Отдела Высочайше учреждённой Комиссии по пересмотру законоположений о судебной части, предусматривается, что представилям Министерства Внутренних Дел придётся вероятно вносить в Отдел письменные работы». Не имея возможности взять на себя лично эти работы, Стишинский просил И.Л. Горемыкина разрешить присутствовать на заседании Отдела, «в составе чинов Канцелярии оного, делопроизводителю Земского Отдела коллежскому ассессору Александру Васильевичу Кривошеину» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1231 Л.1].
Продолжая временно исполнять обязанности министра юстиции, И.Л. Горемыкин в начале года рассматривал проект военного министерства о дуэлях между офицерами, и высказался против желания военных оставлять такие дела без судебного рассмотрения. Г. Совет постановил отдать решение этого вопроса ведомству Горемыкина [«Южный Край» (Харьков), 1895, 12 января, с.2].
Качественное современное исследование по 1894 г. показывает недостоверный характер сочинений В. Кн. Александра Михайловича о неготовности Императора Николая II к правлению – «как и многое другое в крайне тенденциозных мемуарах этого великого князя» [Д.А. Андреев «Самодержавие на переломе: 1894 год в истории династии и власти» СПб.: Алетейя, 2022, с.39]. Это видно по разным точно выясненным примерам, где отмечаются его неточности, вроде того как «разговор придуман в.кн. Александром Михайловичем под влиянием позднейших слухов» [Ю.А. Сафронова «Екатерина Юрьевская. Роман в письмах» СПб.: ЕУ, 2021, с.241, 262].
В перечне наград, приуроченных к новому 1895 году, И.Л. Горемыкин получил орден св. Александра Невского.
17 января 1895 г. Государь произнёс программную и пророческую речь, предупреждавшую противников монархического принципа об опасности конституционных иллюзий и демократического начала.
Согласно некоторым мемуаристам, речь Царя о бессмысленных мечтаниях вдохновила МВД при И.Л. Горемыкине, «гонения на земства усилились», «всякая награда чиновника воспринималась с каким-то средневековым благоговейным почитанием, свойственным посвящениям в рыцари» [В.П. Семёнов-Тян-Шанский «То, что прошло» М.: Новый хронограф, 2009, Т.1, с.390].
Либеральная партия, напротив, активизировалась, обвиняя Царя в заключении союза не с интеллигенцией, а с чиновничеством, дворянством и купечеством и призывая к открытой борьбе с Императором и его сторонниками [Н.М. Пирумова «Земское либеральное движение» М.: Наука, 1977, с.163].
Профессор Н.П. Боголепов, будущий министр народного просвещения, выразил в дневнике положительное отношение к речи Императора о бессмысленных мечтаниях, предполагая благотворное её воздействие на преподавателей и студентов [«Русский Архив», 1913, Вып.1, с.44]. К.П. Победоносцев склонялся к более мрачным суждениям и Великому Князю Сергею Александровичу написал: «я уверен, к несчастью, что большинство членов Государственного совета относится критически к поступку государя и, увы, некоторые министры тоже» [И.С. Розенталь «И вот общественное мненье!» М.: Новый хронограф, 2007, с.163].
Следует отметить в обществе и признаки сильного расположения к новому Императору. 5 января 1895 г. Валерий Брюсов писал из Москвы: «замечательно патриотично настроена теперь публика. На журнал, где в приложениях нет портрета государя, и не подписываются» [«Литературное Наследство» М.: Наука, 1976, Т.85, с.734].
Как ни старалась революционно-демократическая проповедь уничтожить эту приязнь к Царю, она внушала ненависть к Николаю II с немалыми затруднениями. Другой поэт, А. Белый весной 1903 г. писал: «почему-то я особенно люблю Николая II-го. От него добрые вибрации» [Андрей Белый – Эмилий Метнер «Переписка» М.: НЛО, 2017, Т.1, с.229].
Такого чувства Александр III не вызывал. Б. Бугаев тогда ориентировался на направление статей «Московских Ведомостей». Его лживые воспоминания, написанные для издания в СССР, очень далеки от честности.
На эти монархические настроения ссылается В.А. Маклаков, пытаясь оправдать допущенные левой интеллигенцией политические ошибки. Он постоянно обвиняет Николая II в развязывании идеологической войны с либералами и конституционалистами речью о бессмысленных мечтаниях. Подтасовка В. Маклакова заключается в том, что либералы никогда не поддерживали Николая II, они лишь хотели использовать его для выдвижения знамени конституционализма в своих интересах – против взглядов Царя и потребностей Империи. Николай II прекрасно понял необходимость сразу же предотвратить возможность вредных спекуляций, когда либералы хотели изобразить Николая II своим единомышленником в борьбе с правыми монархистами. Эта идеологическая война непрерывно длилась десятилетиями, Николай II не разжёг её, когда ясно дал понять на чьей он стороне, для того чтобы открыто, активно и последовательно развивать политическую идею правой национальной Самодержавной Монархии в борьбе со всеми левыми течениями.
Наглость В. Маклакова доходит до объявления непререкаемой истиной, будто единственной обязанностью Самодержавия было служить либерализму и постепенно самоуничтожиться во имя конституции. Возмутительная претензия либералов на непререкаемое политическое господство в Российской Империи и желание совершенно низвести на нет идеи правых монархистов развязывало настоящую культурную войну между ними.
В. Маклаков откровенно лжёт, утверждая, будто в бумаге Родичева, на которую ответил Император Николай II, не говорится о конституции. Это не так, ибо Родичев выдвинул типичное для демократической мифологии противопоставление «отдельных» представителей власти Монарха исполнению «закона», а не воли Царя непосредственно. Таким образом высшей властью над министрами либералами объявлялась конституция, а не Самодержавие. Что столь же типично для левой демагогии, Родичев далее заявлял Царю о необходимости прав «общественных учреждений выражать своё мнение» [В.А. Маклаков «Власть и общественность на закате старой России» М.: НЛО, 2023, с.133, 550].
Т.е., исходя из двойных стандартов либералов, тут уже не шла речь об отдельных представителях общества с их частными мнениями, а о каком-то едином мифическом обществе и совершенно абсурдном мнении учреждения, чего быть не может. Мнение есть только личное. Демократическая подкладка таких заявлений несомненна.
Пережившие на себе самые трагические последствия войны либералов с Самодержавием русские под гнётом большевизма продолжали, следуя примеру А.И. Солженицына, отстаивать положительные принципы правого национализма, господствовавшие в Российской Империи, за которые сражался Николай II. Задачи борьбы с либеральной русофобией оказывались максимально актуальны и к 1978 г., и позднее: «не было слова, более ненавистного и отвратительного русской интеллигенции, чем слово “самодержавие”». «И не было для интеллигенции в российской действительности явления, более раздражающего и удручающего, чем стойкий народный монархизм». «То, что интеллигенции казалось “невежеством” и “рабством” – вера в царя – было естественным и необходимым элементом “образа мира”», «занимавшим строго определённое место в иерархии религиозно обоснованных ценностей» «противоположно безграничному деспотизму» [Вадим Борисов «Статьи, документы, воспоминания» М.: Новое издательство, 2017, с.84-85].
Даже и в 1990 г. после десятилетий революционного промывания мозгов, по опросу центра общественного мнения, 12% опрошенных назвали «свержение самодержавия» «очень значительной потерей» для России [М. Хейфец «Цареубийство в 1918 году» М.: Фестиваль, 1992, с.314]. Поэтому затем, в пору крупнейшего русского культурного возрождения, в 1990-е «ажиотажный спрос» на беломонархическую литературу «стал выплёскиваться из берегов», о чём с горечью вспоминают сторонники большевицкого тоталитаризма, гордящиеся ныне, что не стали у себя печатать романы «небесталанного» П.Н. Краснова [В.П. Лукьянин «Урал: журнал и судьбы» Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2018, с.558-559].
Когда представители политической традиции В. Маклакова пишут, что «либерализм как разработанная уже система сменил абсолютистское полицейское государство», они признают: «метод либерализма — не творческая деятельность, не созидание, а устранение», т.е. разрушение Монархического правопорядка во имя базовых левых революционных принципов 1789 г. Попытки либералов включить в свою программу даже и «предпринимательский дух» откровенно смешны, т.к. к либерализму, т.е. революционной политической идеологии, творческий «дух» уже не имеет отношения, как и создание правового порядка. А провозглашать «незыблемость частной собственности» куда успешнее, чем либералы на словах, могут их противники справа на деле [В.В. Леонтович «История либерализма в России (1762-1914)» Париж, 1980, с.1-4].
А.И. Солженицын в 1979 г. поэтому предупреждал, что в демократическом движении игнорируют исторический опыт «и по общей теории либерализма просто хотят повторения Февраля. А это гибель» [«Преодоление разделения» М.: ПСТГУ, 2011, Кн.1, с.419].
Правые монархисты, поскольку они враги революционной свободы, способны более реалистично ставить положительные цели. Что касается и судопроизводства: требуемая скорость и честность предъявления обвинений после ареста зависит исключительно от того как налажен полицейский и бюрократический аппарат, т.е. определяется внутренней государственной сутью того чему противостоят либералы.
Политические мыслители поэтому очень проницательно утверждают, что важнее не деление режимов на авторитарные или демократические, а то, насколько в них сильны тоталитарные тенденции, заставляют ли они общество принимать господствующие идеи для достижения целей всей системы. Левая пропаганда «ослепляет людей в отношении возможности монархического правительства учитывать интересы» совокупности подданных, когда демократические партии нередко защищают «секторальные интересы», навязывая их всем избирателям [«Michael Oakeshott. Cold War Liberalism» Palgrave Macmillan, 2015, p.8,101].
В отличие от либеральных и социалистических режимов, монархический не оказывает такого давления на общество, т.к. самостоятельно преследует вырабатываемые им политические цели, независимо от количественного одобрения правителя подданными. Монарху не нужно системой массовой пропаганды или насилия принуждать общество соглашаться с ним. Даже среди ближайшего окружения Императора Николая II далеко не все, как И.Л. Горемыкин, придерживались крайне правых взглядов. Царю не нужно было привлекать к сотрудничеству только полных своих единомышленников типа Горемыкина. Те же конституционалисты или правые либералы вполне могли работать на Николая II, сохраняя свои взгляды. Это делало монархическую систему устойчивой, привлекающей на свою сторону, а не отталкивающей.
Поэтому правые американцы, часто даже не будучи противниками демократии, старались сотрудничать с европейскими монархистами, считая их своими политическими союзниками [Lee Edwards «William F. Bucley Jr.» Regnery Gateway, 2023].
Логика политической борьбы, разработка правых идеологических систем и анализ исторического опыта системного усиления господства левых либералов и социалистов приводили к пониманию того что нужно не подстраиваться под революционную идеологию, а уходить от неё как можно дальше направо. Поучительно, какой путь, в сторону того на чём всегда стояли русские монархисты, прошли многие крайне правые американцы, оказавшиеся очень далеко от использования в качестве основополагающих принципов свободы и демократии. Так, старший редактор «Нэшнл Ревью» Брент Бозелл, один из наиболее влиятельных американских консерваторов, постепенно осознал что весь политический американизм, основанный на конституционных началах США, является по сути левым, работающим на нарастающее преобладание антихристианских принципов либералов и социалистов, и потому должен быть отвергнут всеми правыми. Брент даже переехал жить в монархическую контрреволюционную Испанию [Daniel Kelly «Living on Fire. The Life of L. Brent Bozell Jr.» ISI, 2014].
Сторонники либерализма принудительно навязывают всему человечеству отвлечённо-теоретический свободоцентризм в качестве нового основного господствующего вероучения, считая его тотально обязательным, вроде мнимой исторической неизбежности водворения социалистической формации или построения коммунизма. Слепая уверенность, будто удобный для популистского обмана неустойчивых умов льстивый либерализм это нечто безвариантно утопически прекрасное, исторически всякий раз оборачивается пособничеством либералов левым социалистам и ведёт к революционному насаждению самого худшего деспотизма.
Мечта либералов остаться победителями на руинах Монархии никогда не сбывается, их всегда сбивают более последовательные революционеры, против которых осторожные либералы беспомощны: одолеть их может только сильная Самодержавная Монархия на базе национализма, бюрократии и полиции. Но так раз её-то либералы и хотят всеми силами разрушить или хотя бы обескровить, чтобы перехватить в ней управление. Либералы пытаются усидеть в идеальном центре между правыми и левыми, но миг их торжества каждый раз оказывается мимолётным. Пока правые монархисты достаточно сильны, их мировоззрение будет определяться Христианской доктриной, как в Российской Империи, отнюдь не либеральной (умеренно-левой). Только при подрыве Самодержавной Монархии либералы могут рассчитывать перехватить управление, но чем слабее благодаря водворению либерализма и светского атеизма будут становиться правые силы, тем беспомощнее либералы будут становиться уже перед лицом левых социалистов и снова проиграют, но уже другому флангу, ибо фарисейский сладкий популизм социалистов ещё более соблазнителен и гораздо более воодушевляет жертв массовой пропаганды постановкой радикально-утопических целей. Сколько-нибудь продолжительно вынужденный компромисс между правыми и левыми длиться не может. Победит Российская Империи как воплощение крайне правых монархических идей либо же СССР как крайне левая радикальная противоположность. Эта закономерность борьбы прослеживается в каждой эпохе и на примере всех стран, где либералы терпели такие поражения от левых или правых, минуя краткий миг политического равновесия.
Безусловная ложь В. Маклакова о том, будто закоренелый либерал и политический преступник Ф. Родичев это сторонник Царя, активно распространялась в 1895 г., что вызвало опровержение со стороны К.П. Победоносцева.
Нельзя не обратить внимание на то, как в письме от 2 февраля 1895 г. высокотребовательный К.П. Победоносцев счёл многих министров, оставшихся от Александра III, не имеющими достаточно твёрдых правых убеждений. В случае с А.С. Ермоловым и министерством земледелия это могло не иметь существенного значения, но недостаток стремления к активному укреплению принципа Самодержавия в идеологической борьбе с либерализмом, по-видимому, поставил вопрос о необходимости смены И.Н. Дурново в МВД. Получается, что И.Л. Горемыкин представлялся наиболее подходящим кандидатом для результативного наступательного политического укрепления идеологических позиций правых монархистов и Самодержавной Монархии. К.П. Победоносцев также отмечал 12 января что И.Н. Дурново «ничего не понимает в деле литературы и культуры и всего боится» [«Великий Князь Сергей Александрович Романов» М.: Новоспасский монастырь, 2018, Кн.5, с.92].
1 марта 1895 г. П.С. Ванновский, извинившись за задержку с ответом, пригласил И.Л. Горемыкина нанести ему визит через два дня в 10.30 утра [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.478 Л.2].
Император Николай II отклонил предлагаемую матерью кандидатуру Д.С. Сипягина на МВД, ответив ей 21 марта 1895 г.: «конечно, Сипягин со временем будет министром внутренних дел», но пока определён в Комиссию по принятию прошений на Высочайшее имя, относительно которой Мария Фёдоровна предлагала других лиц. Следует считать, в тот момент Государь решил назначить министром именно И.Л. Горемыкина.
Н.В. Муравьёв 30 марта письменно уведомил И.Л. Горемыкина: «Жребий брошен… Сейчас получил объявляемый 2 апреля, а подписанный сегодня указ о Вашем назначении. Дай Бог Вам здоровья, сил и полного успеха – это моё горячее, искреннее и сердечное желание. Посылаю Вам для прочтения – с просьбою о возвращении – черновой экземпляр записки о мировом суде, представленный мною Его Величеству».
Многозначительнейшая латинская фраза про жребий в сопоставлении с перепиской Царя об МВД позволяет полагать что уже тогда, в марте, решение о переводе И.Л. Горемыкина прямо означало занятие им в ближайшем будущем министерской должности. Поскольку перевод из министерства юстиции на аналогичную позицию замминистра производился с полного одобрения Н.В. Муравьёва, следует считать что он, в не меньшей степени нежели К.П. Победоносцев, прямо выдвигал кандидатуру И.Л. Горемыкина для возглавления МВД, считая что это будет очень полезно для эффективного сотрудничества МЮ с МВД. Согласованная однозначная поддержка выдвижения И.Л. Горемыкина в МВД не только К.П. Победоносцевым, но и Н.В. Муравьёвым, получала в глазах Императора Николая II гораздо большую убедительность, сравнительно с тем как если бы замену И.Н. Дурново предлагал один обер-прокурор.
Со 2 апреля 1895 г. Горемыкин стал заместителем министра внутренних дел. Его прежнюю должность принял сенатор Бутовский. Чины МВД 12 апреля представлялись в приёмной И.Л. Горемыкина. Одновременно Д.С. Сипягин получил Комиссию прошений. И.И. Шамшину за управление СПб. училищем глухонемых пожаловали орден Св. Александра Невского.
Н. Манасеин поздравил И.Л. Горемыкина вечером 2 апреля: «с великим удовольствием» узнал «и весьма порадовался во 1-х за Вас, потому что Вы вступаете на обширное, достойное Вас поприще деятельности (хотя работы Вам будет очень много, а отдыха – маловато), а во 2-х за М-во Внутр. Дел, которое при Вас научится смотреть прямо и трезво на его дела и задачи… Душевный Вам привет и Бог Вам в помощь!» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.949 Л.78].
О первом времени работы в МВД известно насчёт участия в работе комиссии Н.В. Муравьёва, готовившей системный пересмотр судебных уставов 1864 г. Разработанные проекты не были реализованы. О Горемыкине в 1914 г. сообщалось, что в той комиссии он открыто выступал против института земских начальников, утверждённого в июле 1889 г., после разработки в особом совещании при участии А.С. Стишинского, в Г. Совете и министерстве юстиции.
Александра Сипягина 27 апреля 1895 г. пригласила И.Л. Горемыкина «к нам приехать отобедать» в 19 ч. 30 апреля, указав в качестве наряда сюртук.
9 мая И.Л. Горемыкин получил сообщение: «Вчера Сипягина говорила моей жене, что они едва ли возьмут Вашу квартиру, так как имеют другую в виду. В таком случае позволите просить Вас зачислить мою дочь графиню Граббе кандидатом на эту квартиру и позволить ей осмотреть оную». «Моя дочь имеет более всех прав на эту квартиру, так как она родилась в этом доме». «Если Вас не затруднит, сообщите цену».
31 мая А.С. Стишинский писал И.Л. Горемыкину насчёт имевшегося среди бумаг, представленных в МВД по Земскому Отделу, ходатайства помещика ковенской губернии Пилсудского о разрешении ему перевести его имение в Государственный Дворянский Земельный Банк.
Елизавета Петрова 8 июля 1895 г. телеграфировала в Белое: «Сердечно прошу не опоздать [с] приездом. Присутствие Ваше крайне желательно» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1080 Л.2].
23 июля граф Делянов переслал Горемыкину письмо Капниста с предложением опубликовать результаты дознания и тем отправить сигнал публике. Ведомственные взгляды не совпали, со стороны коллег Горемыкина письмо графа Капниста было воспринято как оправдание учебного начальства с ошибочным возложением вины на МВД.
К.П. Победоносцев 21 августа переслал Горемыкину письмо генерал-майора Александра Сумарокова, который 9 лет служил участковым мировым судьёй в Ковенской губернии, где отмечал сильное католическое влияние. «Мировые учреждения так хорошо влияли здесь на дух народа, так расположили население (особенно литовское) к русскому Правительству, что ксендзы и фанатичные помещики» старались подорвать доверие к ним. Мировые учреждения – «начало примиряющее», защита «от гнёта кулаков, ростовщиков евреев и сильных ещё панов», — писал А. Сумароков из г. Вилкомир.
18 сентября Царь был на панихиде по Манасеину, бывшему начальнику Горемыкина. Среди монархистов встречается мнение что именно Манасеин был наиболее значительным русским политиком эпохи Александра III [М.М. Беклемишева «А.А. Башмаков (1858-1943)» дисс. к.и.н. М.: МГУ, 2021, с.71].
В эти дни И.Л. Горемыкин жил на даче заместителя министра на Аптекарском острове.
В.К. Саблер 24 сентября в личном письме просил И.Л. Горемыкина телеграфировать губернатору об освобождении заштатного священника Щеглова, «если нет кроме указанных в телеграмме причин к его задержанию» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1195 Л.7].
Предупреждённый о предстоящем назначении министром, И.Л. Горемыкин составил записку, затрагивающую «все существенные вопросы» по МВД для К.П. Победоносцева. 25 сентября обер-прокурор вернул Горемыкину эту записку: «о подробностях переговорим при свидании – на днях я перееду в город. О раскольничьих делах я просил Саблера объясниться с вами».
И.Н. Дурново тоже знал, что уходит из МВД. В дневнике Великого Князя Сергея Александровича 3 октября обозначен продолжительный разговор на этот счёт в Царском Селе.
5 октября В.К. Саблер вернул И.Л. Горемыкину проект министерского циркуляра. «Показывал его Константину Петровичу. Никаких возражений нет. Составлен циркуляр весьма умело и вполне соответствует обстоятельствам дела». Затем Саблер 9 октября, возвращая переписку по делу об открытии молельни, одобрил действия МВД: «взгляд министерства на дело безусловно правильный».
«Правительственный Вестник» 6 октября сообщил о назначении А.С. Танеева вице-председателем Комитета попечительства о домах трудолюбия, при участии Иоанна Кронштадтского, И.Л. Горемыкина, А.А. Будберга, Галкина-Враскина, Ратькова-Рожнова, Буксгевдена, В.И. Герье, П.Л. Корфа и др.
На 10 октября к 18 ч. И.Я. Голубев приглашал И.Л. Горемыкина на обед с участием Г.А. Евреинова [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.585 Л.35].
13 октября И.Н. Дурново просил И.Л. Горемыкина заменить его на департаментском заседании Г. Совета, передав назначенные к слушанию дела. В этот день И.Н. Дурново должен был встречать Императрицу Марию Фёдоровну в Морском канале, куда она прибыла на яхте «Полярная Звезда» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.740 Л.4].
В связи со смертью председателя Комитета Министров Н.Х. Бунге и переводом на его должность И.Н. Дурново, 16 октября 1895 г. обнародованным «высочайшим приказом» «преемником д. т. с. Дурново назначен сенатор, тайный советник И.Л. Горемыкин, занимавший до сих пор должность товарища министра внутренних дел и по обычаю начинающий своё новое служение в качестве “управляющего министерством”» [«Всемирная Иллюстрация», 1895, №1395, с.302].
16 числа А.В. Богданович записала, будто не один Победоносцев, но и Витте выдвинул Горемыкина. Это одна из бессчётных её ошибок.
Сплошные вымыслы о назначении Горемыкина записаны в мемуарах Витте, который сочинил, будто Николай II «всё время не решался – кого назначить», но стоило только Царю перекинуться парой слов с Витте, то моментально вышел указ. Так создаётся мифология о бесконечной нерешительности, хотя окончательное решение о Горемыкине Николай II принял ещё в марте, а за все следующие месяцы не имел колебаний и не менял принятого решения. Но Витте ничего не знал о делах Царя, его не касавшихся. Такая же ложь у Витте, будто Горемыкин не занимался делами МВД пока не получил формальной министерской должности, а не временного управляющего, «потому что каждый день мог быть назначен другой министр» [С.Ю. Витте «Воспоминания» М.-Пг.: Госиздат, 1923, Т.1, с.28-29].
Ничего такого не было, поскольку Горемыкин тоже с марта знал о твёрдом решении Царя назначить именно его, никто другой на МВД не мог претендовать. Не накапливалось в МВД нерешённых дел, они придуманы только ради поддержания клеветы про мифическую лень Горемыкина. Витте ошибается, вообразив, будто, когда был перемещён И.Н. Дурново, назначение И.Л. Горемыкина не явилось одномоментной полноценной и безвариантной его сменой. Практически всё написанное Витте в мемуарах имеет такую же, нулевую ценность.
В Царском Селе 18 октября Великий Князь Сергей Александрович отметил любезную беседу с новым министром.
19 октября 1895 г. Ламздорф записал в дневнике, что состоявшееся назначение Ивана Горемыкина оказалось не из числа наиболее предсказуемых кандидатов, но новый управляющий имеет репутацию человека серьёзного, способного «принести пользу». О смене И.Н. Дурново не жалеют [В.Н. Ламздорф «Дневник 1894-1896» М.: Международные отношения, 1991, с.278].
М.Л. Казем-Бек, всегда хвалившая Горемыкина, считала Дурново весьма ограниченным. Что напоминает претензии Победоносцева.
По справедливости, надо отметить что И.Н. Дурново сделал выдающуюся карьеру и не стоит недооценивать министра, чьё место Царь передал Горемыкину. В.П. Мещерский очень хвалил работоспособность И.Н. Дурново (в более ранние годы старался по 18 ч. в день), теплоту сердца и горячность души, тактичность, честность, следование рыцарским преданиям времён Николая I.
Газета «Новое Время» для характеристики И.Л. Горемыкина упомянула «серьёзную трудовую школу» карьерного возвышения за счёт неутомимого труда, отличающегося «высокой честностью», твёрдых убеждений, приверженности законности. «Новости» собрали сведения о Горемыкине, выяснив, что в каждом из ведомств, в Сенате, в МВД и минюсте он проявил «чрезвычайную энергию» и «глубокое знание дела», получил самый обширный опыт работы. «Биржевые Ведомости» отметили знание крестьянского дела. Журнал «Гражданин» сообщил, что личность И.Л. Горемыкина вызывала симпатии к нему на службе, а опыт провинциальной административной школы убедил его в необходимости сильной власти для созидательной её работы.
Согласно «Новому Времени», планы о назначении именно Горемыкина долго держались в секрете, несмотря на давние разговоры среди чиновников об уходе И.Н. Дурново. Интересно отметить и мнение газеты, что Горемыкин не принадлежит ни к одной из т.н. партий и потому может проводить совершенно самостоятельную собственную политику.
В обзорах польской печати тоже отмечалась испытанная честность Горемыкина, определённость и неуклонность его взглядов [«Южный Край» (Харьков), 1895, 25 октября, с.2].
Сразу надо полностью опровергнуть наиболее распространённые лживые легенды, часто повторяемые некомпетентными историками относительно назначения Горемыкина.
Поговорка «а кто ныне не подлец», которую в мемуарах Витте вменил Победоносцеву относительно назначений министров, на самом деле была широко распространена в печати и изустно, и Витте мог её заимствовать даже из материалов прессы времён создания записок [Архиепископ Никон (Рождественский) «Православие и грядущие судьбы России» М.: Новая книга, 1994, с.65]. Впервые пытался приписать Победоносцеву фразу «кто нынче не подлец» В.П. Мещерский в «Гражданине» за ноябрь 1887 г., в самый разгар первого ожесточенного расхождения, капитально рассорившийся с ним после истории с горнистом. Речь шла о кандидатуре заместителя министра Н.А. Сергиевского [В.П. Мещерский «Письма Императору Александру III. 1881-1894» М.: НЛО, 2018, с.502].
Так что воспоминания приближённого Мещерского ошибочно относят эту же фразу: «кто, батюшки, нонче не подлец» к мнению К.П. Победоносцева о каком-то своём помощнике. Расхождение нескольких версий превращает все их в набор сплетен [С.В. Фомин «Боже! Храни своих!» М.: Форум, 2009, с.412].
То же касается и поговорки про кагал, использованной Витте. В статье про евреев в 1881 г. встречается выражение, как сильно распространена у них протекция между своими: «в искусстве тащить друг друга они не уступят «правоведам»» [Н.П. Гиляров-Платонов «Жизнь есть подвиг, а не наслаждение…» М.: Институт русской цивилизации, 2008, с.686].
В обоих случаях сочинитель пасквиля, Витте опирался не на конкретный живой пример, к какому был бы лично прикосновенен, а использовал расхожие фразы, популярные шуточки, напрямую не относящиеся к назначению Горемыкина, которое якобы обсуждалось Витте с Николаем II. Так что когда И.Л. Солоневич свои представления о «правящем слое России» основывал на воспоминаниях Витте, это является самым неудачным примером опоры на самый ненадёжный источник [К.Н. Сапожников «Солоневич» М.: Молодая гвардия, 2014, с.34].
Что же до заурядных историков, использующих ту же затасканную фразу, то у них наблюдается паралич по части исследовательских способностей и интеллектуальных расследований.
Заведомо надуман и тип анекдота про Александра III, что он понимает доклады И.Н. Дурново, а сам министр – нет. В рассказе А.В. Кривошеина, записанном М.Л. Казем-Бек 22.12.93, говорится, будто Александр III не понимает доклады Вышнеградского. Но позже шутку подправят, заменив его на Витте. К эпохе Александра III восходят и жалобы на то что Царь соглашался с министрами, а потом отменял распоряжения. Никакого отличия от претензий к Николаю II, вопреки мифологии об обратном, продвигаемой Витте. Одинаковый политический фольклор перекочёвывал из одной эпохи в следующую, только имена заменялись.
В самом начале 1900-х попытку опорочить И.Л. Горемыкина предпринял в мемуарах А.Н. Куломзин, находившийся с ним в неприязненных отношениях. Куломзин назвал Горемыкина неглупым, но ленивым «до крайности», легкомысленным и самоуверенным, в 1895 г. тот «принялся за дело без определённого плана», собираясь лишь угождать Императору и сберечь своё место. Поскольку всё изложенное легко опровергнуть, следует сомневаться и в том, будто Горемыкин пренебрежительно отзывался об отметах Государя на отчётах: «да что же нам отвечать на каждую его мазню» [Б.В. Ананьич, Р.Ш. Ганелин «Николай II» // «Вопросы истории», 1993, №2, с.61].
Нет сомнений, пристрастие Николая II к резолюциям на докладах увеличивало трудозатраты по оформлению и реагированию. Это могло вызвать какую-либо реплику, в случае когда резолюции не имели существенного значения. Но по переписке Горемыкина видно что монархисты считали отзывы Царя главнейшими руководящими указаниями и доклады делались именно для того чтобы резолюции получить.
Неизменно демонстративная монархическая преданность Горемыкина лежала в основе его положительной репутации. Вот о Куломзине такого не сказать. Надо учесть личные счёты: Куломзин был уволен в мае 1906 г., когда Горемыкин возглавил правительство. Киреев писал, что тогда Царь выслал Куломзина на 4 месяца за границу из-за поддержки им проектов нарушения неприкосновенности частной собственности, которую защищал Горемыкин. «Византийцы они», – неодобрительно отозвался Куломзин на председательство Горемыкина в Совете Министров [«Вопросы истории», 2009, №8, с.37].
Сотрудник Канцелярии Комитета Министров запомнил Куломзина беспокойным и склонным к горячке. По одному этому несходству характеров с Горемыкиным они не ладили, ибо наш герой «отличался невозмутимым спокойствием». Горемыкин создал себе имя как человек «умный» и довольно сдержанно относился к случаям передачи в революционную печать министерских бумаг [Н.Н. Покровский «В Мариинском дворце» М.: НЛО, 2015, с.71, 417].
Стыдиться им было нечего, поэтому, в отличие от американской администрации, призывавшей к смертной казни для организаторов утечек в Викиликс, И.Л. Горемыкин и не думал нервничать. Н.Н. Покровский даёт пояснение и относительно пометок Государя, который считал нужным внимательно читать отчёты и ставил очень много резолюций. Они распределялись по ведомствам, и к ним либо давались отписки для Комитета Министров или же, по словам К.П. Победоносцева, они предавались там забвению. Такой порядок ведения дел в правительстве Куломзин напрасно вменил в вину одному Горемыкину.
В 1895 г. после назначения министром И.Л. Горемыкин призвал на государственную службу и назначен пензенским губернатором харьковского уездного предводителя дворянства князя П.Д. Святополк-Мирского. Следует с осторожностью использовать дневник его жены, записывавшей с живописными подробностями длинные беседы, при которых сама она не присутствовала. Большие сомнения вызывает и точность приписываемых Горемыкину высказываний о Николае II: «помните одно: никогда ему не верьте, это самый фальшивый человек, какой есть на свете» [М. Ефимов, Д. Смит «Святополк-Мирский» М.: Молодая гвардия, 2021, с.31-32].
Е.А. Святополк-Мирская в 1904 г. много негодовала насчёт идеологического неприятия Императором Николаем II либерализма. Эта деталь проходит проверку по другим источникам. Такое же возмущение вызывало у неё нежелание Государя подчиняться отдельным министрам, которым не удавалось продавить желаемые ими политические решения. Только в этом смысле недовольство Царём имеет реальную подоплёку, что не даёт оснований верить в точность записи слов Горемыкина. Если они и были сформулированы, то несколько иначе. Р.Ш. Ганелин не потрудился ничем подкрепить голословное мнение, будто записи делал сам министр под видом дневника жены.
Правильно интерпретировать возможно и запись Е.Н. Шелькинга, что Николай II «считал себя “отмеченным несчастием” и, к справедливому ужасу И.Л. Горемыкина, признавался ему в этом». Вполне достоверно, что Царь многим приближённым говорил про уготованные ему страдания, имел на то все основания и оказывался прав. Однако Шелькинг явно преувеличивает, называя восприятие И.Л. Горемыкина ужасом. Не похоже, что это в характере его христианской невозмутимой уверенности. Мемуарист вполне может спутать психологический диагноз, не вполне точно подбирая определение, принимая за ужас огорчение, сострадание, удивление. Или попросту приписывать собеседнику свои внутренние ощущения.
Расхваливаемый советскими псевдоучёными памфлетист Обнинский уверял, что Горемыкин в МВД занимался не крестьянскими делами, а беззаботно искал удовольствия, наслаждался множеством волочащихся за ним женщин, раздавая им «места». Эта выдумка настолько же экстравагантна, сколько однотипна и является банальной вариацией будущего распутинского мифа. Обнинский, надо полагать, сам ничего не выдумал, а добросовестно пересказал все запомнившиеся ему сплетни, включая и те, где на докладах Царю Горемыкин «имитировал сцены, устраиваемые ему возлюбленными». Столь же достоверны рассказы, будто Горемыкин лил «ручьи» «слёз в царском кабинете», жалуясь на Витте [В.П. Обнинский «Последний самодержец» М.: Республика, 1992, с.32].
Затем Обнинский договорился до того, что Горемыкин попросту выжил из ума. Всё что мы знаем о супружеских идеалах, цельном образе жизни Николая II и Горемыкина, полностью противоречит тому что большевицкие историки зовут несомненно достоверным в этом низкопробном продукте либерально-масонской клеветы и лицемерном панегирике парламентаризму. Важно подчеркнуть, насколько далеки противники Императора Николая II были от понимания русской политической реальности и насколько ничтожны их критические выпады.
Разновидности невероятных сплетен обнаруживаются в дневнике А.С. Суворина 14 апреля 1896 г.: «Горемыкин женат на сестре Зеленко, а Петров, бывший шеф жандармов, на другой его сестре. Рассказывают разные другие гадости» (в изд. 1923. воспроизведено в неполном и искажённом виде). Досконально зная родословную семьи Горемыкиных, можно начисто опровергнуть этот вздор, поскольку никакой такой сестрой А.И. Горемыкина (Капгер) не являлась и других таких сестёр у неё не имелось. Это полнейшая туфта, как и истории Обнинского. Комплекс таких вымыслов воспроизводил в «Битве документов» мало способный к критике источников Р.Ш. Ганелин.
И.Н. Дурново простился с сотрудниками МВД, выразив им благодарность за помощь в трудной деятельности.
17 октября МВД утвердило устав убежища для престарелых театральных работников, разработанный Русским театральным обществом. Для собрания правоведов И.Л. Горемыкина попросили дать распоряжение цензорам присылать все статьи из газет и журналов о будущей деятельности министра. «Чтобы избавить тебя от упрёка в хлестковщине и в самовосхищении, скажи Феоктистову, чтобы названные статьи он отсылал ко мне непосредственно», «особенно интересны для нас, правоведов, будут “ругательные” статьи, иначе он будет присылать только хвалебные». Эту просьбу новый министр исполнил.
Историк А.Е. Пресняков в письме матери от 17-19 октября сообщал что у И.Л. Горемыкина репутация «умного, знающего и порядочного человека».
Граф Алексей Игнатьев, давний знакомый Горемыкина, 21 октября попросил у него аудиенцию.
В октябре 1895 г. министр Горемыкин распорядился взять под контроль переписку уехавшего в том же году в Англию сектанта И.С. Проханова. Были перехвачены его письма жителям С.-Петербурга [В.С. Измозик «Чёрные кабинеты: история российской перлюстрации» М.: Новое литературное обозрение, 2015, с.195].
23 октября Феоктистов дал объяснение относительно негодования С.Ю. Витте: Розенблум, член Российского Телеграфного Агентства, еврей, печатающийся под псевдонимом Львов, сослался на «Правительственный Вестник» в своей телеграмме, используя рубрику материалов иностранной прессы официальной газеты.
Возвратившийся в С.-Петербург Великий Князь Константин Константинович контактировал с министром Горемыкиным относительно дел общества, которое бы оказывало помощь нуждающимся школам. 24 октября Константин Победоносцев, граф Голенищев-Кутузов, И.Л. Горемыкин, а затем и Витте убедили Великого Князя, что общество ревнителей не следует делать излишне обширным – это сделает его недееспособной беспорядочной толпой.
25 октября К.П. Победоносцев на один день пересылал И.Л. Горемыкину какую-то «архи-конфиденциальную» записку, о которой никому не полагалось сообщать. Обер-прокурор предупреждал также, что может вернуться в Петербург уже завтра, после чего у них планировалась встреча.
К.П. Победоносцев в письме к Рачинскому охарактеризовал Горемыкина 26 октября 1895 г.: «первый в России знаток крестьянского дела и деревню знает не на бумаге только. Не принадлежит к числу канцелярских верхоглядов». Мало способный помещать источники в реальный исторический контекст биограф обер-прокурора пишет, будто Горемыкин сразу после назначения стал получать от Победоносцева письма с руководящими указаниями (что неправда), однако, согласно письмам Константина Петровича уже за декабрь 1899 г., министром Горемыкин «был ленив и равнодушен до крайности и избегал всяких личных отношений и бесед», «в течение всего своего правления он ни разу не последовал моей рекомендации и ни разу ничего не сделал, о чём я просил его» [А.Ю. Полунов «Победоносцев» М.: Молодая гвардия, 2017, с.259, 161].
Ввиду беспомощной бессмыслицы тавтологий комментариев Александра Полунова, следует пояснить: раздосадованный от потери собственного влияния на министров К.П. Победоносцев повторил чужие пересуды о лени, ходившие из-за отсутствия каких-то реальных грехов, могущих дать почву для злословия. Нежелание исполнять чужие распоряжения следует поставить в заслугу Горемыкина, потому и уклоняющемуся от чрезмерно частных встреч (дневник Константина Петровича и переписка указывают на великое их множество, оказавшееся, однако, недостаточным для неисчерпаемых возжеланий обер-прокурора). Стремление Горемыкина ради службы Царю оградиться от такого рода просителей, осаждавших министра, желающих припасть к источнику власти, всякий обойдённый вниманием может попытаться объяснить ленью и едва ли окажется прав.
Равнодушием тоже удобно именовать неприязнь Горемыкина к верхоглядству и сплетням, ко всякой иной лишней болтовне. Именно это свойство личности Горемыкина завоевало приязнь к нему Императора Николая II.
Среди бумаг Горемыкина имеется характеристика, составленная на него для А.С. Танеева (судя по имени и отчеству в обращении) и I Отделения Канцелярии Е.И.В., за время занятия должности заместителя министра юстиции. В ней подчёркивается способность «трудиться со свойственною ему энергиею» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.85].
Это можно сказать и про труды в качестве министра. «От французского minister – “служитель”» [А.В. Булычева «Бородин» М.: Молодая гвардия, 2017, с.166].
Без необычайной трудовой напористости Горемыкин не сумел бы сделать самую выдающуюся за его эпоху бюрократическую карьеру, попутно опубликовать выдающиеся исследовательские труды, заниматься семьёй с тремя детьми, благотворительностью в пользу крестьян его губернии. Так что обвинения в лени – плод обмана, зависти и клеветы.
Письма Победоносцева опровергают ходившие в 1895-1896 годах легенды, будто Витте объединился с Победоносцевым и они стали главной силой в правительстве, а другие министры – «пешки». Такое слышали от чиновника одного из петербургских департаментов [В.В. Розанов «Загадки русской провокации (Статьи и очерки 1910 г.)» М.: Республика, 2005, с.207].
И.Л. Горемыкин стал полновластным министром, осознающим значение государственной миссии, не подчиняясь ни Победоносцеву, ни Витте, ни Муравьёву, ни Великому Князю Сергею Александровичу. Всем им казались недостаточны имевшиеся у них полномочия. Отсюда истекают их недовольства. Отсутствие снедающего властолюбия у Горемыкина выгодно выделяет его.
Барона Н.А. Гревеница (1848-1898) И.Л. Горемыкин одним из первых своих назначений 26 октября 1895 г. сделает своим ближайшим доверенным сотрудником в качестве директора Департамента Общих Дел [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.432 Л.1].
Александра Сипягина, называя себя «Вашей старинной знакомой», 4 ноября обратилась с ходатайством за Н.В. Протасьева, желавшего назначения вице-губернатором. «Я не умею просить и потому простите, если что-нибудь выражаю не как должно. Никогда не решилась бы побеспокоить Вас, но желание помочь Протасьеву пересилило мой страх. От всей души поздравляю Вас с новым назначением, которое так сердечно радует меня и всех. Мне кажется, что Вы именно принесёте наибольшую пользу. Верьте, многоуважаемый Иван Логгинович, что это не пустые слова, а искреннее моё мнение. Не откажите сообщить мне, могу ли я надеяться на исполнение моей просьбы» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1201 Л.3].
По-видимому, в бюрократических кругах было широко известно о том что Д.С. Сипягин также претендовал на МВД, поэтому Александра Сипягина старалась показать что выбор Царя их вовсе не огорчает и они нисколько не настроены против И.Л. Горемыкина из-за оказанного ему предпочтения. Жаль что погрязший в сутяжничестве С.Ю. Витте не следовал положительному примеру семейства Сипягиных.
5 ноября Феоктистов сообщил Горемыкину, что профессор Чупров, руководитель газеты «Русские Ведомости» на 2-3 дня в Петербурге и ему надо назначить приём.
Чуть ранее, его коллега И.И. Янжул оббегал весь Петербург, о чём писал жене 19 сентября 1895 г.: «Очень хлопочу о бедном Чупрове», которому граф Делянов предложил «подождать с чтением лекций». «Надо серьёзно похлопотать в Москве у генерал-губернатора: думаю съездить к Боголепову и его попросить». «Какое огромное лишение – смерть Бунге, он бы наверняка всё устроил к общему благополучию. Сегодня ездил даже к Плеве, хотел попросить хоть его заступиться за бедняжку, но увы, Плеве ещё в Костромской губ. Муравьёва и Витте – также нет в Петербурге. Вл. Ив. Ковалевский – неуловим: сегодня его не застал дома в 9 ½ утра. Он назначает мне через Познера свидание завтра» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.566 Л.158-159].
В эмигрантском «Возрождении» П.Б. Струве потом назовёт Чупрова, наряду с редактором «Вестника Европы» К.К. Арсеньевым, руководителями «либерально-оппозиционного» настроения, подогреваемого ими в общественном мнении [Пётр Струве «Критические заметки» М.: Модест Колеров, 2020, с.35].
17 ноября И.Л. Горемыкин принимал банкира Я.С. Полякова, который в дневнике записал: «Принял любезно, даже угостил папироскою. А прежде держал очень долго пока принял. Полагаю, что он не совсем знал, кого он принял». В этот день К.П. Победоносцев писал Горемыкину: «я заезжал было к Вам сегодня. Вчера приехал вызванный мною из Киева чиновник Скворцов, коего я посылаю на Кавказ по известному делу. Я уже ознакомил его с бумагами, от Вас присланными». «Несомненна связь этого дела с Хилковым, а я не знаю где именно Хилков водворён и какие есть о нём сведения в Д-те полиции. Я адресую его для сего к Сабурову».
Н.П. Долгово-Сабуров, директор Департамента Общих Дел МВД, был назначен заместителем министра. Подобно Горемыкину, он ранее участвовал в подавлении восстания 1863 г. и обустройстве дел польских крестьян. Однако он уже переживал тяжёлую болезнь, о чём сообщалось в газетах.
24 ноября Великий Князь Сергей Александрович после Победоносцева и Муравьёва впервые отмечает встречу с И.Л. Горемыкиным в дневнике и пишет о знакомстве: «кажется, сухой формалист – желал бы ошибиться». Часто встречаясь с Н.В. Муравьёвым, Великий Князь постоянно упоминает длительные интересные беседы с ним. Горемыкин не проявлял такой разговорчивости [«Дневник московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича» Пермь, 2021, с.293].
Лично И.Л. Горемыкин принял и доктора Моисея Слуцкого из Кишинёва. «Я вошёл в кабинет министра, он любезно протянул мне руку и указал кресло. Я изложил скорбную историю больницы. Министр терпеливо и внимательно выслушал меня, и когда я кончил, объявил мне: «Ваше ходатайство будет удовлетворено»». Не оправдались слухи, будто для успеха непременно требуются взятки. «Я взяток никому не давал». Сумма в 33 958 р. была предоставлена в распоряжение больницы 2 декабря 1895 г. [М.Б. Слуцкий «В скорбные дни: Кишинёвский погром 1903 года» СПб.: Нестор-История, 2019, с.99-100].
4 декабря К.П. Победоносцев прислал И.Л. Горемыкину записку, «вытребованную мною из Харькова. Она показывает, какая язва пущена в народ Толстым и Хилковым».
И.Д. Делянов 6 декабря просил И.Л. Горемыкина назначить время «для заседания по делам Московского университета» с участием Н.П. Боголепова и П.А. Некрасова [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.714 Л.9-10].
7 декабря 1895 г. Николай II повелел Горемыкину начать рассмотрение возможности изменения временных правил 3 мая 1882 г., запрещавших водворение евреев в сельской местности и приобретение в них недвижимого имущества. Горемыкин дал Комитету Министров запросить мнение местного начальства.
Во всеподданнейшем докладе 7 декабря 1895 г. Император позволил Горемыкину испрашиваемый им безотлагательный пересмотр действующих постановлений об административной высылке, в соглашении с министром юстиции.
Н.В. Муравьёв 8 декабря препроводил И.Л. Горемыкину для подписания общий всеподданнейший доклад об изменении порядка заведывания тюремной частью.
Болтун А.А. Киреев писал 9 декабря 1895 г.: «дурака Дурново убрали — но что за человек Горемыкин? Какой‑то homo novus et incertus??? Государь, кажется, человек, доступный всему хорошему и преданный России… Дай‑то Бог! Но нужна твёрдая система» [«Русский сборник», 2014, Т.16, с.174].
Дневник генерала Киреева достаточно часто используется историками Российской Империи. Насчёт него в дальнейшем следует помнить, что это тип легкомысленного славянофила, помешавшегося на ложной утопии земского собора, преувеличивающего его спасительное значение. Помимо не самых адекватных политических взглядов, в 90-е Киреев также обвинялся сторонниками царского самодержавия и русскими священнослужителями и богословами в пропаганде папско-лютеранских идей за проталкивание сближения со старокатоликами, приводящее к борьбе с православным учением и его сторонниками. По предположению профессора А.Ф. Гусева, Кирееву содействовал В.К. Саблер [Т.И. Буткевич «Как иногда присуждаются учёные степени в наших Духовных Академиях» Харьков: Тип. журнала «Мирный Труд», 1909, с.15, 147].
Не всем назначение Горемыкина понравилось. Памфлетисты начали издевательства над фамилией министра. «Друг, не верь пустой надежде» как значится в посмертной публикации серии дебильных стишков, записанных Пуришкевичем, сготовлен уже в конце 1895 г.
9 декабря были арестованы деятели «Союза борьбы за освобождения рабочего класса» вместе с В. Ульяновым. В одиночную камеру №193 дома предварительного заключения на Шпалерной улице Ленина привезли поутру. Обвиняли его в распространении революционной литературы из-за границы, выпуске подпольной газеты и передаче денег на поддержание забастовки рабочих.
Выпуск газеты удалось сорвать, с.-д. пришлось снова напирать лишь на листовки, убеждая, что революционная организация продолжает свою работу и не уничтожена, а стачка должна длиться дальше. Что побудило полицию производить следующую череду арестов, преимущественно среди студентов и курсисток – основного актива с.-д. [Наталья Баранская «Странствие бездомных» М.: АСТ, 2011].
Министр Земледелия А.С. Ермолов 10 декабря ходатайствовал перед Горемыкиным за назначение своего товарища по лицею Катенина.
Записка И.Л. Горемыкина от 11 декабря 1895 г. свидетельствует о начале его деятельной борьбы с революционным движением: «С конца минувшего года замечено было усиление брожения среди рабочих на некоторых фабриках и заводах г. С.-Петербурга, выразившееся в неоднократных стачках и забастовках. Обстановка последних позволяла заключить, что они происходят не без влияния извне со стороны лиц, занимающихся в столице преступной пропагандой среди рабочих. Вследствие сего были приняты меры особого наблюдения и розыски, выяснившие действительное существование в Петербурге особого кружка «социал-демократов», состоящего как из лиц интеллигентных, преимущественно учащейся молодежи, так и распропагандированных ими рабочих.
Данными наблюдения установлено, что несколько молодых людей, составив из себя отдельную группу, присвоившую себе название «Центрального рабочего кружка», в течение настоящего года, войдя в сношения с рабочими, организовали из последних «Центральную рабочую группу» и, благодаря её содействию, успели образовать между рабочим населением столицы несколько противоправительственных кружков в разных фабричных местностях города. Действуя в означенных кружках, главным образом, путём устной личной пропаганды «Центральный кружок» вместе с тем прибегал к созывурабочих сходок, распространению среди рабочих противоправительственных изданий, воспроизведению последних путём перепечатания на пишущих машинах и гектографах, сбору денег в рабочие кассы и т.п. Вместе с тем, пользуясь проявлением брожения или волнения среди рабочих того или другого завода, кружок стремился взять дальнейшее движение в свои руки и оказывать всякими путями содействие к продолжению беспорядков.
Принимая во внимание, что за последние месяцы кружок стал проявлять особо энергическую деятельность, приобретать материалы и инструменты для печатания и воспроизведения преступных изданий, а равно принял деятельное участие в происходивших в ноябре и декабре месяцах рабочих волнениях на Путиловском и Торнтоновском заводах, – признано было своевременным приступить к обыскам и арестам участников названного кружка. Обыски эти произведены в ночь на 9 сего декабря и вполне подтвердили имеющиеся указания на преступную деятельность заподозренных лиц.
Из числа лиц, у коих произведены обыски, подвергнуты аресту 29 и оставлено на свободе 17; в числе арестованных: 1помощник присяжного поверенного, 3 инженера-технолога, 1кандидат университета, 1 врач, 4 студента технологического института, 1 студент университета, 2 слушательницы высших женских курсов, 5 человек разного звания и 11 рабочих.
Об изложенном долгом считаю всеподданнейше доложить вашему императорскому величеству, присовокупляя, что по делу этому возбуждено расследование при С.-Петербургском губернском жандармском управлении.
Министр внутренних дел Горемыкин» [«Красный Архив», 1939, Т.93, с.123-124].
Революционные провокации пропагандистов ничего не давали рабочим, т.к. полученные от стачек убытки даже в случае получения требуемых прибавок к зарплате долго ими компенсируются [С.Ю. Витте «Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве» М.: Юрайт, 2015, Т.1, с.183].
По желанию Государя Горемыкин и Муравьёв представили совместный доклад по вопросу освобождения МВД от заведывания местами заключения и о передаче их в минюст. 13 декабря Царским Указом эта передача состоялась и дальнейшая разработка законов по арестантским и пересыльным делам возлагалась на ведомство Н.В. Муравьёва, где образовалась особая комиссия.
В письме Великого Князя Сергея Александровича 16 декабря появление в Москве И.Л. Горемыкина «у меня» эмоционально отмечено двумя восклицательными знаками. «Остаётся два дня – свои-то дела я обделал с ним; даём ему сегодня обед. При свидании расскажу курьёзы». Великий Князь по результату долгой беседы внёс в дневник мнение, что толку от Горемыкина будет мало [«Великий Князь Сергей Александрович» М.: Новоспасский монастырь, 2018, Кн.5, с.57].
Забота о защите монархического принципа вызывала со стороны Великого Князя такие же опасения и насчёт вероятности отсутствия у Императора Николая II твёрдой руки, но подозрения не оправдались. Демонстративное же написание про Горемыкина слова «Сам» с прописной буквы можно понять как указание на решение министра держаться полной политической самостоятельности, которая вызовет недовольство всех, кто хотел бы использовать МВД в собственных интересах. Именно этим более всего будут недовольны Победоносцев, Муравьёв и Витте. Полагаю ровно тот же смысл что и слово «Сам» имеет словечко «великий» использованное Великим Князем относительно Витте в 1899-м.
17 декабря Великий Князь Сергей Александрович ещё раз завтракал и разговаривал с Горемыкиным, который также принимал представителей учреждений и ведомств, после чего вернулся в С.-Петербург.
Циркуляром Горемыкина 18 декабря 1895 г. предписывалось обязательно заносить в приёмные формулярные списки данные о медицинском переосвидетельствовании новобранцев в губернском военном присутствии в случаях, если уездные или городские присутствия по воинской повинности принимают на военную службу не единогласно или при наличии несогласных мнений врачей.
В декабре правителем канцелярии МВД при Горемыкине стал А.А. Хвостов. Фамилия соратника Горемыкина Хвостова стала символизировать верность монархическому принципу. Как признаёт большевицкий номенклатурный академик, принадлежность к этой фамилии в СССР даже после победы сталинизма в 1945 г. если не наводила дамокловый меч, то лежала угрожающим подводным камнем [Ю.А. Поляков «Историческая наука: люди и проблемы» М.: РОССПЭН, 1999, с.252-253].
Относительно А.А. Хвостова в письме от 26 марта, вероятно, следующего года (не указан) обер-прокурор отмечал слухи о планах И.Л. Горемыкина отдать ему Земский Отдел МВД. К.П. Победоносцев счёл что такое назначение «будет в известном отношении неудобно – как и назначение Красовского. Так мне кажется».
В одном ранее отправленном Горемыкину письме без даты и разборчивой подписи есть предупреждение: «берегитесь, милейший Иван Логгинович, Красовского, который везде кричит, что он Вас законопроектами заест. Следует доказать, что все эти законопроекты мальчишеская погремушка, которою пускает пыль в глаза этот неразборчивый на средства нахал. Затем обратите внимание на слишком частые побеги этого мерзавца к Министру [Манасеину]; постарайтесь удержать за собою должное влияние и значение Тов. Министра». «Вообще вас окружает большая сволочь» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1436 Л.19].
Если Горемыкин сам выдвигал в МВД Красовского, то он не придавал значение доводам неизвестного доброжелателя. М.Л. Казем-Бек при знакомстве с Красовским находила его умным, но очень невоспитанным и смеялась над выговором его жены: раут, венчанье. Позднее М.В. Красовский станет одним из лидеров партии октябристов.
Новым, вторым заместителем Горемыкина, был назначен Н.А. Неклюдов, в чём видели подтверждение намерение министра сделать упор на занятие обустройством крестьянских дел. Показателем открытости чиновников Империи был доступ нуждающихся к Неклюдову в здании МВД по вторникам в 13-15 ч. Неклюдов автор капитальных исследований по русскому уголовному праву, руководства для мировых судей, учился у В.Д. Спасовича. В Сенате Неклюдов служил обер-прокурором уголовного кассационного департамента, общего собрания кассационных департаментов и кассационного присутствия. Также Неклюдов участвовал в учреждении Юридического общества и его работе. Изучая постановку судебного дела во Франции, Неклюдов не стремился сделать всё как в Европе, а давал в переписке критические замечания к действиям как французской прокуратуры, так и защиты. Неклюдов также возглавлял подготовительную комиссию по разработке юридических вопросов, касающихся общего законодательства России и Финляндии, для устранения несогласованностей.
С Неклюдовым Горемыкин хорошо сработался ещё при Манасеине, о чём говорит та же анонимка, что министр юстиции «посылал наши законопроекты на заключение об.-пр. Неклюдова и Ваши. С осторожностью можно пользоваться этим средством».
Петербургский градоначальник В.В. Валь 18 декабря был сменён на Н.В. Клейгельса.
19 декабря В.К. Саблер прислал Горемыкину прошение за чиновника особых поручений Витебского губернатора, предлагая его на место предводителя дворянства. «Число школ умножается. И думаю, что Золотарёв сумеет принести там столь ожидаемую от него пользу».
И.Л. Горемыкин навещал К.П. Победоносцева 22 декабря. «Заговорившись», обер-прокурор только на следующий день припомнил дело, ради которого утром заезжал с Горемыкину с запиской о том, что в Полтавской губернии «некоторые земские начальники» «бесчинствуют у нас самовольно со школами», «найти на них управу у губернатора невозможно». «Самому вам утомительно читать, но вы может быть поручите кому-нибудь прочесть и доложить вам».
В переписке И.И. Янжула по проблеме возможности снятия земского начальника, в 1900 г. отмечалось, что это находится вне власти губернатора. «Это зависит от Мин-ва Вн. Д., но конечно губернатор может найти повод и во всяком случае решения МВД определяемы в значительной степени его влиянием и репутацией губернатора в Мин-ве» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.566 Л.95].
23 декабря 1895 г. Н.В. Муравьёв прислал И.Л. Горемыкину просьбу «до свидания со мною не решать вопроса о назначении представителя Вашего министерства в Комиссию Таганцева по тюремному переустройству. Я имею виды на тобольского губернатора Богдановича и хотел бы с Вами переговорить по этому поводу. Буду у Вас на днях».
В одном из последних писем Страхова за 25-26 декабря отмечено, что всякие революционные и либеральные движения в Петербурге утихли. Самодержавная Россия «шаталась немножко, но потом вдруг упала и остановилась на своём прежнем основании» [Л.Н. Толстой – Н.Н. Страхов «Полное собрание переписки» Оттава, 2003, Т.2, с.1023].
Но оппозиционные вспышки встречались в земстве. 25 декабря 1895 г. В.К. Саблер писал: «слышанием брани Тверской наполнился наш град. Кто умиротворит мятущихся? Думаю что этой способностью обладает Б.В. Штюрмер» [Архиепископ Тверской и Кашинский Савва «Хроника моей жизни. Автобиографические записки. 1891-1896» Сергиев Посад, 1911, Т.9, с.513].
27 декабря 1895 г. А.В. Богданович писала о затеянной Горемыкиным ревизии сумм Департамента Полиции. По разным слухам, Горемыкин либо желал найти злоупотребления И.Н. Дурново, либо же покрывал Н.П. Петрова, своего приятеля, за недостачу на время его управления департаментом.
Судя по их переписке за предыдущие и последующие годы, когда И.Н. Дурново нередко брал предлагаемые И.Л. Горемыкиным театральные билеты, личные отношения с бывшим министром у Ивана Логгиновича сложились самые тёплые и не наблюдалось никакой вражды или конкурентной борьбы, чтобы И.Л. Горемыкин копал под И.Н. Дурново. Сплетники и близко не угадывали ход настоящих событий – таковы и воспоминания Витте.
Св. прав. Иоанн Кронштадский в личном письме от 29 декабря просил И.Л. Горемыкина вступиться за молодого человека, высланного московским градоначальником Власовским в Архангельскую губернию «за поступки, не превышающие значение обычных шалостей, которых так много в больших городах, и которые проходят для них безнаказанно или с некоторым арестом. Я стою близко к этой семье, как духовный отец некоторых членов этого дома и знаю дело точно. Если бы Вам было угодно – я объяснил бы Вам мотивы суда над означенным молодым человеком наедине, потому что в письме не всё можно писать. В виду справедливости прошу Ваше высокопревосходительство, усердно прошу ияжкую опалу Евгения Окромчедалова заменить более лёгкою и возвратить его семье. Ваш покорный слуга и усердный богомолец, Протоиерей Кронштадтского Собора Иоанн Сергеев».
Вероятно, уступая просьбам родственников высланного, о Иоанн не получал от них полных сведений по данному делу. Во всяком случае после ответа И.Л. Горемыкина о. Иоанн Кронштадтский написал ему следующее: «Ваше высокопревосходительство, высокочтимый министр Иван Логгинович! Прочитав Ваше ко мне письмо о некоем Окромчедалове, беру своё ходатайство назад и прошу извинить за беспокойство, сделанное вам мною просьбою за человека недостойного» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1193 Л.1-3].
Далее в 1898 г. Иоанн Кронштадтский ещё раз пришлёт ходатайство И.Л. Горемыкину за одну «несчастную женщину» по судебному делу её мужа.
30 декабря 1895 г. Победоносцев прислал личную просьбу насчёт графа Армфельдта, чьё имя неоднократно потом ещё будет упоминаться в письмах обер-прокурора. Он ходатайствовал за устройство службы, характеризуя графа имеющим добрый нрав. «Я уже как-то просил И.Н. Дурново, но он забывал».
3 января 1896 г. К.П. Победоносцев навестил Горемыкина.
Победоносцев пожаловался Николаю II 6 января на статьи В.П. Мещерского, противопоставляющего законность самодержавию, считая такие суждения невероятно глупыми. Начавшие издаваться «Санкт-Петербургские Ведомости» князя Э.Э. Ухтомского разочаровали Победоносцева одобрением суждений Мещерского. Князь Мещерский выступил против И.Л. Горемыкина, утверждая, будто «законность», проводимая им в МВД – посягательство на самодержавие. М.Л. Казем-Бек тоже находила Мещерского дураком, хотя и по другим поводам.
Связей Мещерского с Горемыкиным в литературе о князе и его салоне не обнаружено. В мемуарах Мещерского нет соответствующих данных. Наиболее подробная биография князя сообщает, что И.Л. Горемыкин стремился совершенно отстраниться от В.П. Мещерского и его журнала. Учитывая склонность Мещерского к дешёвой антибюрократической демагогии, естественно полное расхождение между ними, какое будет наблюдаться и в 1906 г., когда князь вопреки голосам всех правых монархистов станет поддерживать Г. Думу [Н.В. Черникова «Портрет на фоне эпохи» М.: РОССПЭН, 2017, с.260]. Русские монархисты будут вышучивать предательство В.П. Мещерского, сообщая, будто бы он теперь будет издавать «Освобождение», а П.Б. Струве, напротив, возьмёт у него «Гражданин» [«Виттова Пляска», 1906, №4, с.3].
Сближение имевшего богатый политический опыт писателя с Николаем II произошло уже после ухода И.Л. Горемыкина из МВД. А.Г. Небольсин писал 24 февраля 1902 г.: «Говорят Сипягин устроил свидание Кн. Мещерского с Государем, который с ним беседовал более часа. Нашёл советника – нечего сказать» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.334 Л.44об.].
На вечере у Победоносцева 7 января 1896 г. были министры Витте, Муравьёв, граф Воронцов-Дашков. К концу раута подъехал и Горемыкин, не склонный к развлечениям. Граф Алексей Игнатьев в письме от 7 января обсудил с Горемыкиным кандидатуры Подольского губернатора и просил опровергнуть слухи «Гражданина» об упразднении генерал-губернаторства в Вильно и Киеве.
Победоносцев пишет в дневнике 9 января, что у Государя пришлось говорить «об интригах против Горемыкина в Гос. Сов.». После Делянова и министра Двора Победоносцев навестил в этот день и Горемыкина. Отражением этих интриг можно посчитать запись А.В. Богданович 11 января, будто Горемыкин ленив на работу. Скорее – на болтовню и рауты.13 января Победоносцев ещё раз был у Горемыкина.
Анонимный донос Горемыкину 11 января просил его обратить внимание на губернское земство Воронежской губернии, где председатель, секретарь и члены – «шайка» «грабящих земства». «В 1894 г. земство получило убытка на 14 000 руб.» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1436 Л.31].
13 января 1896 г. Розанов через Рачинского просил Победоносцева отправить «Горемыкину письмо с самой лёгкою просьбою» определить его на должность цензора с окладом 2500 р., однако Розанова опередили, и вакансия была занята [В.А. Фатеев «Жизнеописание Василия Розанова» СПб.: Пушкинский Дом, 2013, с.229].
Январём 1896 г. датируется письмо И.Л. Горемыкину К.К. Грота о работе возглавляемой им правительственной комиссии по делам общественного призрения, занятой подготовкой законодательных мер по делам благотворительности. К.К. Грот указывал, что до 1864 г. в каждой губернии существовал специальный Приказ общественного призрения – бюрократический орган, занимавший благотворительностью. В 34 земских губерниях эти Приказы были отменены, т.к. считалось, что земство примет на себя определение нужд населения и сбор средств на помощь нуждающимся. Земства и города не взяли на себя достаточной инициативы сравнительно с положительной работой дореформенных государственных учреждений, а МВД отстранилось от благотворительной работы в земских губерниях. «Может быть при свидании в Петербурге Вашему Превосходительству угодно будет дать мне ближайшие указания по этому вопросу». В завершении перечня своих соображений К.К. Грот предложил в силу 80-летнего возраста сменить его на другого председателя комиссии по выбору И.Л. Горемыкина, однако был оставлен там до марта 1897 г., после чего разработки комиссии перешли в хозяйственный департамент МВД [«Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель» Пг.: Тип. М.А. Александрова, 1915, Т.1, с.435-443].
А.С. Суворин 15 января писал И.Л. Горемыкину, что хотел его видеть для представления корректуры статьи «На рубеже», на которую обратил внимание Император Николай II. Суворин уверял что «исправлял и смягчал эту статью, которая мне совершенно не нравилась. К нам, журналистам, вообще существует большое недоверие, и я очень рад, что в типографии не были ещё уничтожены корректуры, по которым легко видеть, с каким вниманием относимся мы к передовым статьям, исправляя их по своему разумению».
18 января 1896 г. А.А. Хвостов предупредил министра о готовности проекта всеподданнейшего доклада, который готов представить лично или прислать. «Справка по тому же делу будет составлена Земским Отделом. Я говорил вчера с Георг. Георг. Савичем» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1351 Л.1об].
21 января в воскресенье вечером Горемыкин и Победоносцев встречались.
Победоносцев 26 января напишет в дневнике: «У Горемыкина. Смущение о Феоктистове». Похоже, Горемыкин желал назначить другого управляющего по делам печати. По воспоминаниям А.Е. Егорова, Феоктистов последнее время перед увольнением начинал впадать в детство.
В некрологе говорится о расстройстве здоровья Евгения Михайловича более чем за год до смерти, наступившей 16 июня 1898 г. Болезнь именовалась долгой и тяжкой, а сам бывший редактор «Журнала Министерства Народного Просвещения» запомнился умным, добрым и благожелательным, не допускавшим стеснений русской исторической науки [Л.Н. Майков «Е.М. Феоктистов» СПб.: Тип. В.С. Балашев и К, 1898, с.19-21].
К.П. Победоносцев в личном письме от 28 января спрашивал И.Л. Горемыкина, «известна ли вам эта затея, очевидно идущая из толстовщины, распространяется из Елисаветграда неким прис. пов. Левитским? Эти бланки напечатаны во множестве экземпляров и усиленно распространяются».
31 января после всех встреч у Победоносцева записан И.Л. Горемыкин.
В Г. Совете рассматривался доклад Архангельского губернатора Энгельгардта о необходимости строительства на Мурмане порта с административным центром. Новый порт был назван Александровск [А.Г. Нидермиллер «От Севастополя до Цусимы. Воспоминания» Рига, 1930, с.79-80].
В начале февраля Горемыкин и Муравьёв давали объяснения Г. Совету об основаниях передачи Тюремного управления из МВД в министерство Юстиции. Такая принадлежность тюрем справедливо считается одной из гарантий правового государства, т.к. разделяет следствие, суд и наказание.
Образованное в 1879 г. Главное тюремное управление в составе МВД, в 1895 г. было передано в министерство юстиции. Были уничтожены долговые тюрьмы и арестантские роты. Политические и уголовные содержались раздельно [Р.Т. Мухаев «История государственного управления в России» М.: Юнити, 2007, с.281].
В отличие от цивилизованных стран, в СССР тюрьмы и лагеря находились в МВД и только после падения большевизма вернулись в министерство юстиции. Важность этого подчёркивает председатель ельцинской комиссии по помилованию [А.И. Приставкин «Всё, что мне дорого» М.: АСТ, 2009, с.147].
Однако в 1905 г. фельетонист В. Дорошевич будет утверждать, будто при Н.В. Муравьёве министерство юстиции превратилось в служанку МВД. Это такая же либеральная легенда, ценимая советскими литературоведами, как и вымысел, будто в молодости К.П. Победоносцев был корреспондентом Герцена [С. Рассадин «Гений и злодейство, или дело Сухово-Кобылина» М.: Книга, 1989, с.239].
Даже критики министерства юстиции признавали за Н.В. Муравьёвым, что он более всех указывает на недостатки работников судебного ведомства, критиковал неподготовленность юристов – кандидатов на должности. В министерских циркулярах Муравьёв давал распоряжения, ограничивающие действия судебного персонала в собственных интересах в ущерб делопроизводству [«Дело отставного профессора Казанского Университета А.Н. Хорват» М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1904].
К.П. Победоносцев 5 февраля сообщал Горемыкину: «я никогда не разделял мнение о пользе введения русского языка в католическое богослужение в видах, т. сказ. обрусения р.-католической церкви в народе». «Это всегда казалось мне порождением теории, не сходной с практикою» (правительственная политика в Империи в предшествующие годы меняла свою позицию от первоначального, напротив, запрета использования русского языка, угрожающего привлечением русских к римской церкви).
6 февраля миссионер В.М. Скворцов посещал Горемыкина с докладом относительно церковных дел на Кавказе.
Н.В. Муравьёв 7 февраля писал И.Л. Горемыкину, что не заезжал к нему в этот день, «потому что доклад был ранний, краткий», «а я опять немного хриплю». Наиболее «существенное оставляю до следующей недели».
На 7 февраля Горемыкин пригласил к себе на обед 27 губернских предводителей дворянства, находящихся в Петербурге на заседаниях в зале Дворянского собрания под председательством графа Бобринского.
Начиная с 1896 г., губернские предводители дворянства начали 1-2 раза в год собираться на совещания. Это не было правительственной инициативой, и препятствий она почти не встретила. Сопротивлялся Витте, однако Император принял во внимание пожелания дворянских собраний и 13 апреля 1897 г. в рескрипте председателю Комитета Министров И.Н. Дурново назначил его во главе Особого совещания для изучения нужд дворянского сословия и сохранения его традиционной служебной роли в Империи. Витте продолжал критиковать дворянские собрания и Особое совещание, считая нужным рассматривать дворянский вопрос наряду с крестьянским.
«Министр внутренних дел И.Л. Горемыкин соответственно созвал в Петербург в феврале и марте 1896 г., сроком на месяц, двадцать семь губернских предводителей дворянства на совещание, на котором обсуждались различные меры поддержки дворянского землевладения, а также вопросы возведения представителей низших сословий в дворянское достоинство и корпоративной роли дворянства в системе местного управления. Горемыкин пристально наблюдал за ходом совещания и по окончании его наложил восьмимесячный запрет на публичное обсуждение записки, представленной предводителями императору. Этот документ содержал обвинение правительства в том, что начиная с 1860-x гг. его действия наносили материальный ущерб первому сословию, а позднейшая политика поощрения и поддержки промышленности, банков и железных дорог велась за счет интересов сельского хозяйства» [С. Беккер «Миф о русском дворянстве. Дворянство и привилегии последнего периода императорской России» М.: НЛО, 2004, с.102-103, 107-108, 246].
В том же 1896 г. попытку создать собственное объединение предприняли земцы. Их даже одобрил Великий Князь Сергей Александрович, но И.Л. Горемыкин указал на незаконность объединений представителей земства, обязанных заниматься местными нуждами. Однако им никто не мешал собираться неофициально на своих квартирах [В.А. Маклаков «Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике» М.: Центрполиграф, 2007, с.262].
10 февраля Победоносцев был у Горемыкина.
В газеты просочились сведения о намерении Горемыкина летом устроить поездку по губерниям [«Южный Край» (Харьков), 1896, 10 февраля, с.2].
За 13 февраля у Победоносцева после Синода, Комитета Министров, Шереметьева и Муравьева записана встреча с Горемыкиным.
Анатолий Нератов, давний приятель И.Л. Горемыкина, с польских времён, 14 февраля предупредил его, что среди казанских татар могут произойти беспорядки, если их представитель не будет отправлен на Коронацию [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1025 Л.12].
Г. Совет 15 февраля 1896 г. передал И.Л. Горемыкину предрешение Императора начать подготовку преобразований земских учреждений. Горемыкину поручалось представить своё мнение о подготовке введения земских учреждений в губерниях, где они прежде отсутствовали. Разработка их велась и в предшествующие годы.
Феоктистов сообщил 17 февраля Горемыкину, что разъяснил В.П. Мещерскому: тот не может в «Гражданине» использовать слова «тётка Алёна» которое он слышал от Александра III, т.к. это не почтительно, «он должен соблюдать приличие».
18 февраля граф Алексей Игнатьев сообщил Горемыкину о намерении прибыть в С.-Петербург в начале марта. 13 марта он же уведомил Горемыкина, что при представлении Николаю II он доложил, что не может совмещать службу с Волынским губернатором д.с.с. С.П. Суходольским (11 июля 1896 г. тот будет переназначен Ковенским губернатором). На Волынь Игнатьев предложил Вятского губернатора генерал-майора Ф.Ф.Трепова-младшего, который, как ему было известно, с особенным удовольствием принял бы это назначение. Так и будет поступлено в июле.
26 февраля у Победоносцева в дневнике вечером значится посещение собора и Горемыкин.
И.И. Шамшин просил И.Л. Горемыкина при приёме тифлисского губернатора князя Шервашидзе одобрить его ходатайство о назначении бобруйского уездного предводителя дворянства Стефановича вице-губернатором. В 1895 г. Горемыкин уже успел оставить без последствий такую просьбу Шамшина.
Вице-губернаторские назначения не требовали высокого возрастного порога и большой опытности, а напротив, как вводная позиция, зачастую предназначалась именно для приобретения начальных политических навыков. Владимир Гурко в воспоминаниях почему-то игнорирует это обстоятельство, передавая слова И.Л. Горемыкина, будто в 1896 г. Император Николай II хотел удовлетворить ходатайство о назначении лица, не имевшего «ни малейших прав». И.Л. Горемыкина отговорил Царя, ссылаясь на неудовольствие обойдённых по статусу. Склонность Гурко к выдумыванию или воспроизведению нелепых ложных историй заставляет обратить внимание на отсутствие в этом анекдоте точных сведений, опираясь на которые можно прийти к каким-либо оценочным выводам. Надёжный мемуарист указал бы, какой именно статус взятого лица якобы недостаточен, а не заявлял о полном отсутствии прав.
6 марта 1896 г. хабалка Богданович писала, будто Горемыкин тратит на устройство причёски несколько часов.
7 марта С.Э. Зволянский передал в Главное управление по делам печати справку о том, что он считает возможным удовлетворить прошение В.Г. Короленко об изменении программы журнала «Русское Богатство», освобождении от предварительной цензуры и его утверждении редактором, несмотря на то что в прошлом Короленко проявлял антимонархическую активность. Гл. Упр. в представлении Горемыкину 11 марта, однако же, не рекомендовало исполнять желания Короленко, с чем министр согласился [«Русское богатство», 1917, №11-12, с.64]. Нижегородское охранное отделение за время до выезда Короленко в Петербург в 1896 г. не находило за ним ничего предосудительного, помимо сношений с лицами сомнительной благонадёжности [«Былое», 1918, №13, с.34].
Говоря о внешних влияниях на Николая II, историк напрасно признаёт назначение И.Н. Дурново и И.Л. Горемыкина в 1895 г. «при поддержке Марии Фёдоровны» [Ю.В. Кудрина «Императрица Мария Фёдоровна и Император Николай II» М.: Вече, 2013, с.95]. Эта версия рождена некритическим использованием недостоверных публикаций иностранной прессы, где такие утверждения насчёт Горемыкина действительно можно встретить. Их легко оспорить на основании довольно скорой записи А.А. Половцова 12 марта 1896 г.: честный и умный И.Л. Горемыкин подвергся «сильнейшему гонению со стороны партии, покровительствуемой Императрицей Марией Фёдоровной и претендующей быть продолжательницей Александра III» [А.А. Половцов «Дневник 1893-1909» СПб.: Алетейя, 2014, с.176].
Здесь определённо говорится о сторонниках выдвижения Д.С. Сипягина, которых обошли Н.В. Муравьёв и К.П. Победоносцев с предложением Горемыкина. Императрица Мария Фёдоровна отправляла Сипягину поздравительные телеграммы с 1893 г. В фонде И.Л. Горемыкина следов столь давних отношений между ними не сохранилось. Можно отметить такой черновик телеграммы Горемыкина уже после его назначения: «Имею счастье повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества верноподданническое поздравление с радостным событием рождения Августейшей Внучки Вашей Великой Княжны Ольги Николаевны. Управляющий министерством внутренних дел Горемыкин».
Положение Комитета Сибирской железной дороги 15 марта дало возможность Горемыкину отпускать по 3 тыс. руб. для незамедлительной выдачи крестьянам ссуд на разрешённое губернским правлением переселение.
Для различных губерний МВД разрабатывало отдельные проекты улучшения сельской врачебной части. И.Л. Горемыкин вносил их на рассмотрение в Г. Совет.
Победоносцев 17 марта отметил разговор: «Горемыкин. О ковенской школе офицеров».
В марте 1896 г. Горемыкин обращал внимание Государя на то как учащиеся военные кадеты-католики в 1853 г. получили католический катехизис на русском языке, вместо польского. Однако в богослужении иноверцев, как правило, русский язык исключался [О.В. Серова «Россия и Ватикан. Политика и дипломатия» М.: Языки славянской культуры, 2019, Кн.1, с.922].
В газете «Свет» в 1896 г. отмечалось, что на нужды католиков уходит бюджетных средств относительно больше, чем на православных, по их доле в населении.
20 марта Император удовлетворил прошение Горемыкина разрешить католикам в Царстве Польском проводить богослужение только на латинском языке, исключая польский и русский, относительно приоритета которых велась длительная борьба. Этакое соломоново решение в интересах тысяч католиков Минской губернии было одобрено и Ватиканом, с которым Русское Самодержавие долго вело совместную борьбу с революционерами.
И.Н. Дурново в письме И.Л. Горемыкину от 20 марта поддержал просьбу К.П. Победоносцева об исходатайствовании аренды одесскому градоначальнику П.А. Зелёному: «с особенным удовольствием исполняю сим желание Константина Петровича, так как знаю П.А. Зелёного за почтенного и вполне честного человека, не имеющего собственных средств». И.Н. Дурново не ошибся, упомянув о его службе в должности градоначальника, сперва таганрогского, уже около 14 лет.
30 марта 1896 г. Победоносцев после Государя был у Горемыкина и видел Куломзина. Горемыкин тогда поправлялся от болезни.
7 апреля Горемыкин вечером был у Победоносцева. А.С. Ермолов писал Горемыкину, что Вольно-Экономическое общество при обсуждении вопроса о золотом обращении ещё не окончило прения, и просил высказать Горемыкина его «мнение по этому делу». «Весь ход прений общества по настоящему вопросу имеет характер явной агитации против министерства финансов». Министр Земледелия рассказал про «расходившихся ораторов и бушевавшую публику». Граф Гейден уверял, что ничего против правительства не подразумевалось, но имена А.А. Пороховщикова и марксиста П.Б. Струве «и им подобные, заставляют меня очень в этом усомниться». Ермолов хотел зайти к Горемыкину и переговорить об этом [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.753 Л.3].
В 1907 г. Струве писал, что Горемыкин, Сипягин, Плеве, одинаково «вели бессмысленную, мелочную и политически безграмотную борьбу» с возникшим в ВЭО объединением общественных сил [П.Б. Струве «Patriotica. Политика. Культура. Религия. Социализм» М.: Республика, 1997, с.36].
Серьёзные специалисты, однако, считали что так раз докладчики из ВЭО завоевали себе «дешёвые лавры»: такого же рода статья с нападением на Витте «не только слаба», «но прямо невежественна». И.И. Янжул 29 марта 1896 г. писал в частном порядке К.С. Веселовскому, опасаясь что публичная защита Витте вызовет подозрения в продажности: «добропорядочная финансовая система и даже всё народное хозяйство не мыслимо без твёрдого курса денежной единицы и получает характер азартной спекуляции со всеми зловредными последствиями, например неверность во всех расчётах доходов и расходов, переплаты потребителями и частые недохватки производителями, отсутствие возможности сколько-нибудь благоразумного хозяйничанья без риска и с расчётом на известные результаты». У Витте «единственно возможный план и как всё действительно умное, простой и общепонятный» [СПФ АРАН Ф.24 Оп.2 Д.127 Л.8-9].
Финансовая политика 1896 г. стабилизировала валюту и устранила спекуляции на кредитном рубле. В результате банки стали вкладывать капитал в акции промышленных предприятий. Во время биржевого кризиса 1896 г. правительство оказало помощь акционерным коммерческим банкам по поддержанию ликвидности. Банки, работавшие на фондовом рынке смогли быстро восстановиться [С.А. Саломатина «Коммерческие банки в России. Динамика и структура операций. 1864-1917» М.: РОССПЭН, 2004, с.150, 163].
Историки видят в золотой валюте принципиально важное условие установления эффективной, устойчивой и в то же время достойной и честной экономической системы. Бумажная валюта имеет те грандиозные недостатки, угрожающие глобальной катастрофой, которые сейчас широко известны на примере доллара, бесконтрольный выпуск которого позволил США паразитировать на мировой хозяйственной системе. Золотая валюта означала торжество законности над нечестным обогащением [«Исторические записки» М.: Наука, 2002, Вып.5 (123), с.192].
Сравнительно с политикой золотого обращения Императора Николая II, отмена золотого стандарта в США в 1934 г. стала актом «абсолютной недобросовестности», которую американские сенаторы называли: «это просто кража» [Р. Хиггс «Кризис и Левиафан. Поворотные моменты роста американского правительства» М.: Мысль, 2010, с.312]. Именно к этому времени в США «социализм стал преобладающей идеологией в университетах» [Л. Уайт «Борьба экономических идей» М.: Новое издательство, 2020, с.161].
Из последующих правых экономистов о необходимости золотого стандарта часто писал Ф. Хайек. Людвиг Мизес в книге «Всемогущее правительство» называет отказ от золотого стандарта этатистским дьяволом лёгких денег, средством обманывать народ перед выборами, раздавая необеспеченные суммы и сваливая ответственность за будущую инфляцию на следующие правительства.
«Неограниченная возможность печатать всемирные деньги обеспечила Америке огромные преимущества при создании конструкции глобализации», «Соединённые Штаты не стояли перед необходимостью что-то продать для того, чтобы что-то купить. Они могли просто печатать доллары» [К. Престовиц «Страна-изгой» СПб.: Амфора, 2005, с.121].
Бесчестный характер имела и тактика накопления неоплачиваемых долгов в Англии после революции 1688 г., когда «монарх попал в зависимость от парламента», который стал «занимать деньги в немыслимом доселе объёме» и «не платить до долгам», получая «беспрецедентные ресурсы для ведения войн» [Ниал Фергюсон «Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут государства» М.: АСТ, 2016, с.48-50].
В связи с этим, демократы часто несправедливы, когда говорят, что любое правительство, показавшее неудовлетворительные экономические результаты, следует менять. Оно того вполне и может заслуживать, но экономика устроена так, что многие последствия принятых решений не достигают эффекта немедленно. В связи с этим демократические выборы нисколько не являются средством контроля за эффективностью принимаемых политических решений.
Генрих Фёдорович Крюгер в записке членам Г. Совета утверждал, будто именно он подготовил по указанию Вышнеградского проект осуществлённой Витте денежной реформы, что Витте пытается отрицать. Крюгер утверждал, что в Европе Витте считают финансовым гением, и его репутация нисколько не пострадает от признания авторства Крюгера [Г.Ф. Крюгер «Высокочтимым членам Государственного Совета», 1898, с.17].
Историки находят, что концепция золотого монометаллизма сложилась ещё при Бунге, ему же следовал Вышнеградский. По распоряжению Императора Николая II текст «Загробных заметок» Бунге получил И.Л. Горемыкин и другие министры. Горемыкин содействовал строительству в Киеве образцовой начальной школы имени Бунге [В.Л. Степанов «Н.Х. Бунге. Судьба реформатора» М.: РОССПЭН, 1998, с.204, 290].
За 1896 г. происходило значительное умножение специализированных с/х учебных заведений: высших и средних за счёт казны, низших на земские сборы. Закон о коммерческом образовании предоставил новые льготные условия для таковых училищ, которые начали открывать города и купеческие общества. Отдельные губернские земства и дирекции школ начали разрабатывать планы введения всеобщего обучения, в т.ч. женского. Путь к тому ограничивали только финансовые возможности и неприемлемость насильственного принуждения к посещению школы, а расширение министерских, земских и церковных образовательных учреждений явно вело к их неуклонному росту.
Деятель народного образования, Е.П. Свешникова в мае 1906 г. замечала некоторые преимущества новых коммерческих училищ над гимназиями и земскими школами: «дух коммерческого живее и свежее. Новая метла чище метёт» [СПФ АРАН Ф.887 Оп.2 Д.270 Л.18].
Министр Юстиции Н.В. Муравьёв 10 апреля в записке напомнил И.Л. Горемыкину «просьбу о Вельяминове и Минске» и передал известия о назначениях: «тов. пр. Тверского округа Горемыкина прокурором Архангельского окр. суда» и «перевод тов. прок. Митавского о. суда бар. Медема в Петербург».
11 апреля Феоктистов уведомлял Горемыкина о приезде В.А. Грингмута из Москвы через 3 дня, ему нужно назначить приём. Попутно Феоктистов рекомендовал Горемыкину брошюру Грингмута о печати и цензуре: «написана она умно, но с моей точки зрения вызывает немало возражений».
12 апреля Победоносцев – у Горемыкина. Алексей Игнатьев 12 апреля хотел застать дома Горемыкина, «покончить служебные дела свои».
Обер-прокурор 14 апреля пересылал И.Л. Горемыкину бумаги, полученные от Делянова, с просьбой прочесть и вернуть их к завтрашнему приезду Делянова.
Победоносцев в дневнике среди увиденных за 15 апреля записал: «Делянов и Горемыкин». Почвовед В.В. Докучаев описывал министра Делянова в чертах, схожих с обликом Горемыкина: блестяще одарённый, знающий языки юрист с «удивительно мягким и спокойным характером, ещё более – тактом, всегда и со всеми ровный и корректный», заслуженно сделал выдающуюся служебную карьеру и отличался удивительной опытностью, используемой в важнейших интересах Российской Империи. На протяжении многих лет он способствовал развитию русского национализма.
Утром 17 апреля скончался после продолжительной болезни директор Департамента Полиции Сабуров.
В.А. Грингмут 17 апреля прислал И.Л. Горемыкину подробное обоснование отказа от предложенной ему должности. При обсуждении «Вы спросили меня, что можно было бы возразить против соединения в одном лице редактора или по крайне мере владельца «Московских Ведомостей» и начальника Главного Управления по делам печати. В качестве публициста я указал Вашему Высокопревосходительству на возражения могущие возникнуть с более знакомой мне газетной точки зрения и совершенно упустил из виду возражения с точки зрения административной. Лишь на другой день я из собственных своих размышлений и из разговоров с Е.М. Феоктистовым, графом И.Д. Деляновым, С.Ю. Витте и М.Н. Островским пришёл к тому заключению, что я упустил сделать самое существенное возражение», что начальник обязан «стоять выше всей печати, и его беспристрастие не должно подвергаться ни малейшему сомнению».
Если И.Л. Горемыкин, делая такое неожиданное предложение, рассчитывал на В.А. Грингмута как на верного монархиста, превосходно разбирающегося в делах печати, то редактор «Московских Ведомостей» беспокоился о репутации своего издания: административные прещения против других газет могли быть истолкованы «как личная месть» или даже как средство устранения конкурента в коммерческих целях. Грингмут желал сохранить независимость своей газеты от правительства.
Назначение Грингмута, похоже, было желанием не только И.Л. Горемыкина, но и самого Императора Николая II, поскольку Грингмут попросил передать Царю «истинные мотивы» отказа при желании продолжать «служить Ему исключительно на почве привычного мне печатного слова». Затем 19 апреля Грингмут отдельно прислал благодарность И.Л. Горемыкину за «Ваше столь доброе и доверчивое ко мне отношение» и за согласие на передачу ему «Московских Ведомостей» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.695 Л.1-3].
Газета изначально принадлежала правительству, но полный принципиальный отказ монархических властей заниматься пропагандой и популизмом привёл к передаче «Московских Ведомостей» в аренду в частные руки.
19 апреля 1896 г. Феоктистов писал в дневнике про Д.С. Сипягина: «его не устранят, ибо он пользуется расположением вдовствующей императрицы». Тогда Горемыкин собирался сделать доклад Государю о продвигаемой Сипягиным брошюре И.Ф. Рцы «Дело Александра III», которую в МВД нашли неприемлемой [«Литературное наследство», 1935, Т.22-24, с.559].
А.Н. Куломзин называл в числе предложенных Великим Князем Сергеем Александровичем министров Боголепова, Сипягина, Булыгина, но не Горемыкина.
Совещание о духоборах с Витте и Куропаткиным Победоносцев проводил 19 апреля. Позднее в переписке Победоносцев указывал, что не играл никакой роли в преследовании духоборов, этим занималось МВД, т.е. И.Л. Горемыкин. Решение о выселении было принято независимо от обер-прокурора, который не имел возможности его предупредить. Победоносцев считал, что вмешиваться в дела духоборов не следует. Так и происходило на Кавказе, где их община имела полное самоуправление. Однако из-за внутренней борьбы за власть «поднялся мятеж, начался ряд неумелых распоряжений», а толстовцы стали проповедовать среди них анархизм и подбивать на переселение в Канаду [П.А. Тверской «Из деловой переписки с К.П. Победоносцевым 1900-1904» // «Вестник Европы», 1907, №11, с.654-655].
Такое наблюдалось с появлением новых подвидов духоборов и раньше: «постоянное саморазрушение и саморазложение раскола и сектантства будет продолжаться». Херсонский епархиальный миссионер ввиду шатаний разноплеменного народа на Северном Кавказе предупреждал о необходимости тушить пожар антигосударственных и религиозных заблуждений «в самом начале его появления, чтобы не пришлось потом тратить слишком много усилия для его прекращения» [Михаил Кальнев «Новохлысты Кубанской области» Киев, 1896, с.3]
20 апреля датировано письмо Л.Н. Толстого, адресованное лично И.Л. Горемыкину как «к человеку», а не министру. Толстой перечислял примеры преследования властями распространения анархического учения. Действительное «зло», с которым боролось русское правительство, «продолжает существовать среди тысяч людей, которых нет возможности всех арестовать». Поэтому Толстой возмущался отдельными мерами против «случайно попадающихся». Проповедник ненависти к Императорской России желал, чтобы Горемыкин остановил борьбу с распространением анархизма. Но сражение с разрушительными учениями так или иначе, обязано было вестись со стороны монархистов. Предпочтение отдельных мер, в зависимости от каждого случая, вместо массовых репрессий или полной капитуляции, являлось наиболее разумным шагом. На предложение Толстого ответить «простым неофициальным письмом» Горемыкин не отозвался, опять-таки, в отличие от С.Ю. Витте, который желал приехать к Толстому и обсудить с ним винную монополию. Известно, что это письмо Горемыкин назвал вызовом правительству, чем оно и являлось. Его следовало проигнорировать, и Толстой не дождался ни желаемых кар в собственный адрес, ни отказа от борьбы с революционерами и анархистами, чья работа вела к разрушению государства и подрыву положительной политической программы Русских Царей.
К.П. Победоносцев писал И.Л. Горемыкину 22 апреля, что планирует встретиться с ним завтра в Царском Селе. «Чем дольше думаю о комбинации с Грингмутом, тем больше опасаюсь её», «надо бы искать другое лицо» (на место Феоктистова).
26 апреля Победоносцев был «у Половцова. У Горемыкина». А.А. Половцов жил в бывшем доме графа А.С. Уварова на Большой Морской.
Дочь Льва Толстого Татьяна 27 апреля 1896 г. внесла в дневник сообщение, что её отец написал письма Горемыкину и Муравьёву с просьбой перенести на него гонения, которые терпят его последователи.
Относительно революционного пыла сектантов, собеседники Льва Толстого спорили с ним, полагая, что после переселения «анархизм духоборчества не устоит против соблазнов американской жизни» [М. Горький «Собрание сочинений» М.: ГИХЛ, 1963, Т.18, с.50].
Сам Толстой в 1898 г. сообщал Черткову, что если духоборы не изменят свой образ жизни, то будут иметь те же проблемы с канадским правительством, что и здесь. В сочувствующих Толстому революционных изданиях с гордостью сообщается, что духоборы не признавали законодательство Российской Империи и частную собственность в ней. Канада им не понравилась и многие хотели вернуться обратно.
После долгой борьбы, духоборы в Канаде согласились принять британское подданство, без которого они не могли приобретать участки земли. Капитулировав здесь, они вынуждены были согласиться и на государственную регистрацию рождения детей и заключения браков, с чем, как оказалось, они совершенно напрасно боролись в России. Так от коммунистических идеалов духоборов почти ничего не осталось. В Российской Империи они отвергали частную собственность. Но в Канаде они настолько «подчинились капиталистическому порядку, что вносили отведённые им имения в книги на имя отдельных владельцев» [«Огонёк», 1906, №26, с.206].
Гилберт Честертон в «Автобиографии» (1936) писал, что опекаемые толстовцами духоборы в России якобы жили по «высоким образцам раннего христианства», но в Канаде «быстро стали опасными фанатиками, выпрягавшими лошадей и выпускавшими на волю коров, чтобы спасти их от плена». Замечательный христианский писатель, конечно, не обладал точными сведениями о их поведении в России. Сектанты, преследуемые И.Л. Горемыкиным, все были такого рода опасными фанатиками.
Так, скопцы не признавали Царя и поставленных им властей. «Будапешт — мировой центр скопчества, где, между прочим, почти все извозчики — русские скопцы. Он же является и главным центром распространения по Европе и особенно в Рoccии скопчества; оттуда, из Будапешта, наезжают к нам, в Россию, главные “мастера” скопчества (оскопители) и проповедники его; туда же, в Будапешт, обыкновенно скрываются на время или навсегда оскопленные в России, избегая кары законов» [М. Кальнев «Судебное дело Гуриной и других скопцов г. Николаева» СПб.: Колокол, 1909, с.47].
В 1917 г. из тюрем из ссылок будут выпущены не только Свердлов, Сталин и Дзержинский. Временное правительство признает нужным принять в Россию обратно помимо Ленина и Троцкого ещё и 10 тыс. духоборов из Канады, а также скопцов из Румынии [«Конфессиональная политика Временного правительства России» М.: РОССПЭН, 2018, с.408, 415].
Толстовцы и конкретно «духоборы» считали власть абсолютным злом, требовали немедленного утопического анархизма, «совершенно игнорируя организованную, этическую и правовую ценность власти» [Б.П. Вышеславцев «Этика преображённого эроса» М.: Республика, 1994, с.211].
Практика преследования сектантских групп силами полиции и армии, с отнятием у опасных фанатиков их детей, сто лет после Горемыкина и Победоносцева имеется и в США, с её знаменитой первой поправкой к конституции о свободе слова, которая по содержанию скорее поправка о невмешательстве государства в деятельность религиозных общин. Игорь Ефимов, антихристиански настроенный ультралиберал, в книге «Связь времён. В новом свете» (2012), использует те же доводы что и Лев Толстой, для критики властей современных Штатов.
1 мая Победоносцев обсуждал у Государя Коронацию. 4 мая он «у Делянова». «Булыгин. Горемыкин».
Директор департамента общих дел МВД возглавил комиссию по раздаче билетов для присутствия на Коронации.
Есть воспоминания В. Фигнер о посещении И.Л. Горемыкиным Шлиссельбургской крепости. Описание его как расслабленную и измождённую развалину явно ошибочно в отношении 56-летнего министра, который помирать пока не собирался. Здесь явно недобросовестно перенесены на непозволительно ранний срок приёмы дискредитации Горемыкина, использованные через 20 лет. Согласно такому источнику, Горемыкин задавал заключённым очень скупые вопросы, а именно: «Насекомые?» или «Камни?» спрашивая об энтомологических и минералогических коллекциях. Можно поверить, что по натуре немногословный Горемыкин не горел желанием заводить задушевные разговоры с разными мерзавцами вроде террориста В.С. Панкратова (будущий комиссар Временного правительства при арестованной Царской Семье в Тобольске, автор очень глупых мемуаров). Однако сам характер вопросов показывает не бездушное отношение Горемыкина к арестованным, его осведомлённость о их увлечениях. Услышав просьбу Фигнер о пополнении тюремной библиотеки, Горемыкин увеличил сумму, выделяемую на приобретение книг. Последующие министры Шлиссельбург не навещали [«Былое», 1919, №14, с.10].
Как водится, дополнительные свидетельства позволяют дать И.Л. Горемыкину ещё более верную характеристику и по вопросу о тюрьмах. В 1906 г. в левой газете «Двадцатый Век» выходило интервью с бывшим узником Шлиссельбургской и Петропавловской крепостей Н.П. Стародворским. За 22 года «хуже всего жилось при Плеве и при Д.А. Толстом, лучше всего при И.Л. Горемыкине. Не говоря уж об его, хотя холодном, но весьма вежливом обращении, заключённым стали давать даже газеты». Комендант крепости полковник Генкерт, постоянно сопровождавший Горемыкина, также зовётся умным и гуманным. Все просьбы Стародворского Горемыкину были исполнены: перевод в лазарет душевнобольных, разрешение табака и переписки с родными. «Вообще с его посещением развилось законное отношение к заключённым» [«Новое Время», 1906, 25 мая, с.4].
Это можно сказать и про положение в других тюрьмах при И.Л. Горемыкине. Дзержинский 13 января 1898 г. писал сестре из Ковенской тюрьмы: «не воображай, что в тюрьме невыносимо». «У меня есть книжки, я занимаюсь, изучаю немецкий язык и имею всё необходимое даже в большем качестве, чем имел на воле» [Ф.Э. Дзержинский «Дневник заключённого. Письма» Минск, 1977, с.8].
Когда февральская революция выпустила таких террористов на волю, монархисты в организованных ими тюрьмах окажутся в невероятно более худшем положении.
Из других заключённых в Шлиссельбурге, Н. Морозов передал Горемыкину рукопись книги «Периодические системы строения вещества» с просьбой передать её Д.И. Менделееву и Н.Н. Бекетеву. Пожелание оказалось исполнено, с той разницей, что бумаги получил на рассмотрение профессор Петербургского университета химик Дмитрий Коновалов, чьим наставником был Менделеев [«Речь», 1907, 5 апреля, с.5].
6 мая 1896 г. состоялся первый киносеанс в московском театре, а 10 мая – первая киносъёмка: приезд Царской Семьи в Москву и проезд приветствуемого народом кортежа по Тверской. В конце 1897 г. в Москве откроется первый стационарный кинотеатр.
Государь 8 мая принимал доклады Горемыкина, Муравьёва, Победоносцева.
Устав С.-Петербургского Попечительского общества о домах трудолюбия Горемыкин утвердил 9 мая. 15 июня откроется его первое собрание о мерах трудоустройства нищих. Выбранные меры получили одобрение Императрицы Александры Фёдоровны, которая выразила сердечную благодарность с пожеланием, дабы «оказываема была скорая помощь всему нуждающемуся в ней населению столицы».
И.Я. Голубев 9 мая 1896 г. пригласил супругу И.Л. Горемыкина, от имени его друзей, на обед 12 мая в 18 ч. в ресторане с забронированной на его имя отдельной комнатой [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1498 Л.20].
11 мая баронесса Икскуль рассказала, что министр Горемыкин назвал письмо Льва Толстого вызовом правительству и сказал, что не собирается отвечать на него. По наблюдению Т.Л. Сухотиной-Толстой, баронесса всегда отрицательно относилась к правительству.
Обер-прокурор 11 мая пересылал И.Л. Горемыкину копию с всеподданнейшего доклада «по просьбе раскольников об открытии Рогожских алтарей» (алтари храмов на Рогожском кладбище были запечатаны в 1856 г. и открыты вновь только в апреле 1905 г.).
Победоносцев запомнил за 12 мая: «Горемыкин о речи старейшин».
13 мая Горемыкин читал доклад у Императора.
В честь Коронации 14 мая И.Л. Горемыкин получил чин действительного тайного советника «в воздаяние отлично-усердной и ревностной службы». Н.В. Клейгельсу пожаловали орден св. Анны 1-й ст. Командированный в Москву гвардейский полковой адъютант П.Н. Краснов за участие в торжествах получил серебряную медаль.
Заместитель министра Неклюдов через Горемыкина передавал Государю всеподданнейшее поздравление от жителей С.-Петербурга.
На Коронации Николай II показался приезжим приятным исключением на фоне высшего общества и отчуждённо державшейся церковной иерархии. «Архиереи буквально не знали, что им делать при всевозможных церемониях и единственно кто выручал, это всезнающий В.К. Саблер». Визиты, обеды и церемонии оставляли безрадостное впечатление, только «Государь с его добрым, светлым взглядом, навсегда с любовью сохранится в памяти Владыки» [«Высокопреосвящённый Архиепископ Иероним (Экземплярский) 1836-1905» Киев, 1906, с.253].
Американский журналист, приехавший на Коронацию, обратил внимание на благоговейное почитание народом Царя, свойственное Православной России. Проходя мимо церквей, даже полицейский «крестится и читает молитвы с непокрытой головой. Невозможно представить себе полицейского на Бродвее, снимающего шлем и повторяющего то же самое» [Richard Harding Davis «A year from a reporter’s notebook» New York, 1898. P.26]. Родившийся в 1899 г. эмигрант, активный участник Белого и Власовского Движения, по своему опыту наблюдений назовёт Российскую Империю Николая II «самой религиозной» страной в мире [Архимандрит Алексей (Чернай) «Жизненный путь русского священника» Сан-Франциско: Глобус, 1981, с.29].
Среди множества иностранцев, присутствовал на Коронации в качестве представителя Китая Ли Хунчжан, заключивший военный союз с Россией и подписавший договор с Лобановым-Ростовским о гарантии завершения строительства КВЖД [А. Крофтс, П. Бьюкенен «История Дальнего Востока. Восточная и Юго-Восточная Азия» М.: Центрполиграф, 2013, с.286].
После участия в Коронационных торжествах в Москве, 19 мая Горемыкин отправил в «Правительственный вестник» официальную телеграмму: «С вечера 17 сего мая, в Москве, вокруг Ходынского поля, начали собираться массы городского и пришлого народа в несколько сот тысяч человек для участия в гулянье 18 мая. Начало празднования и раздача подарков были назначены с 10 часов утра, но толпа, не дождавшись этого времени и прибытия всех лиц, долженствующих руководить праздником, с неудержимой силой, ранее 6 часов утра, бросилась в беспорядке в узкие проходы между деревянными палатками, где помещались буфеты, при чём многие повалены на землю и задавлены нахлынувшей массой народа. Беспорядочное движение толпы продолжалось недолго, после чего немедленно были приняты меры к подаче помощи пострадавшим и к выяснению числа жертв. При этом было поднято: мёртвых 979 и тяжело раненых – 459 лиц, из числа сих последних многие в безнадёжном положении» [«Красный Архив», 1936, Т.76, С.33].
Масса свидетельств подтверждают полную неправоту популярных пересказов, будто давка возникла при раздаче подарков, которых всем не хватило. Давка произошла исключительно из-за самоуправства толпы погромного типа.
Императрица Мария Фёдоровна писала: «это было душераздирающе. Но в то же время они были такие значимые и возвышенные в своей простоте, что они просто вызывали желание встать перед ними на колени. Они были такими трогательными, не обвиняя никого, кроме их самих. Они говорили, что виноваты сами и очень сожалеют, что расстроили этим Царя!» [«Царский сборник» М.: Паломник, 2000, с.428]. Буйство на Ходынском поле произошло ранее и при Коронации Императора Николая I: «в одно мгновение все бросились к бочкам с водкой и к столам, и по уничтожении всего стоявшего кинулись ломать галерею» [Г.Д. Щербачёв «Идеалы моей жизни: воспоминания из времён царствований императоров Николая I и Александра II» М.: ГПИБ, 2015, с.177].
Случаи смертельной давки людей происходили и без устраиваемых властями праздников, по несколько человек бывало задавлено на похоронах богатых купцов, где раздавали подаяние [«Ушедшая Москва. Воспоминания современников о второй половине XIX века» М.: Московский рабочий, 1964, с.368]. Священник Михаил Хитров 18 мая 1896 г. писал К.П. Победоносцеву: «невольно пришлось мне, идя по улицам, слышать народный говор»: «сами виноваты, чего лезли без толку?» [РГИА Ф.1574 Оп.2 Д.204 Л.2].
Исследования о памяти русских крестьян подтверждают, что Царя не винили за несчастье, «жалели и его, и задавленных. В песне о Ходынке Николай II среди виновников катастрофы не фигурировал» [«Вопросы истории», 2005, №12, с.122].
После Ходынского несчастья Горемыкин уверял Е.А. Нарышкину, что размеры бедствия были преувеличены, а число убитых и раненых «не столь значительно, как сообщают. Но Царь был не удовлетворён таким успокоительным докладом» и приказал проводить расследование [Е.А. Нарышкина «Мои воспоминания. Под властью трёх царей» М.: Новое литературное обозрение, 2014, с.337].
Министр юстиции Н.В. Муравьёв в заключении к следственному производству находил виновными полицейских, не управившихся с толпой, и чиновников министерства Двора, склонных перекладывать ответственность на разные отделы. Однако до 6 утра едва ли следует ожидать возможности предотвращения незапланированных и непредсказуемых событий.
Много позже в СССР неоднократно продолжали происходить массовые давки со множеством убитых. В том числе не до мероприятия, а уже после состоявшегося футбольного матча в «Лужниках» в 1982 г. [И. Рабинер, В. Галедин «Фёдор Черенков» М.: Молодая гвардия, 2019, с.117].
20 мая Горемыкин и Победоносцев вместе сочиняли манифест и рескрипт. 21 мая Горемыкин снова виделся с обер-прокурором.
Банкир Я.С. Поляков 21 мая был у А.И. Горемыкиной по рекомендации княгини Мирской. Супруга министра пригласила бывать у неё по воскресеньям.
23 мая Император записал, что «утром имел доклады: Муравьёва, Воронцова, Горемыкина и Сипягина». В этот же день именным Высочайшим указом была учреждена должность помощника шефа жандармов. 20 апреля 1900 г. Государь заменит эту должность новой: товарища министра внутренних дел, аналогичной заместителям в других министерствах.
24 мая 1896 г. Великий Князь Сергей Александрович в дневнике одобрительно напишет о министре: «в 3 ч. к Горемыкину – интересный разговор – перебрали многое – правильные взгляды. В ½ 5 ч. Муравьёв рассказывал невероятные эпизоды; теперь рвут и мечут, чтобы меня рассорить с Воронцовым». Эти беседы происходили в Москве [«Великая Княгиня Елисавета Феодоровна и император Николай II» СПб.: Алетейя, 2009, с.331].
В.К. Сергей Александрович, по воспоминаниям графа Д. Олсуфьева, «человек доброй души и весьма культурный, не создал себе популярности в Москве». «Москву начали подтягивать. На приёмах у генерал-губернатора появился непривычный для Москвы придворный этикет». Купечество потеряло своё влияние [«Возрождение» (Париж), 1931, 27 июля, с.2]. Следуя принципам монархической чести, В.К. Сергей Александрович «никогда специально не искал популярности» и стремился проводить независимую от чьих-либо коммерческих интересов имперскую политику [Д.Б. Гришин «Трагическая судьба Великого князя» М.: Вече, 2008, с.157-158].
В.К. Сергей Александрович 26 мая передал через Горемыкина Государю, что подаст в отставку, если выйдет рескрипт с назначением графа Палена председателем следственной комиссии. Об этом отзывались неодобрительно [Великий Князь Константин Романов «Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма» М.: Искусство, 1998, с.237].
А.С. Суворин 30 мая записывал разговоры, что И.Л. Горемыкин ни разу не был на Ходынском поле, до и после катастрофы. И ни разу не принял начальника московского губернского жандармского правления генерала К.Ф. Шрамма. Учитывая что расследованием произошедшего занималось не МВД, не понятно какой смысл предъявлять подобные претензии Горемыкину.
Земцы, съехавшиеся в мае в Москву, для организации постоянных совещаний отправили к Горемыкину Д.Н. Шипова, председателя Московской управы. Горемыкин сказал ему, что официальных совещаний председателей управ не должно быть, поскольку задачи местного самоуправлении по определению замкнуты. А на встречи, носящие частный характер, правительственных разрешений не требуется. Однако Горемыкин не желал, чтобы газеты придавали встречам неподобающе ложное значение.
В газетах сообщалось что 1 июня Горемыкин заезжал к себе в имение. Однако в дневнике Великого Князя Сергея Александровича записано что в этот день Горемыкин был в Ильинском: «много говорили».
Затем на Нижегородскую выставку прибыли Император, министры Горемыкин, Витте, Хилков, Ермолов, Чихачёв [А.И. Федорец «Савва Мамонтов» М.: Молодая гвардия, 2013, с.188].
К выставке в Нижнем Новгороде оживился город, прокладывались трамвайные линии, строились фуникулёры, появился новый театр, оснащённый всеми техническими новинками [А.Д. Александрович «Записки певца» Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1955, с.43].
Проведение выставки в Нижнем Новгороде инженер Н.Н. Изнар нашёл не самым удачным для набора максимально возможного числа посетителей и видел объяснение в выборе отдалённого города желание Витте сыграть на ней первенствующую роль, какую в Москве имел бы Великий Князь Сергей Александрович.
В красочном издании с подробным описанием выставки её организатору Витте был посвящён самый хвалебный очерк, с описанием всех прошлых заслуг и ожиданием будущих ввиду оптимального для того возраста. Хилков и Ермолов также были представлены портретами, но о Горемыкине не напечатали ничего. Можно рассматривать это как показатель отношений между министрами.
Но и в Нижнем С.Ю. Витте не обошёлся без конфликтов с Великими Князьями. А.Н. Бенуа, занимавшийся Художественным отделом Нижегородской выставки, 8 июня 1896 г. жаловался В.И. Ковалевскому, заместителю Витте, что газеты сообщают неверные факты, частный разговор Бенуа с Витте попал в печать, а слухи о вмешательстве Витте доставили неприятности хозяину Художественного отдела Великому Князю Владимиру Александровичу. И.И. Толстому А.Н. Бенуа писал: «Ваши предсказания о том, что Витте будет нам мстить, кажется, начинают сбываться». А в мае 1895 г. похожие проблемы из-за неделикатности Витте испытывал Великий Князь Георгий Михайлович, выразившийся похожим образом про «месть Витте за то, что его не спросили», когда решили устроить Русский музей [«Во главе Императорской Академии художеств. Граф И.И. Толстой и его корреспонденты. 1889-1898» М.: Индрик, 2009, с.418, 477-478].
По словам Н.А. Хвостова, В.К. Плеве звал Витте государственным хулиганом. Не отрицая его огромных государственных заслуг, Н.Н. Кутлер считал, что ещё более Витте искусен в интриге [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1978 Л.1об., 88]. 25 октября 1892 г. И.И. Янжул записывал свежие впечатления о знакомстве с Витте: «бесспорно, он человек умный, но несимпатичный» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.566 Л.160об.].
Претенциозный, самолюбивый, конфликтный Витте начнёт ссоры и с миролюбивым деловитым И.Л. Горемыкиным, нападая на него за нежелание становиться удобным для Витте подголоском. Стремление Горемыкина везде отстаивать собственное независимое понимание ведомственных задач следует считать главной причиной вражды со стороны Витте, не имевшей идеологических причин. Неискренние попытки Витте объяснить борьбу с Горемыкиным теоретическими разногласиями с клеветнически вымышленным либерализмом будут наигранным прикрытием интриганства, что видно по наиболее крупным конфликтам по студенческим беспорядкам, по введению земства или земельному вопросу.
5 июня 1896 г. Государственный Совет рассмотрел положение о первой всеобщей переписи населения Империи. Руководство переписью было возложено на Горемыкина.
6 июня в 13 ч. Горемыкин с Победоносцевым сели на пароход. Прежде других министров, они вынуждены были вернуться в С.-Петербург из-за начавшейся крупной стачки рабочих-текстильщиков. Общее число бастовавших достигло 15865 человек на 19 мануфактурах. С.Ю. Витте отправился в СПб. в тот же день: «переговорите с Иваном Логгиновичем», писал он, рекомендуя не идти на уступки забастовщикам: «целый год подбрасывали прокламации, и я удивляюсь, что полиция не открыла, очевидно, существующую шайку» [«Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX-XX вв.» СПб.: Алетейя, 2011, с.365].
В прокламации Московского рабочего союза в 1896 г. было выражено согласие с правительственными заявлениями Витте о том, что стачки устраивали злонамеренные люди, понимая под такими тех, кто внушал рабочим вражду к капиталистам. Усиленную пропаганду среди рабочих отмечала и записка охранного отделения в Нижнем Новгороде от 22 июня 1896 г. Там образованный в 1892 г. кружок из гимназистов, реалистов и семинаристов первые годы занимался самообразованием, а с 1894 г. начал обманывать рабочих, разбрасывать воззвания на фабриках. В записке перечислены несколько таких групп. Об этих социал-демократических и народовольческих группах в Нижнем Новгороде, занимавшихся систематической агитацией среди рабочих, докладывал министр юстиции Муравьёв 3 мая 1897 г. И.Л. Горемыкину. Воззвания они разбрасывали на фабриках и заводах [«Красный Архив», 1939, Т.93, с.143, 167, 170].
Забастовка продолжалась до середины июля.
Противники Витте напрасно обвиняли его и в привлечении иностранного капитала, и в искусственном характере покровительственной таможенной политики, как будто таковая может быть естественной. Но от Горемыкина таких претензий никогда не выдвигалось.
В 1896 г. Горемыкин утвердил предложение градоначальника Н.В. Клейгельса о разделении С.-Петербурга на районы, за каждый из которых будет отвечать чиновник сыскной полиции. Надзиратели сыскной полиции были прикреплены к полицейским участкам. Такие распоряжении повысили эффективность борьбы с уголовной преступностью, сделав 1896-й самым удачным по числу задержанных за 10 лет [А.Ю. Шаламов «Российский «фараон». Сыскная полиция Российской империи» М.: Принципиум, 2013, с.47-48].
Таким образом, И.Л. Горемыкин довольно успешно справлялся с уголовной и политической преступностью, причём вторая представляла для Империи потенциально большую опасность.
Не одобряющий никакие заигрывания с либералами мемуарист относит, по опыту своей службы, И.Л. Горемыкина к ряду почтеннейших шефов жандармов, не видя в нём никаких проявлений левизны [В.Д. Новицкий «Из воспоминаний жандарма» М.: МГУ, 1991, с.171].
Единственным, кто в издании Высшего Монархического Совета попытался опорочить память И.Л. Горемыкина, оказался князь Дмитрий Петрович Голицын-Муравлин: «окинем взглядом толпу сановников, которая сопровождала первые царственные шаги Императора Николая II. Разве не был вредителем власти, в первую свою бытность министром внутренних дел, И.Л. Горемыкин, впоследствии значительно поправевший?». А.С. Ермолов у какой-то актрисы провозглашал тост за конституцию. А.Н. Куломзин «прославился парламентаристским англофильством» [«Двуглавый Орёл» (Берлин), 1921, №9, с.29].
Трудно сказать, в какой мере на такой отзыв оказывала влияние, помимо недостоверной, сформированной клеветническими сплетнями, ранней либеральной репутации Горемыкина, обстановка эмигрантской жизни. Автор этой статьи в эмиграции именовался главным политическим представителем Великого Князя Кирилла Владимировича. Михаил Горемыкин тогда же поддерживал притязания Кирилла на титул Императора, но хотел примириться со сторонниками Николая Николаевича, сделать его Главнокомандующим при Кирилле. В конце 1922 г. Голицын-Муравлин перестал быть представителем Кирилла, его сменил князь В.М. Волконский, а его помощником называли М.И. Горемыкина. «Последний человек умный, яркий кирилловец, но, кажется, совсем спился» [Н.В. Савич «После исхода. Парижский дневник» М.: Русский путь, 2008, с.317].
Затем Д.П. Голицын взялся распространять ложные сведения, будто Император Николай II не убит большевиками. Такое поведение подрывает доверие к его словам. Князю Д.П. Голицыну не достаёт служебного опыта с И.Л. Горемыкиным, он и тут разнёс слухи. Князь родился в 1860 г., был значительно моложе министра и очень долго служил в Государственной канцелярии, чем серьёзно отличается от Горемыкина, как и тем что до 1901 г. успел опубликовать много романов. Периодически он возвращался к кратковременному управлению делами государственного секретаря, с 1887 г. участник Особого Совещания по делам дворянского сословия, участвовал в 1894 г. в церемонии перевоза тела Императора Александра III в Петропавловский собор, в 1906 г. заведовал канцелярией по учреждениям Императрицы Марии – ничего и близко сопоставимого с деяниями и политическим значением Горемыкина [Д.Н. Шипов «Государственные деятели Российской Империи» СПб.: Д. Буланин, 2001, с.169].
Е.Н. Шелькингу И.Л. Горемыкин говорил: «странное дело, когда я был министром внутренних дел, мне создали репутацию чуть ли не “красного” и особенно старался в этом смысле “либеральный” Витте. В 1906 году меня считали ультрареакционером. Между тем, я не был ни тем, ни другим. Я попросту всегда стоял на почве закона». И это был закон о Самодержавной власти, какой обладал Император по ОГЗ до 1906 г., а затем и до 1 марта 1917 г. Мемуарист доказывает, что Горемыкин не был реакционером, не уточняя, что именно он имеет ввиду, но поясняет почему. «Глубоко образованный, первоклассный стилист, свободно владеющий большинством европейских языков, И.Л. Горемыкин считался знатоком России», он был «слишком европейцем и глубоко культурным человеком». А в основе этой культуры лежало православное вероучение, которое, чаще всего, наряду с идеей Самодержавной монархии, клеветнически нарекалось реакционным [«Историк и Современник» (Берлин), 1923, Вып.4, с.153]
В 1918 г. Шелькинг использовал как хвалебное, сравнение Горемыкина с английскими тори, подстраиваясь под предпочтения иностранного читателя.
Ради полной ясности, понятие реакционности не следует употреблять, как не отражающее сути плодотворной монархической идеологии, не направленной на консервацию отсталости, а представляющей свои правые пути последовательного развития. Неуместную путаницу вносит и часто навязываемый либералами против монархистов географический термин европейскости, не отражающий вектора политических явлений. Левые и правые одинаково европейские. Лучше прямо говорить о принадлежности Горемыкина к элитарной правой русской культуре.
В более точной характеристике говорится не только о заслугах И.Л. Горемыкина в борьбе с революцией, о его стремлении обеспечить «правопорядок» (что важнее отвлечённой законности). Но особо подчёркивается идейная роль политика, «боровшегося с космополитизмом русского общества» [Б. «Иван Логгинович Горемыкин. LXXV. 27 октября 1839 – 27 октября 1914» Пг.: Тип. Тренке и Фюсно, 1915, с.46].
Этим космополитизмом, безусловно, являлись левые европейские начала либерализма и конституционализма, идеи 1789 г. Ещё один хорошо знавший И.Л. Горемыкина мемуарист, И.И. Тхоржевский, называя всю высшую бюрократию самым культурным и дисциплинированным слоем Российской Империи, указывал на полное отвержение Горемыкиным популистского демократизма: «служение только Монарху», «много искреннего старозаветного рыцарства. Но была и доля политического лукавства», вернее сказать, расчёта. Горемыкин понимал что, занимая самые крайне правые позиции, он приобретает в глазах Императора Николая II политическое преимущество над теми кто не изъявлял готовности биться за Самодержавие.
Зарубежные издания, приписывавшие И.Л. Горемыкину «либеральный склад ума», принадлежали к демократическому направлению, которое отказывается признавать положительный смысл политических идей правых монархистов и потому любые бесспорно продуктивные их действия приписывает веянию либерализма, не имея на то никакого права [«Bulletin polonais littéraire, scientifique et artistique» (Paris), 1896, 15 Janvier, P.21].
Как сообщает один из мемуаристов, многие в Российской Империи, введённые в заблуждение левой политической пропагандой, путали доброту и культурность с либерализмом, необоснованно отождествляя эти явления [А.А. Плещеев «Моё время» Париж, 1939, с.21].
Навязываемое деление государственных служащих Российской Империи на либералов и консерваторов являет собой невероятно убогий примитив, который ровно ничего не даёт для понимания сути политического процесса, борьбы идей и множества важных оттенков позиций внутри левого и правого лагеря. Соединение под одним именем консерватора всех правых националистов и православных монархистов, никогда не принадлежавших в какой-то одной партии, вреднейшая бессмысленность. Тем более абсурдна тенденция записывать многих правых монархистов даже и в либеральный лагерь.
В отличие от Витте, Горемыкин не старался всякими выдумками портить репутации других министров и не пытался купить себе популярность, искание которой всю жизнь оставалось ему совершенно чуждо. До Горемыкина, 11 июля 1894 г. Чехов писал, что Витте «направо и налево» раздаёт субсидии газетам. А.С. Суворин тогда высказывал недовольство поведением министра финансов [А.П. Чехов «Письма. Март 1892 – 1894» М.: Наука, 2009, Т.5, с.300, 559].
Про Горемыкина всегда будут говорить обратное. Одна из лучших характеристик его заключается в противопоставлении его популистскому фарисейству: в отличие от депутатов Г. Думы, Горемыкин «обиделся бы, если бы кто-нибудь заподозрил в нём претензию на красноречие» [А.В. Тыркова «На путях к свободе» М.: Московская школа политических исследований, 2007, с.274].
Ровесник Горемыкина, правовед, весьма вероятно, знакомый ему по службе в Варшавской юридической комиссии 1867-1873 годах, М.П. Соловьёв был назначен на место Феоктистова 23 мая 1896 г. Эту замену изображал в пародийных стишках А.А. Измайлов: «офелоктившись сначала, осоловьёвившись поздней, живёт успехами скандала писатель наших серых дней» [«Мелочи жизни. Русская сатира и юмор второй половины XIX – начала ХХ в.» М.: Художественная литература, 1988, с.215].
В июле 1918 г. Василий Розанов вспоминал как видел С.М. Проппера «с покойным добрым и праведным Мих. Петровичем Соловьёвым на даче у И.И. Ясинского» [А.А. Измайлов «Переписка с современниками» СПб.: Пушкинский Дом, 2017, с.492]. М.П. Соловьёв стремился повлиять на «Биржевые Ведомости», дабы превратить издание Проппера в «чёрно-консервативный орган» с помощью Ясинского [«Неизданный В.Г. Короленко. Дневники и записные книжки 1914-1918» М.: Пашков дом, 2013, Т.1, с.212-213].
В.Г. Короленко считал что сдержанность и благоразумие И.Л. Горемыкина не позволяли сильно развернуться М.П. Соловьёву в его борьбе с оппозиционной печатью.
Когда революционер Водовозов звал М.П. Соловьёва совершенно диким, то подразумевал сильнейшие монархические настроения и стремление к проявлению активности. В качестве другого примера навязывания изданиям желаемых им более правых редакторов назван Драгомирецкий при Гайдебурове [В.В. Водовозов «Жажду бури» М.: НЛО, 2023, Т.1].
Князь В.В. Барятинский, начавший в ноябре 1899 г. выпускать «Северный Курьер», вспоминал про «доброжелательного (лично ко мне) И.Л. Горемыкина», в отличие от выражавшего антипатию М.П. Соловьёва, боровшегося с идеей парламентаризма. «Вы грезите о палате депутатов!» — «прошипел Соловьёв» [«Сегодня» (Рига), 1929, 6 октября, с.5]. Конфликт с М.П. Соловьёвым подтверждается в переписке. 6 февраля 1899 г. кн. В. Барятинский сообщал И.Л. Горемыкину: «Резкое и нескрываемое недружелюбное отношение г. Соловьёва ко мне, моему труду, и рикошетом даже к моей жене – побуждает меня обратиться к Вам». В поведении М.П. Соловьёва он усмотрел досаду «на Ваше благосклонное внимание к пьесе «Заза»» и на разрешение И.Л. Горемыкиным постановки пьесы. «Подобное отношение г. Соловьёва взвело в нём полное и нескрываемое желание не придавать ходу моему прошению касательно моей пьесы «Во дни Петра». Он при свидетелях заявил таковое своё намерение в самых резких выражениях, о которых я буду иметь честь лично доложить Вам. Я обращаюсь, Ваше Высокопревосходительство к Вашей справедливости и искренней доброте, которые Вы уже оказали мне» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.396 Л.19-20].
Следует учесть, что в «Северном Курьере» собиралась целая группа марксистских авторов: П.Б. Струве и его единомышленники. Так что претензии М.П. Соловьёва к Барятинскому более чем основательны.
Также среди воспоминаний есть характеристика 50-летнего М.П. Соловьёва: «непрерывно и много читал. Читал горячо и с интересом», в чём В.В. Розанов видел редкий инстинкт и особый умственный талант, душевный аппетит [Павел Финн «Но кто мы и откуда» М.: АСТ, 2017].
По воспоминаниям П.П. Перцова, К.П. Победоносцев и М.П. Соловьёв были искренне близки Розанову. М.П. Соловьёв оказывал на публициста положительное нравственное влияние. Такова записка Михаила Соловьёва от 18 мая 1898 г.: «Василий Васильевич! Под гнётом духа любострастия пишете Вы последние статьи Ваши!», по записи мемуариста, надолго вызвала у Розанова смущение [«1900 в неизвестной переписке, статьях, рассказах и юморесках» СПб.: Родник, 2014, с.601, 855].
Поразительно бестолковая шаткость суждений Розанова доходила до того, что М.П. Соловьёву приходилось втолковывать ему самую элементарную вещь о полной противоположности христианства и пантеизма, но Розанов продолжал клониться в сторону антихристианских позиций [В.В. Розанов «Признаки времени (статьи и очерки 1912 г.)» М.: Республика, 2006, с.314].
В октябре 1896 г. через Розанова хотел устроить знакомство с М.П. Соловьёвым правый публицист Фёдор Шперк. Розанов отвечал, что ему не удобно передавать карточку [Ф.Э. Шперк «Как печально, что во мне так много ненависти…» СПб.: Алетейя, 2010, с.68].
В 1899 г., когда Розанов переживал серьёзные денежные затруднения, М.П. Соловьёв очень существенно ему помогал вместе с С.А. Рачинским [«Вестник РХД», 1991, №162-163, с.259].
В статье за 1910 г. Розанов писал, что М.П. Соловьёв «был любим Горемыкиным». Театральный журналист А.Р. Кугель видел на лице М.П. Соловьёва непроницаемую тайну и загадочность сфинкса. Есть воспоминания, где М.П. Соловьёв фигурально зовётся идейным телохранителем К.П. Победоносцева, преследовавшим сторонников пантеистического философа Владимира Соловьёва в журнале «Неделя» и в «Руси» Гайдебурова [«Минувшее. 24», 1998, с.15].
Литературные критики находили очень интересной написанную М.П. Соловьёвым для «Русского Вестника» биографию Францизска Ассизского. Она «характеристична для нашего времени и интересов общества». Лучшие публицисты придавали значение статьям М.П. Соловьёва о работах русских художников и их выставках, появлявшимся в «Московских ведомостях» в 1880-е [И. Кристи «Письма к К.Н. Леонтьеву. Статьи» СПб.: Владимир Даль, 2016, с.284, 566].
В январе 1904 г. Государь приобрёл у вдовы М.П. Соловьёва для Эрмитажа собрание иллюстрирующих Евангелие византийских и итальянских письмён и миниатюр.
Председатель Одесского цензурного комитета вспоминал, что М.П. Соловьёв считался кандидатурой К.П. Победоносцева. Согласно легенде, «акции» Горемыкина «сильно пошатнулись при Дворе» и Победоносцев якобы обещал в обмен на назначение М.П. Соловьёва устроить Горемыкину у Царя «милостивую аудиенцию» [А.Е. Егоров «Страницы из пережитого» Одесса, 1913, Т.II, с.205]. Ретивым ставленником К.П. Победоносцева зовёт Михаила Соловьёва другой мемуарист [П.П. Перцов «Литературные воспоминания 1890-1902» М.: НЛО, 2002, с.160].
Стоит обратить внимание, что Ходынская трагедия не могла вызвать какие-либо осложнения для И.Л. Горемыкина, стоявшего вне обвинений. А переписка министров, не известная сплетникам, доказывает что М.П. Соловьёв был избран ещё до Коронации. Выдумка о необходимости навязывать его Горемыкину в обмен на какие-то условия, абсурдна, т.к. Горемыкин имел с М.П. Соловьёвым самые сердечные отношения и ничего не имел против него.
Зато К.П. Победоносцев, принимая участие в выдвижении М.П. Соловьёва, чуть ранее, в октябре 1895 г. выражал недовольство статьёй М.П. Соловьёва в «Московских Ведомостях», задевающей Иерусалимскую Патриархию. Претензии Победоносцев адресовал секретарю Императорского Православного Палестинского Общества, в котором М.П. Соловьёв состоял с 1891 г., председательствовал в Отделе пособия православным паломникам. Хитрово уверял, что постарался бы предотвратить появление такой справедливой, но излишне резкой статьи, зная о ней. Позже в некрологе Хитрово вспоминал что М.П. Соловьёв отличался дерзкой прямолинейностью, чуждался лести [В.Н. Хитрово «Собрание сочинений и писем» М.: ИППО, 2012, Т.3, с.42, 296].
Судя по датам, первее всех Е.М. Феоктистов в письме Горемыкину от 27 апреля сообщал, что по совету нескольких близких ему лиц рекомендует на свою должность М.П. Соловьёва, предупредив что пост соответствует 3-му классу, а М.П. Соловьёв состоял статским советником [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1299 Л.12].
Уже после этой рекомендации, видимо, по просьбе самого министра внутренних дел, за её рассмотрение взялся К.П. Победоносцев, написавший 29 апреля И.Л. Горемыкину: «Я говорил сегодня с Соловьёвым Михаилом Петровичем. Думаю что он, по своему направлению, по образованности и знанию, в настоящее время, более других имеющихся в виду, отвечает должности, хотя эта должность очень трудна в нынешней всеобщей распущенности». «Он кончил курс в 1863 году в Моск. Унив., по юридич. факультету и поступил на службу к Муравьёву в С.-З. край, через 7 лет оставил её, потом был присяжным повер. в Москве, а когда это опротивело, перешёл сюда в Военное м-во. В Москве работал много у Каткова. Путешествовал за границей, знает хорошо иностранные языки. Статским советником состоит уже 10 лет». «Он будет у вас в среду в 11 ½ ч. Адрес его – Александровская площадь, 69» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1103 Л.23-24].
Слух о назначении М.П. Соловьёва впервые был замечен в «Гражданине» 26 мая. К 7 июня оно состоялось.
А.И. Иванчин-Писарев 15 июня 1896 г. сообщал Н.К. Михайловскому, что М.П. Соловьёв не оправдал опасений. После прочтения 5 номеров журнала «Русское Богатство» он сказал, что «многие статьи ему очень понравились. Одни талантливы, а другие, направленные против марксизма, прямо желательны». «Какие бы ни были мои личные убеждения, я должен поступать согласно с видами высшего правительства, руководствоваться желаниями министра, выражающего волю государя императора. А министр против стеснений» [«Литературное Наследство» М.: ИМЛИ РАН, 2022, Т.107, Кн.1, с.408].
Императрица Мария Фёдоровна 12 июня в 14 ч. принимала И.Л. Горемыкина с депутацией С.-Петербургской городской думы [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.396 Л.1].
МВД отменило запрашиваемое петербургской думой введение налогов на велосипедистов, считая чрезмерным введение дополнительного обложения сверх указанного в новом городовом положении [«Новое Время», 1896, 12 июня, с.3].
Министерский циркуляр Горемыкина от 14 июня также предотвращал незаконные поборы за выдачу паспортов на переселение волостными правлениями [А.Н. Куломзин «Всеподданнейший отчёт по поездке в Сибирь» СПб.: Госуд. Тип., 1896, с.31].
18 июня новгородский губернатор Б.В. Штюрмер просил Горемыкина перевести его в Ярославль. К.П. Победоносцев в этот день писал, что надеялся встретить И.Л. Горемыкина в Комитете Министров, но Иван Логгинович там отсутствовал. Для настроений К.П. Победоносцева, враждебных гуманизму, характерно выражение в его письме: «я спасался от людей в Выборге, где никто меня не знает» (прятался от поздравлений).
В 1896 г. И.Л. Горемыкин утверждал: «издательская предприимчивость в области повседневной печати ничем не отличается от прочих видов коммерческих предприятий» [«Вопросы истории», 2006, №5, с.112]. На этом основании И.Л. Горемыкин предложил обложить периодические издания 5% налогом со стоимости объявлений на покрытие расходов работы цензуры. Министр указывал на потерю изданиями литературного и политического характера. С.Ю. Витте не дал этому проекту осуществиться – между ними велась переписка [А.Н. Боханов «Буржуазная пресса России и крупный капитал» М.: Наука, 1984, с.41].
Из Ораниенбаума 22 июня К.П. Победоносцев спрашивал, будет ли Государь в Царском Селе или Петергофе. При въезде Царской Семьи в столицу её встречали на вокзальной платформе от МВД Горемыкин и Неклюдов. Войска приветственно выстроились от Знаменской площади до Казанского собора.
25 июня в столетие со дня рождения Императора Николая I И.Л. Горемыкин и другие министры прибыли в Петропавловский собор, митрополит Палладий совершил панихиду, в честь знаменательной даты выбили золотую медаль, возложенную на гробницу Царя. В тот же день отмечены переговоры с Горемыкиным в дневнике Победоносцева.
При закладке женского медицинского института 29 июня его директор профессор Анреп в присутствии графа Делянова поднимал тост в честь И.Л. Горемыкина.
Для общей характеристики Царской России можно отметить что в частной переписке даже настроенные в пользу революционеров лица, посещавшие Европу и достаточно широко осведомлённые, признавали, как Е.Г. Головачёва (Клеменц), долго жившая с ссыльными в Красноярске и Иркутске: «я знаю и то, что положение женщины в России лучше, чем за границей» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.28 Л.111].
Это можно сказать и про положение многих других групп населения, на ком часто пытаются спекулировать левые пропагандисты, пытаясь навязать им свою вредную политическую повестку.
В улучшении позиций женщин Горемыкин участвовал, прямо поддерживая Дома Трудолюбия, обеспечивавшие очень много женщин рабочими местами, т.е. дававшие им источник дохода. Но следует отметить что программа правых монархистов достаточно прозорливо не отстаивала ни чьего равноправия, в т.ч. женского (что клеветнически путают с бесправием). Логически равноправие, за которое боролись либералы и социалисты, означало принятие женщинами мужской гендерной роли. Что ведёт к огромному, критическому для воспроизводства общества, сокращению рождаемости. Это обстоятельство является одним из основных показателей цивилизационной смерти, наряду с бесконтрольной миграцией инородцев или насаждением светского, т.е. официально-атеистического государства.
Те же убийственные последствия что и равенство, имеет и революционный принцип свободы: «если вы цените свободу превыше всего, то вы должны отказаться от материнства, состояния, ограничивающего свободу женщины практически всеми возможными способами» [Louise Perry «The Case Against the Sexual Revolution» Polity, 2022]. Насаждение социалистами равенства привело к тому что в СССР произошло сокращение «величины семьи в среднем до 3 чел.», что означает фактическое национальное уничтожение [Н.А. Араловец «Городская семья в России во второй половине ХХ в.» М.: ИРИ РАН, 2015, с.48].
Посвящённые этим бесспорным закономерностям в циклах рождений и гибели цивилизаций выдающиеся интеллектуальные исследования показывают к какой конструкции, противоположной христианскому миропорядку, приводит победа левых движений: «Ребенок, согласно либерализму, подходит к алтарю образования — ибо школа, по сути, является церковью либерализма — во всей своей духовной наготе» — т.е. либералы хотят чтобы люди полностью сформировались через школьную пропаганду в принудительной либеральной системе образования, а не имели религиозных, культурных, политических принципов и ценностей, независимых от либеральной школы или ей противоположных. Джеймс Бёрнхем утверждает что Робеспьер первым предложил создать систему всеобщего якобы бесплатного образования для тотального насаждения детям революционной пропаганды за счёт их налогов. Либералы показали, что их главная цель в борьбе с правыми состоит в уничтожении христианской цивилизации, но сами левые не способны к строительству цивилизации новой взамен разрушаемой [James Burnham «Suicide of the West. An Essay on the Meaning and Destiny of Liberalism» New York, 1964].
Отсюда понятно, что образовательная система у правых монархистов не отстаивала неграмотность, как лгали левые пропагандисты, а содержательно оппонировала левой программе.
Князь Э.Э. Ухтомский написал И.Л. Горемыкину 1 июля 1896 г.: «Вчера я был вызван в Петергоф и получил “приказание видеть г. министра внутренних дел”. Осмеливаюсь просить о назначении мне дня и часа» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1297 Л.1].
3 июля у Государя обер-прокурор обсуждал Ходынское несчастье. За удачную ликвидацию народовольческой типографии в столице Горемыкин 3 июля поручил С.Э. Зволянскому передать С.В. Зубатову свою искреннюю признательность за труды.
В письме К.П. Победоносцева к И.Л. Горемыкину 3 июля прорвалась неприязнь к князю В.П. Мещерскому: «Вижу сегодня в Правит. Вестнике запрещение розничной продажи «Гражданину». Конечно это для него не чувствительно, а следовало бы за него приняться. Сегодня я был у Императрицы Марии Фёдоровны. Она весьма возмущена тем что Мещерский в своих воспоминаниях рассказывает о дружбу своей с Наследником. В последнем № он поместил письмо к нему покойного Цесаревича Николая Ал. Теперь он перейдёт ко времени Цесаревича Александра, и от него станется что будет печатать письма и записки покойного Государя. Следует, кажется, остановить его» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1103 Л.31].
4 июля 1896 г. Иван Балашов отправил Победоносцеву письмо относительно взыскания, наложенного на газету «Гражданин» за №52 от 27 июня с вопросом «Дневника», держится ли правительство либерального направления Екатеринославского губернатора или консервативного как Московский. «В статье «Гражданина» нет ничего такого, к чему бы Министр мог бы придраться по форме. Так как в ней высшее правительство выгораживается автором, значит г. Горемыкин недоволен самою сущностью статьи, т.е. его “радикализм” возмущается “консерватизмом” газеты».
Насадители этой разновидности консерватизма видели в действиях Горемыкина серьёзную опасность и хотели побудить Победоносцева и Государя выступить против Горемыкина. Автор письма сообщал, что консерваторы были крайне удивлены рекомендацией Горемыкина Государю со стороны Победоносцева, т.к. принадлежность Горемыкина «к партии “либерального чиновничества” не составляло тайны ни для кого». Консерваторы надеялись, что Горемыкин переменился, но «хотя не слишком резко, но всё-таки довольно систематически “либеральничает”» и ведёт с ними борьбу. Либералам же, т.е. якобы Горемыкину, партия его критиков со лживой наглостью приписала лозунг «безверие и радикализм» и далее спрашивала Победоносцева: «не считаете ли Вы для себя делом совести и чести сознаться перед Государем в том, что Вы ошиблись, рекомендуя ему Горемыкина и убедить Его сменить последнего, пока ещё не поздно» во имя дела Александра III [РГИА Ф.1574 Оп.2 Д.64 Л.85-87].
Ложные обвинения в либерализме и радикализме указывают на сумасбродную неадекватность данной консервативной партии и на разведение ею вреднейшей вражды между монархистами. Несостоятельные консерваторы такого рода окажутся неспособны признать политическую самостоятельность и дееспособность Николая II и лучших царских сотрудников, благодаря содействию которых Российская Империя продолжала, системно развиваясь согласно своему внутреннему органическому устройству, двигаться вперёд, не застревая в прошлом.
Нападение на Горемыкина, надо полагать, использует в качестве предлога заметное нежелание министра неразумно «чернить и порочить» достижения политики Императора Александра II, что «в 80-х и 90-х годах» «считалось не только в моде, но даже, прямо можно сказать, ставилось людьми «благомыслящими» в особенную заслугу перед отечеством» [П.В. Засодимский «Из воспоминаний» СПб.: Т-во И.Д. Сытина, 1908, с.193].
Стабилизационный курс Александра III следует считать вполне оправданным и закономерным, но недопустимо создавать какой-то несообразный ложный культ одного Монарха за счёт принижения политического величия предшественников и преемников. Объявляя курс Александра II либеральным, а не крайне правым, такие консерваторы работали на усиление левой идеологии, которая усиленно пытается присвоить не принадлежащие ей заслуги. Себе же обманутые такой либеральной пропагандой консерваторы обрубали корни.
Как последовательный монархист, Горемыкин принадлежал к тем, кто видел в свершениях Александра II «не пошлый либерализм, а глубокое христианское чувство» [Г.Н. Трубецкой «Воспоминания русского дипломата» М.: Кучково поле, 2020, с.86].
Спекуляции либералов на имени Александра II не последовательны и чаще можно встретить полностью враждебную Монархии чисто мифологическую конструкцию: «Октябрьская революция во многом была обусловлена половинчатостью Крестьянской реформы» [Е.Г. Ясин «Новая эпоха – старые тревоги» М.: Новое издательство, 2004, с.67].
Не монархисты были прямыми политическими союзниками революционеров и социалистов, а либералы. Так что старания либералов переложить с себя ответственность за идеологический дезинформационный подрыв устойчивости Российской Империи, за левую идеологическую подготовку строительства СССР в качестве Анти-России, не должны вводить в заблуждение относительно того кто на чьей стороне.
Ровно такую же ответственность за новую победу большевизма в 2000 г. несут пособники красных, которые занимались политической реабилитацией СССР, поддерживая подлейшую лживую пропаганду, будто «нищета и вымирание населения» «прямое следствие» «реформ» «экспериментаторов за чужой счёт», т.е. демократов 1990-х типа Е.Г. Ясина [А.М. Величко, М.Б. Смолин «Православная государственность: 12 писем об Империи» СПб.: Изд. Юридического института, 2003, с.132].
Такие советские пропагандисты, снимая ответственность со строителей провалившегося социализма, перекладывают её на противников большевизма. Как будто не устройство и идеология СССР явилась подлинным злом, главным источником нищеты и вымирания, а реформистский отход от социализма.
Егермейстер И.П. Балашов выполнял поручения Царя на Дальнем Востоке и Порт-Артуре, занимался там финансовыми делами, но не имел существенного влияния на правительственную политику.
Совершенно опрометчиво негативно отзывающийся о группе А.М. Безобразова биограф, ограничивающий свой кругозор поддержкой одного Куропаткина, называет близкого к В.К. Плеве и А.М. Абазе Балашова крупнейшим промышленником и мультимиллионером. Игнорируя наиболее продуктивные исследовательские результаты С.С. Ольденбурга, историк заблуждается, повторяя чужие вымыслы, будто русские действия в Корее могли испортить отношения с Японией, когда портить там было совсем нечего и некем [А.Г. Шаваев «Куропаткин. Судьба оболганного генерала» М.: У Никитских ворот, 2019, с.237-239].
Призвав монархистов сплотиться для идеологической борьбы с заслуживающим осмеяния лженаучным либерализмом, редактор «Московских Ведомостей» указывал, что распространители конституционного дурмана множат «ложные слухи, будто правительство уже перешло на их сторону». В.А. Грингмут удивлялся, похоже, именно лжи о И.Л. Горемыкине, и тому как вместо опровержения слухов находятся Балашовы, склонные доверять такой нелепости [Spectator «Наша партия» М.: Университетская типография, 1896, с.7].
Ошибочные мнения о русских министрах вспоминает другой писатель из монархистов: «у нас часто и либерализм понимается шиворот на выворот. Я наблюдал это над целым рядом государственных людей. Оценка многих из них была продуктом непонимания их», одновременно со столь же ошибочным до мифологизации преувеличением консерватизма К.П. Победоносцева, Н.В. Муравьёва, В.К. Плеве [В.А. Скрипицын «Богатырь мысли, слова и дела. Посвящается памяти П.А. Столыпина» СПб.: Городская типография, 1911, с.15].
По воспоминаниям П.П. Перцова, назначение Н.В. Муравьёва первоначально, напротив, считалось либеральным.
Самую уместную критику со стороны К.П. Победоносцева заслуживал В.С. Соловьёв. 6 июля обер-прокурор в письме к И.Л. Горемыкину передал, что у этого философа «голова совсем сбилась с толка, от самолюбия», «выставляет себя пророком в роде Толстого и уже сходится с ним, в религиозных вопросах, идеей о непротивлении всякому злу». «В Москве Государь сообщил мне глупое, безумное и дерзкое» письмо Владимира Соловьёва Царю, «посылаю вам прочесть копию, которую прошу возвратить мне. Это письмо я вернул Государю с комментарием, с коим Государь вполне согласен и назвал письмо Соловьёва безумным».
12 июля К.П. Победоносцев сожалел о смерти ярославского губернатора: «надо бы туда хорошего русского человека», и снова просил вернуть копию письма В.С. Соловьёва [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1103 Л.33-35].
13 июля Горемыкин снова отмечен в дневнике Победоносцева.
В Нижний Новгород отправились все министры, в т.ч. 14 июля Горемыкин и Ермолов. На выставке 16 июля произносили речи Витте и Ермолов, Горемыкин обошёлся без произнесения тостов. В.П. Мещерский в восторге от великолепия увиденного назвал громадным мировым событием, имеющим благотворное воспитательное значение для гимназистов, которым был предоставлен проезд для посещения. Министерство Народного Просвещения выделило несколько тысяч рублей. Министерство Путей Сообщения предоставило даровой проезд младшим служащим железных дорог. Выставка доказала обретение Российской Империей промышленной и мануфактурной независимости от иностранного производства.
20 июля министры были на завтраке экспонентов сельскохозяйственных отделов. Горемыкин говорил о важности правительственных мероприятий к поднятию сельского хозяйства, помимо технических улучшений [«Новое Время», 1896, 25 июля, с.3].
Выступая на торгово-промышленном съезде в Нижнем Новгороде, С.Ю. Витте объяснил, что поддерживает протекционистские пошлины на ввоз товаров во избежание выкачивания русских капиталов за границу при наличии таких же пошлин в других странах, препятствующих снижению цен, которое Россия не может проводить в одностороннем порядке. Такую же аргументацию министр приводил и в докладах Николаю II, доказывая необходимость планомерного сохранения пошлин в интересах роста отечественной промышленности. Привлечение иностранного капитала при этом поддерживало полезный уровень конкуренции, также способствовало росту производства. Доля иностранных капиталов в акционерных обществах при этом не превышала одной трети среди новых предприятий. Сведения правительства о системном постоянном росте опровергали революционную мифологию: «нельзя серьёзно утверждать, что вся страна беднеет» [С.Ю. Витте «Собрание сочинений и документальных материалов» М.: Наука, 2006, Т.4, Кн.1, с.164, 182, 188, 333].
В июле 1896 г. Горемыкин разослал 13 окраинным губернаторам запросы о состоянии их губерний и о возможности введения земского самоуправления. Губернаторы не высказали однозначного мнения. Из газет «Новое Время» осторожно поддержало намерения Горемыкина, а «Московские Ведомости» опасались вероятности увеличения вредного влияния интеллигенции.
И.Л. Горемыкин постарался выработать компромиссный вариант и добиться единодушия, считая его крайне важным и получается, первенствующим условием для реформ, которые не должны насаждаться сверху без уверенности компетентных и причастных и делу лиц в возможности реформы и её успехе. Использование регулярной системы опросов служило монархической альтернативой парламентаризму и революционному деспотизму.
После состоявшейся по желанию Императора Николая II встречи министра с Э.Э. Ухтомским, тот обратился к Горемыкину с письмом 22 июля 1896 г.: «ободрённый лестным вниманием Вашим осмеливаюсь беспокоить немногими строками. Считая себя безусловно связанным интимною стороной вашего последнего разговора и ни с кем о нём не говоря, я был крайне удивлён, что он уже на другой день стал известен городу. Затем М.П. Соловьёв, придя в редакцию моей газеты» в отсутствие Ухтомского выразил неудовольствие со стороны К.П. Победоносцева и именем Горемыкина «запретил печати говорить о польском вопросе», веротерпимости и т.п. «Этого мало: в Ваше отсутствие в «Моск. Вед.» (№196) напечатана была статья (якобы из Варшавы, но составляющая слово в слово отражение мыслей самого г. Соловьёва, где человеком по тону изложения несомненно посвящённым в тайну беседы Вашей со мной), именно об этих “проклятых” вопросах, в духе прямо враждебном тому, о чём я с таким благоговением читал на Вашей веранде в предпрошлый четверг. Глубоко взволнованный, обиженный и возмущённый 1) нескромностью г. Соловьёва, 2) гнётом, под которым должен находиться только я, когда всякий неподписывающий даже своего имени негодяй имеет право говорить на темы, вредные государству, — почтительнейше прошу принять к сведению мои слова (я нарочно пишу, а не устно сообщаю, дабы это служило документом) и указать, как же мне пошедшему в журналистику из-за убеждения, быть перед комбинацией, где меня прямо злоумышленно вовлекают в необходимость не исполнять Вашего желания. Простите, что говорю открыто и отнимаю у Вас дорогое время» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1297 Л.3-4].
В.К. Истомин сообщал 22 июля генерал-губернатору, что И.Л. Горемыкин обсуждал с ним необходимость срочно назначить нового московского обер-полицмейстера вместо уволенного в результате следствия Палена. Горемыкин соглашался с предложением остановить выбор на Д.Ф. Трепове. Работа Палена вызывала опасения Горемыкина, но не за себя лично, а за то что может оказаться под ударом монархический принцип.
Письмо В.С. Соловьёва никак не получалось забрать у И.Л. Горемыкина обратно. 23 июля К.П. Победоносцев вновь просил его отдать ту копию: «конечно оно уже не нужно вам – прикажите возвратить».
На бланке МВД министр благодарил 24 июля Г.П. Сазонова «за доставленные мне исследования Ваши по некоторым вопросам крестьянской жизни и земской деятельности» [РГИА Ф.1659 Оп.1 Д.25 Л.1].
26 июля на площади Никольского рынка при закладке второго Дома трудолюбия И.Л. Горемыкин положил первый камень, сопровождали его заместитель Неклюдов, градоначальник Клейгельс, секретарь Царицы Александры граф Ламздорф. Приглашён был также о. Иоанн Кронштадтский. Они же далее вместе обедали на Аптекарском острове.
Газеты сообщали и об устройстве И.Л. Горемыкиным с его супругой дома трудолюбия в их с. Белое. Сотрудник благотворительного комитета Царицы Александры барон А.А. Буксгевден выезжал к ним для осмотра дома.
При отъезде Императрицы Марии Фёдоровны в Данию 27 июля И.Л. Горемыкин провожал её в Петергофе с министром Двора, его заместителем Фредериксом, дворцовым комендантом П.П. Гессе.
Согласно распоряжению Святейшего Синода Горемыкин приказал запретить печатать в типографиях изображение иконы с наименованием «Спорительница хлебов» из-за допущенных канонических нарушений в образе Божией Матери.
28 июля из Ораниенбаума К.П. Победоносцев просил И.Л. Горемыкина завтра «застать меня на Литейном в 2 часа».
В.К. Истомин 2 августа написал И.Л. Горемыкину, что Великий Князь Сергей Александрович «лично пишет Вам о своих соображениях, относительно назначения Трепова. Полагаю, что письмо Его Высочества уже получено Вами, так как почта из Франценбада в Петербург доходит быстрее, чем до Бородино» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.802 Л.1].
Московский губернатор А.Г. Булыгин 3 августа передавал слова И.Л. Горемыкина о задании Царя выяснить виновность чинов полиции, которое остаётся не исполненным. Также Горемыкин сообщал о стремлении Витте отказать в помощи пострадавшим 18 мая, которые не остались сиротами. Вопрос о пособии им поддерживался Горемыкиным.
П.С. Ванновский, приватно отвечая на официальное письмо И.Л. Горемыкина, 3 августа просил уведомить его о работе комиссии по дорогам в Юго-Западном крае. Военный министр беспокоился, что «дороги исправлять в сём году не будут», пока не «грянет гром», но откладывать меры по обороне Отечества считал непростительным, последствия «могут быть самые гибельные» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.478 Л.3].
Н.В. Клейгельс в докладной записке 5 августа 1896 г. писал, что необходимо способствовать устранению антагонизма между фабрикантами и рабочими. Одним из наиболее назревших вопросов градоначальником названо нормирование рабочего дня. Резолюция Горемыкина: «весьма нужное. Внести в письмо министру финансов» [«Ленин. Петербургские годы» М.: Политиздат, 1972, с.367-368].
Император Николай II 5 августа передал в распоряжение МВД 30 тыс. руб. из остатков сумм Комитета помощи пострадавшим от неурожаев, на поддержание основанных в Пермской губернии приютов госпожи Огневой.
Граф П. Шувалов, Варшавский генерал-губернатор, 7 августа попросил Горемыкина вернуть ему всеподданнейший отчёт с отметками Николая II, «которые должны служить для меня руководством при рассмотрении и направлении весьма многих вопросов» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1412 Л.5].
Шувалов будет уволен в январе 1897 г. с причислением к МВД, и будет благодарить Горемыкина за «доброе расположение», которым пользовался в Варшаве.
К.П. Победоносцев 9 августа прислал И.Л. Горемыкину предложение общей системы облегчения знакомства новых губернаторов с хозяйственными особенностями местных условий поручаемого им края.
10 августа 1896 г. Великий Князь Сергей Александрович записал, по-видимому, о распространяемых ложных обвинениях: «получил ответ от Горемыкина. Благословляю судьбу, что всё это время я мирно здесь жил вдали от мерзости людской!».
При отъезде Царской Семьи в Вену 13 августа Горемыкин, Фредерикс, Бенкендорф, Гессе были среди провожающих. Горемыкин 15 августа отъехал в Киев. 16 августа из Кобурга пришла телеграмма В. Кн. Сергея Александровича в Киев Горемыкину: «Прошу ходатайствовать у Императора о назначении Трепова».
22 августа дневник Победоносцева информирует: «обедал дома. Горемыкин. О Делянове». 23 августа Горемыкин полчаса осматривал почти достроенное здание Киевского бактериологического института. Горемыкин сказал что «весьма» интересуется делом борьбы с заразными болезнями. Его сопровождал попечитель округа Вельяминов и губернатор Л.П. Томара.
31 августа Победоносцев навещал Горемыкина.
Заместитель министра Николай Адрианович Неклюдов умер 1 сентября, на другой день состоялась панихида на его квартире в присутствии министров. В газетах сообщили что Горемыкину пришлось отложить отъезд из С.-Петербурга.
3 и 6 сентября снова общались Горемыкин и Победоносцев.
А.А. Хвостов 4 сентября писал И.Л. Горемыкину: «Страшно боюсь, чтобы это несчастное событие не помешало Вашему отдыху, в котором Вы так нуждаетесь. Первою моею мыслию было немедленно возвратиться в Петербург на случай, если я могу чем-либо быть Вам полезным» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1351 Л.2].
8 сентября 1896 г. К.П. Победоносцев уведомил Николая II о крайне напряжённой работе сотрудников МВД: «усталость одолевает всех в наше лихорадочное время. Бедный Горемыкин надеялся подкрепить сколько-нибудь свои расшатанные нервы купанием в море, и почти в минуту отъезда последовала внезапная смерть Неклюдова, за час перед тем спокойно рассуждавшего о делах. Это большая потеря и страшный удар для Горемыкина, который теперь и отлучиться не может, покуда не найдёт человека для надёжной замены Неклюдова, ибо другой его товарищ, Сабуров, уже и теперь едва ходит от слабости. Между тем, если теперь Горемыкин не успеет отдохнуть и оправиться, его не хватит на зиму». Жалуясь на нехватку достойных людей для таких должностей, Константин Петрович беспокоился и насчёт поездки Царя в Британию, «где ныне очаг политических интриг и узел вопросов, угрожающих миру» [«Письма Победоносцева Александру III» М.: Новая Москва, 1926, Т.2, с.317].
Сам Победоносцев 10 сентября выехал за границу.
Празднование 10-летия Электротехнического института 15 сентября посетил Горемыкин. Преподаватель богословия прот. К.И. Ветвеницкий провёл молебствие. Опыт развития института охарактеризовал директор Н.Н. Качалов.
Граф Делянов 17 сентября передал Горемыкину, что в Московском университете вернулись к порядку: «Лекции Попова посещаются студентами исправно. Конечно за будущее при нашем увлекающемся элементе совокупно с давлением многих московских ядовитых кружков нельзя поручиться» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.714 Л.18об.].
24 сентября М.П. Соловьёв составил для И.Л. Горемыкина очень подробное письмо о положении журнала «Русский Вестник». Товарищество типографии «Общественная польза» приобрело аренду журнала у «Ф.Н. Берга, писателя и редактора опытного и безукоризненного в политическом отношении». Ф.Н. Берга удалили из редакции, т.к. борьба «с западническими и либеральными течениями» велась им «слишком резко» для новых арендаторов. На его место был приглашён писатель Д.И. Стахеев (1840-1918), чья давняя дружба с Н.Н. Страховым свидетельствует «о чистоте его нравственного облика». Стахеев начал ещё более решительнее чем Берг отстаивать правые принципы и наследие М.Н. Каткова. «С этого времени началась глухая и недостойная борьба издателей с новой редакцией. Урезывались гонорары, росли типографские заработки, не давались средства для выпуска номеров в обещанном размере, продолжалась покупка рукописей, затруднявших редакцию».
Ближайшим сотрудником Д.И. Стахеева стал К.П. Медведский (1866 г.р.) который под влиянием Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и Н.Н. Страхова ушёл из левого лагеря. М.П. Соловьёв выражал свою симпатию таким молодым людям, «возвращающимся к националистическим и христианским началам». «Простите, Ваше Высокопревосходительство, моё заступничество за Стахеева и Медведского, вызванное единственно интересами публицистики» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1214 Л.2-4].
Записка, излагающая убеждения М.П. Соловьёва, характеризует с самой лучшей стороны его беспокойство за судьбу «Русского Вестника» и правильное понимание задач идеологической борьбы с левым лагерем.
В зале Главного тюремного управления 1 октября на годовом собрании правления благотворительного Прибалтийского братства Христа в его члены был принят И.Л. Горемыкин, а также эстлядский губернатор Скалон, курляндский Свербеев.
10 октября Горемыкин возвратился в Петербург из поездки. В печать попали планы МВД представить в Г. Совет производство ликвидации участия земств в операциях кредитных учреждений. Такая деятельность уездного земства в обществах взаимного кредита являлась действительно плохо совместимой с принципами самоуправления и могла повлечь разнообразные негативные последствия [«Новое Время», 1896, 12 октября, с.3].
На вечер 17 октября у Победоносцева записаны Горемыкин и Саблер. Заместитель обер-прокурора, Владимир Саблер изначально тоже был специалистом в законоведческой сфере. В 1872 г. он выпустил обстоятельный смысловой разбор европейского законодательства «О значении давности в уголовном праве».
Великий Князь Сергей Александрович, приехавший в Петербург, 21 октября основательно переговорил с министром юстиции, виделся с Горемыкиным, Великим Князем Павлом Александровичем. С Царём и Царицей «отдельно многозначительные разговоры, вполне хорошие».
В этот день отмечалась годовщина восшествия на Престол Николая II. Петербург украшали флагами, торжественное богослужение прошло в Исаакиевском соборе. Литургию совершали высокопреосвященные митрополиты и архиепископы Синода в присутствии Великих Князей, И.Л. Горемыкина и др. министров.
К.П. Победоносцев 21 октября переслал И.Л. Горемыкину письмо князя В.П. Мещерского: «он пишет так что разобрать трудно».
Чуть позже стало известно, что с позволения Царя, Горемыкин разрешил В.П. Мещерскому после трёхнедельного перерыва возобновить издание «Гражданина» без подчинения его примечанию к ст.144 Устава о цензуре и печати [«Н. Время», 1896, 27 октября, с.1].
Весьма важным распоряжением МВД видится циркуляр Горемыкина губернаторам о скорейшей засыпке хлебных запасов до предусмотренного уровня, как и о хлебных общественных магазинах. Учитывая неурожаи последующих лет, заблаговременная подготовка оказалась исключительна полезна.
Среди других инициатив МВД называлась замена строительных комитетов при губернских правлениях отдельными техническими.
В загородном дворце Знаменка Великого Князя Петра Николаевича 4 ноября И.Л. Горемыкин в числе других министров присутствовал при крещении Князя Императорской крови Романа Петровича. После попыток большевиков истребить Династию Романовых он окажется одним из главных претендентов на Престол в глазах тех кто не признавал права Кирилла Владимировича.
6 ноября 1896 г. Горемыкин подписал циркуляр по департаменту общих дел о присуждении медалей всем здравствующим лицам, состоявшим на действительной службе Императору Николаю I (к его столетию). Тем из них кто продолжал служить, Горемыкин дал распоряжение капитулу орденов прислать медали. Находящимся в отставке следовало обращаться в места последней службы [«Иркутские губернские ведомости», 1897, №4, с.1].
Н.В. Муравьёв 6 ноября прислал И.Л. Горемыкину критический по отношению к МВД отзыв: «Глубокоуважаемый Иван Логгинович. Возвращая прочтённые мною бумаги, спешу сказать, что, несмотря на некоторую резкость и раздражительность тона в письме гр. Капниста, всё моё сочувствие на стороне содержания этого письма, а отнюдь не на стороне пространной “отписки”» Департамента Полиции. «Из перечня многочисленных бумаг, которыми» «Д-р извещал различные учебные начальства и М-во Нар. Просвещ. о брожениях в студенческой среде ровно ничего не следует – это просто ссылка на канцелярские №№. – зато мне хорошо известно, что по крайней мере Московское университетское начальство всегда систематически держалось в неизвестности о фактах и именах или таковые сообщались ему в виде “горчицы после ужина” для того, чтобы потом можно было сказать “мы писали”… 2) что тайные студенческие кружки пользовались особенным вниманием и даже покровительством Моск. охранного отделения, которому искоренение их вовсе не было на руку». «Это были дня него источники сведений». «P.S. Весь проект письма гр. Делянову произвёл на меня такое впечатление, как будто он рассчитывал не на Вашу подпись» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1006 Л.30].
Здесь Н.В. Муравьёв не понимает или недооценивает наиболее эффективный принцип работы внутренней полицейской агентуры, которая позволяет контроливать революционные кружки: нет смысла закрывать их полностью, чтобы они формировались вновь конспиративно.
8 ноября 1896 г. Царь писал: «после чаю принял Горемыкина. Приятно провести сутки в наших уютных комнатах Зимнего».
Позднее большевики из Политбюро и ЦК, эти олигархи госмонополизма, со стыда и страха будут прятаться по тайным загородным дворцам с огромными заборами и скрывать там свои коррупционные доходы и непомерные траты на обслугу (о чём со знанием дела рассказывает М. Восленский в «Номенклатуре»). Жителям СССР трудно было поверить, что Русские Императоры действительно могли жить у всех на виду в Зимнем дворце и все знали где они.
И.И. Панов в 1958 г. был арестован за содержание своих писем: «зачем мы свергли царя, в настоящее время стало тяжелее жить, вы стали грабить народ». «По всем дорогам раскинулись ваши дачи, и их охраняют целые полки и батальоны людей, это совершенно никому не нужно. Были при царе графы и помещики, и дом охраняли только две собаки» [«Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе» М.: Материк, 2005, с.260].
Составители превосходной подборки документов русских противников СССР не напрасно напирают на наличие советских олигархов, которые хуже любых капиталистических, способных подкупить часть власти, влиять на неё. Но социализм – это полное сращение власти и бизнеса, максимально возможная коррупционная преступность.
Посетитель Горбачёвской дачи, верный ленинскому учению, говорил о том же, но имеет значение не единичное исключительное положение генсека, а общий принцип правления КПСС: «Цари так не жили!». «Весь участок по периметру чуть больше трёх километров нашпигован охраной, не говоря уже о внешнем милицейском кольце. Внутри — морские пограничники, сухопутные, личная охрана, подразделения подводников» [Н.Х. Гарифуллина «Тот кто не предал. Олег Шенин» М.: Внешторгиздат, 1995, с.110].
16 ноября на вечер в расписании Победоносцева записаны Казанский собор и И.Л. Горемыкин. Дополнительно обер-прокурор 17 ноября прислал ему фельетон из «Московских Ведомостей» в подтверждение темы вчерашних обсуждений.
В эти дни Управление по делам печати допустило к изданию 3-й том «Капитала» Маркса, сочтя его не опасным трактатом из-за неудобоваримого изложения и отвлечённого теоретизирования. Как иронизировал М.П. Соловьёв, сам Маркс не в состоянии понять им сочинённого [Ц.И. Грин «Переводчик и издатель «Капитала»» М.: Книга, 1985, с.176-177].
Сложности с пониманием Маркса, особенно последних томов «Капитала», отмечены многими социал-демократами. Ф. Энгельс в 1882 г. в переписке упоминал: «большинство ленится читать такие толстые книги как «Капитал», и потому тоненькая брошюрка действует гораздо быстрее» [К. Маркс и Ф. Энгельс «Сочинения» М.: Политиздат, 1964, Т.35, с.332].
Давний знакомый И.Л. Горемыкина, Н. Петров 18 ноября 1896 г. в частном порядке написал ему из Варшавы, что циркуляр М.П. Соловьёва о печатании на заглавном листе литературы на иностранных языках дополнительного наименования на русском языке не достигнет своих целей, т.к. польские авторы решили, избегая этого, печататься за границей вне цензуры. Архиепископ Попель подтвердил, что циркуляр №7017 от 1 ноября «возбуждает разнообразные толки и напрасное неудовольствие», и распоряжение неудобно распространять на молитвенники [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1088 Л.31].
Состоявшиеся 18 ноября 1896 г. протесты студенчества, формально приуроченные к истечению полугодия от Коронации и ходынских жертв, показали, что ими двигала революционная идея как таковая, а не какой-то реальный повод, за который нельзя счесть надуманную датировку. С.А. Рачинский считал что либеральные преподаватели университетов несут основную ответственность за подобные настроения и действия [«Эпистолярное наследие С.В. Смоленского. Переписка с С.А. Рачинским. 1883-1902» М.: Языки славянской культуры, 2019, с.597].
Великий Князь Константин Константинович, который обычно присылал Горемыкину ходатайства за преображенцев и других лиц, 20 ноября отправил менее ординарную официальную благодарность за «самые энергичные и действительные меры к охране корзины с инструментами и ценными записями, когда спустилась на землю в 3-х верстах от воздухоплавательного парка после полёта шара». По докладу об этом директора Главной Физической обсерватории, конференция Академии на заседании 6-го ноября выразила И.Л. Горемыкину «особую признательность» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.855 Л.11].
В середине ноябре в МВД начались работы комиссии о переустройстве крестьянского быта.
Великий Князь Сергей Александрович из Москвы писал Николаю II 21 ноября, что посылает Горемыкину результаты совещания по делу о студенческих беспорядках в дополнение к другим подробностям, отправленным Горемыкину ранее.
По этому делу 23 ноября 1896 г. Победоносцев черкнул в дневнике: «У Делянова. У Горемыкина. О Москве», затем 24 ноября: «Горемыкин – от Делянова».
25 ноября в Москве состоялось новое совещание по студентам. «Аничков передавал всевозможные предложения Горемыкина – мы все пришли к заключению и послали его в м. В.Д.», – писал в дневнике генерал-губернатор Сергей Александрович. В другом издании встречается прочтение «невозможные», что весьма малосущественно.
21 ноября с позволения Императора Горемыкин учредил поощрительную медаль за добровольное участие в первой всеобщей переписи Империи в качестве счётчиков и за руководство переписью. Права на получение медали Государь предоставил определять Горемыкину.
30 ноября 1896 г. Витте ответил на просьбу Горемыкина позволить войти в комиссию по представлению России на всемирной выставке 1900 г. в Париже Корвин-Круковскому. Комиссия ещё не начала работать, и Витте пообещал, что будет иметь в виду [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.509 Л.2].
МВД подавало в Г. Совет дела об устранении чересполосицы в помещичьих имениях Юго-Западного края.
Н.В. Муравьёв 2 декабря уведомил И.Л. Горемыкина, что завтра его не будет к Комитете Министров.
В 1896 г. Императорское правительство поддержало предложение А.Н. Куломзина взять на себя расходы на переселение и обустройство в Сибири. Царским указом 2 декабря 1896 г., согласно докладу И.Л. Горемыкина, для выполнения исполнительских функций и разработки законопроектов было учреждено Переселенческое управление.
Горемыкин в представлении в Г. Совет определял задачи создаваемого им Переселенческого управления: оно требовало «не столько соображения с законами, сколько живой распорядительности и быстрого приспособления к удовлетворению внезапно возникающих и часто крайне изменчивых запросов переселенческого движения» [«Азиатская Россия: люди и структуры Империи» Омск, 2016, с.265].
Штат управления по проекту Горемыкина должен был включать всего 14 человек, но и такой оптимальный минимум Витте пытался урезать, что ему не удалось. В помощь крестьянам на переселение они давали 1,2-1,9 млн. руб. в год. На врачебную и продовольственную помощь уходило около 100 тыс. руб. в год, десятки тысяч уходили на строительство дорог.
Для точного определения права собственности на землю для сибирских переселенцев Горемыкин поддерживал внесение в отводную запись сведений о подворном владении, юридического закрепления этого факта. Ермолов полагал, что достаточно местных обычаев без их закрепления в качестве обязательного правила [«Отчёт по делопроизводству Государственного Совета за сессию 1897-1898» СПб.: Гос. тип., 1898, с.156].
Управление едва начало работать, как его тут же постарались опорочить марксистские критики. 30 мая 1920 г. Новомбергскийрассказывал: «когда я приехал в Сибирь 24 года тому назад для изучения быта переселенцев Тобольской губернии, первый том моих сочинений по распоряжению министра внутренних дел Горемыкина был изъят из обращения, а второй том был воспрещён к печати. Эта кара последовала за то, что я разоблачил переселенческую политику, указал, что она является не самостоятельной системой устроения хозяйства, а является только отдушиной в интересах помещичьего класса в России» [«Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920» М.: МФД, 2003, с.429].
В 1898 г. старший чиновник особых поручений Н. Новомбергский издал отчёт о двухмесячной командировке, составленный по распоряжению Тобольского губернатора Л.М. Князева. Он действительно написан в чрезмерно критическом ключе, с первых же строк обращая внимания на будто бы «всё более тревожный характер» обратного возвращения переселенцев, что является оценочным преувеличением. Ложный характер носило и его утверждение, будто «ежегодный прирост населения создаёт соответственный спрос на землю, далеко позади себя оставляющий рыночное предложение её» [Н.Я. Новомбергский «Материалы для изучения быта переселенцев, водворенных в Тобольской губернии» Тобольск, 1898, Вып. 1].
Рыночные механизмы ценнообразования в исчерпывающей степени создавали стимулы к занятию огромных неосвоенных земель, в которых не имелось недостатка. Помимо того, рост рождаемости среди крестьян усиливал отток в города и их рост. Вражда марксистов к переселенческому делу была сродни их недовольству любой работе по улучшению положения крестьян, поскольку она мешала воздействию революционной агитации студентов в народе.
В феврале 1893 г., матрос из недоучившихся семинаристов, А. Сицкий писал Пинхусу, как называли Аксельрода друзья: «ярые русские марксисты из молодёжи — противники помощи переселенцам». Арсения Сицкого называют первым рабочим, ставшим писать в группу «Освобождение труда». Он часто мечтал об убийстве Александра III по примеру предыдущего Царя: «покончив с III-м, как дважды два, можно получить конституцию и большую свободу печати, и многие другие привилегии» [«Из архива П.Б. Аксельрода» Берлин, 1924, с.200-202].
Как оказалось, смерть Александра III не дала большей свободы проповедникам убийств и противникам поддержки благосостояния крестьян. Распространение нелегальной литературы А. Сицким было предотвращено жандармами в Одессе весной 1895 г.
Император Николай II заботился, чтобы в переселенческих посёлках при каждой церкви была школа. На всеподданнейшем отчёте о состоянии Акмолинской области за 1896 г. Государь написал: «обращаю на это внимание статс-секретаря Куломзина». Церковным и школьным делом занимался сверх усилий государства, основанный Царём фонд имени Императора Александра III. За пять лет к январю 1899 г. фонд собрал на благоустройство переселенцев вдоль Сибирской железной дороги внушительную сумму в 765 215 руб. Заложено было 148 храмов.
При И.Л. Горемыкине значительно повысились выдачи ссуд Крестьянского банка на покупку земли. За 1896 г. крестьянам было выдано 7,3 млн. руб. За 1897 г. уже 20,9 млн. руб. Дополнительно, для дальнейшей продажи земли крестьянам этот банк приобрёл 842 тыс. десятин за 58, 2 млн. руб. [Д.И. Рихтер «Аграрные вопросы в России» Пг.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1917, Вып.2, с.7].
Затем Горемыкин поставил вопрос об открытии отделения Крестьянского банка в балтийских губерниях. По сведениям газет, этому воспротивились бароны-землевладельцы.
4 декабря К.П. Победоносцев был у Горемыкина, который в тот же день представлял в Царском Селе проект правительственного сообщения о студенческих беспорядках.
М.О. Гершензон в письме В.П. Бузескулу от 10 декабря 1896 г. оценил его меткость и честность: «об исходе этих беспорядков Вы теперь, вероятно, уже знаете из правительственного сообщения, которое, к слову сказать, излагает события замечательно точно, без единого искажения». «На последней сходке, очень малолюдной, решено было признать предмет беспорядков исчерпанным; нашлись даже такие молодцы, которые обратились к вел. князю с прошениями о помиловании. Здесь, в Одессе, тоже были в последний день какие-то волнения, но дело обошлось без полиции» [СПФ АРАН Ф.825 Оп.2 Д.45 Л.4].
6 декабря 1896 г. граф Делянов проинформировал Горемыкина: «полиция не смела и тронуть студента, как бы он ни безобразничал». «Да и власти наши в Киеве показали свою дряблость». Делянов считал что студентов следовало разогнать городовыми: «масса 800 баранов превратились бы в кучку» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.714 Л.23-24].
Великий Князь Сергей Александрович 9 декабря написал о совещании у Делянова с Муравьёвым и Горемыкиным: «по университетским делам – не без пользы». И.Я. Голубев просил прислать ему записку предводителей дворянства, поданную в начале осени. Возвращая её 9 декабря И.Л. Горемыкину, прокомментировал: «не скрою, что ожидал большего от предводителей первенствующего сословия». Журнал «Гражданин» оказался того же мнения, не увидев в работе предводителей дворянства результатов серьёзного труда.
9 декабря в 15 ч. Горемыкин принимал депутации от городов, земств и сословий, передающих для Государя поздравления в честь Коронации.
По данным газет, в МВД Горемыкин занимался проверкой не соответствия правилам смет и раскладок частных дворянских повинностей. Для их проверки Горемыкин распорядился представлять такие дворянские постановления губернаторам.
11 декабря 1896 г. по докладу Горемыкина Император позволил открыть сбор пожертвований для облегчения участи армян, бежавших из Турции в Россию. Пожертвования через губернаторов полагалось передавать главноначальствующему гражданской частью на Кавказе. Тогда же Горемыкин дал П.А. Крушевану начать издание ежедневной газеты «Бессарабец» в Кишинёве.
А.Н. Куломзин писал 13 декабря 1896 г.: «Милостивый государь Иван Логгинович. Вы меня спрашивали за какую цену я могу Вам напечатать мою брошюрку для «Сельского Вестника». Это будет стоить в 1 ½ копейки за экземпляр» [РГИА Ф. 1626 Оп.1 Д.888 Л.9].
Под председательством К.П. Победоносцева 15 декабря 1896 г. начало работу Особое совещание по нормированию рабочего дня. В нём состояли И.Л. Горемыкин, Н.В. Муравьёв, С.Ю. Витте и 31 делегат от владельцев фабрик. Они подготовили закон от 2 июня 1897 г.
Заместитель Витте, В.И. Ковалевский в 1919 г. вспоминал, что министр финансов совершенно отстранился от дел рабочих, как и А.С. Ермолов, а Н.В. Муравьёв был против нормирования. «Спас положение И.Л. Горемыкин. Он резко высказал, что волнения и беспорядки в среде рабочих падают на плечи министра внутренних дел и что правительство торжественно обещало удовлетворительно разрешить вопрос» [«Русское прошлое», 1991, №2, с.52].
После жалобы на М.П. Соловьёва и «Московские Ведомости» в следующий раз князь Ухтомский побеспокоил И.Л. Горемыкина 15 декабря 1896 г.: «в виду господствующего в данное время направления по делам печати (о чём я имел случай Вам ещё летом доложить), Вы очевидно не будете предуведомлены (а редакция «Света» и того менее), что за возмутительные вещи печатаются в дешёвых распространённейших газетах, да ещё мнимо-правительственного характера. Роман Гейнце – это сплошная гадость, по сценическим подробностям, кощунственным выходкам и т.п. Вчера автор-редактор нашёл возможным обозвать “чертушкой” на потеху базаров и пивных человека, который – так или иначе – но был Русским Государем. Чем нас завтра одарит патриотическая печать, не трудно предвидеть», т.к. М.П. Соловьёв «сочувствует подобному прогрессу».
Победоносцев у Горемыкина 17 декабря обсуждал газету «Русские Ведомости».
18 декабря Император Николай II учредил, согласно мнению Г. Совета, Совещание в С.-Петербурге о поземельном устройстве населения Забайкальской области под председательством Куломзина (управляющего делами Комитета Сибирской железной дороги), включая представителей всех министерств. Как полагалось в таких случаях, экспертное совещание должно было установить текущее состояние землевладения и в зависимости от того выработать необходимые меры по предоставлению частным лицам и обществам прав на землевладение в их интересах. МВД представил на совещании заместитель Горемыкина Долгово-Сабуров (позже его заменит Оболенский) и начальник Переселенческого управления В.И. Гиппиус. Были утверждены программы исследования Забайкалья, по которым прежде производилось изучение Енисейской и Иркутской губерний. Соответственная местная комиссия работала в Чите, куда ездил Куломзин [«Комиссия для исследования землевладения и землепользования в Забайкальской области. Материалы» СПб.: Гос. тип., 1898, Вып.1].
Помощником В.И. Гиппиуса И.Л. Горемыкин назначил делопроизводителя земского отдела МВД А.В. Кривошеина. Переселенческое управление первоначально разместилось в бывшей консерватории на Театральной улице.
Горемыкин, Муравьёв и Витте 20 декабря вели вечернее заседание о рабочем дне. 21 декабря 1896 г. А.А. Киреев записывал необоснованные слухи об учреждении верховного совета для облегчения царского правления [«Новое о революции 1905-1907 гг. в России» Л.: ЛГУ, 1989, с.92].
23 и 28 декабря Победоносцев также был у Горемыкина.
Профессор А.Н. Деревицкий 27 декабря писал В.П. Бузескулу: «В киевском университете студенческие беспорядки имели скорее комический характер и вообще окончились пустяками; в Петербурге же, говорят, ректор во время объяснений со студентами был столкнут со ступеней лестницы, упал и получил ушибы» [СПФ АРАН Ф.825 Оп.2 Д.67 Л.34об.].
31 декабря 1896 г. В.Н. Коковцов обратился к Горемыкину, возвратившемуся в С.-Петербург, с просьбой принять его по делу, не относящемуся к служебным занятиям.
2 января 1897 г. Императором были приняты утром доклады Горемыкина и Сипягина. Про вечер есть запись о встрече Горемыкина с Победоносцевым.
Доклад И.Л. Горемыкина Царю 4 января 1897 г. выглядел следующим образом: «2 сего января на Петровской и Спасской ткацко-прядильной мануфактурах т-ва Губерт и К° рабочие, в числе 2 700человек, прекратили работы при следующих обстоятельствах.
С раннего утра между рабочими было заметно волнение, после же обеда в час дня все вернулись на фабрику, но рабочие Петровской мануфактуры, заняв свои места, к работам не приступали. На предложение администрации объяснить причину забастовки, рабочие, не давая никаких объяснений по существу, вышли во двор и стали шуметь, требуя, чтобы их впустили в прядильное отделение.
Прядильщики, в свою очередь, подняли шум, стучали в окна, пока администрация не распорядилась отворить двери, после чего рабочие этого отделения также вышли во двор, вто же время несколько забастовавших ткачей пришли во двор Спасской мануфактуры, рабочие которой тотчас же прекратили работы.
Ближайшей причиной забастовки рабочие выставляют: продолжительность рабочего дня, а также недостаток тепла в помещении Петровской мануфактуры и чрезмерно высокие штрафы, будто бы налагаемые администрацией при забраковке изделий. Независимо от изложенного имеются указания, что кроме выставленных рабочими претензий, причиною забастовки послужили слухи, основанные на статьях, появившихся в конце декабря в некоторых газетах и неправильно поняты рабочими, будто бы с началом нового года будет введён новый закон о нормировке рабочего дня.
В течение 3 и 4 сего января забастовка продолжается.4 сего января рабочие Александровского чугунного завода такжепрекратили работы, причем предъявили заводской администрации следующие требования: 1)окончание работ по субботам в 2 часа дня; 2) зачёт в рабочее время времени, употребленного на выдачу заработнойплаты и 3) право пользования существующим на заводе рабочим фондом, по мере надобности, а не только при увольнении, как в настоящеевремя.
Рабочие держат себя спокойно.
Министр внутренних дел Горемыкин» [«Красный Архив», 1939, Т.93, с.134-135].
Воспользовавшись предложением И.Л. Горемыкина, 4 января 1897 г. И.Н. Дурново обратился к нему с просьбой предоставить театральный билет на 2 спектакля, в Михайловском театре 12 января и в Мариинском 15 января. В их переписке имеется также не имеющая полной датировки благодарность И.Н. Дурново за предоставленный билет на бенефис Петипа.
По данным «Н. Времени», И.Л. Горемыкин начал работы по пересмотру всех штатов МВД и провёл под своим председательством несколько совещаний директоров департаментов.
С начала года Горемыкин разрешил экономисту С.Ф. Шарапову издавать ежедневную газету «Русский Труд», а историку Д.И. Иловайскому – ежедневную бесцензурную газету «Кремль». Замечательный историк в «Кремле» в ближайшие годы будет весьма удачно показывать несостоятельность критики развития капитализма в Российской Империи со стороны марксистов, народников и даже части консерваторов, оказавшихся по своей экономической неразборчивости пособниками социалистов (заблуждение далеко не изжитое в монархическом лагере).
Приятель И.Л. Горемыкина А. Мосолов передавал ему написанную 5 января анонимку из Юрьева с жалобами на проведение предварительной переписи населения в Лифляндской губернии. Русские националисты выражали недовольство тем что в немецких карточках уезд и город Юрьев зовутся Дерптом, «русская вера стоит на третьем месте» в списке. В записке утверждалось, будто при ведении делопроизводства переписи по приказу уполномоченного от МВД Струве на немецком языке, немцы произвольно заполняют данные по языке и вере, «всех запишут лютеранами, говорящими по-немецки». «Уж конечно не на г. Горемыкина можно надеяться в спасении здесь русского достоинства и интересов». Не расположенные к министру авторы анонимки, хотя и преувеличивали свои опасения, но могли сообщать некоторые верные факты о ходе анкетирования [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1001 Л.5-6].
Тем самым не подтверждаются сведения газеты Э. Дрюмона, будто назначение Горемыкина обещает заметный поворот в антинемецкую сторону. Только в самых ранних юношеских письмах Горемыкина встречаются неодобрительные суждения о поведении немцев на бытовом уровне.
7 января темы обсуждений в дневнике обер-прокурора обозначены: «с Горемыкиным. Толстовщина. Земство. Рабочие». Рабочим посвящена и записка К.П. Победоносцева И.Л. Горемыкину 8 января: «слышу что начинается движение на больших фабриках и требуют 10 ½ часов работы. Пожалуй лучше было бы, как мы говорили вечером, сразу рассчитать и распустить рабочих?».
Такое решение вполне соответствует основным сугубо положительным принципам капитализма, обозначенным в классическом труде Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», которому пропагандистские спекуляции напрасно приписывают либеральный характер. Чисто экономическое, это исследование справедливо доказывает как работает основной принцип спроса и предложения, не имеющий никакого отношения к демагогии о свободе. А. Смит считал вредной и бессмысленной любую классовую борьбу и стачечные требования повышения заработной платы, поскольку, как и любая цена, стоимость труда определяется не желаниями социалистов, а реальным состоянием хозяйственных субъектов, их фактическими потребностями и возможностями. Размер зарплаты, следовательно, полностью определяется основным законом спроса и предложения, выражающим наиболее разумные устремления людей к взаимовыгодным сделкам. Если рабочих не устраивает предлагаемая цена их труда, им не следует заключать добровольный контракт, им не нужный. Аналогично, владелец предприятий, сталкиваясь с нехваткой рабочих рук, вынужден будет решать эту проблему либо механическим повышением производительности, что один из главных двигателей подлинного прогресса, либо повышением зарплаты для привлечения к себе требуемого персонала. По тому же основному закона спроса и предложения, в случае нежелания или неспособности предпринимателя исполнять требования рабочих, их следует увольнять и пытаться заменять теми кого предлагаемые условия устраивают.
11 января 1897 г. «для обеспечения чрезвычайным действиям более систематического направления» была учреждена специальная комиссия о мерах предупреждения и борьбы с чумной заразой. Председателем стал Принц А.П. Ольденбургский и в неё вошли «почти все Министры». Сама комиссия ограничивалась подписанием «летучих журналов» главного врачебного инспектора – делопроизводителя комиссии [Г.Е. Рейн «Из пережитого» Берлин, 1935, Т.1, с.25, 107].
Т.е., комиссия из министров предоставляла свои полномочия и финансовые средства для мер, выработанных экспертами, а не самими министрами. Такова самая верная постановка дела.
В письме И.И. Янжулу 11 января 1897 г. Горемыкин сообщал, что Главная Переписная Комиссия окончила «все подготовительные распоряжения к производству» и приступает к «составлению плана статистической разработки собранных переписью данных». И.Л. Горемыкин просил принять участие в работах этой комиссии, а также местной московской [СПФ АРАН Ф.45 Оп.2 Д.264 Л.1]. Ранее, в январе 1882 г., И.И. Янжул был главным руководителем переписи населения в Москве [«Никита Петрович Гиляров-Платонов. Исследования. Материалы» СПб.: Росток, 2013, с.672].
12 января вечером снова переговоры Победоносцева с Горемыкиным о рабочих и печати. 14 января: «у Горемыкина – в Комит. Мин.».
Второе предостережение МВД получил журнал «Хозяин» издателя Ивана Машуковцева.
В печати появлялись сообщения о разработке в МВД почтово-телеграфного устава.
По соглашению с графом Деляновым, Горемыкин распорядился усилить контроль за сдачей экзаменов по русскому языку мусульманами, претендующими на звание муллы. Для установления личности к предоставленным документам решено было прилагать фотографии испытуемых.
Открывая созванный медицинским департаментом съезд сифилитологов, И.Л. Горемыкин сказал что в число первых задач МВД входит и охранение народного здравия, а «сифилитическая зараза представляется одной из наиболее серьёзных» «опасностей». Съезду из более 400 участников министр предложил составить план действий, которому могло бы далее следовать МВД [«Н. Время», 1987, 16 января, с.3].
Э.Э. Ухтомский 17 января передал И.Л. Горемыкину жалобу обижаемых при переписи бывших униатов, которые хотят «подать свою бумагу непременно в руки министру Царя».
18 января Императрица Мария Фёдоровна принимала принимала И.Л. Горемыкина в своём дворце.
Под председательством И.Л. Горемыкина начались занятия комиссии по пересмотру положения о крестьянах с участием заместителей министра, Г.Г. Савича, А.А. Хвостова и 4 приглашённых специалистов по крестьянскому быту. Планировалось в течении года вести разработку самостоятельно каждым из участников, а окончательная редакция отдельных частей проекта будет определяться на общих заседаниях комиссии.
23 января 1897 г. у Императора «были с докладами только Горемыкин и Сипягин».
Н.В. Муравьёв не смог «устоять перед соблазном» 26 января привлечь внимание И.Л. Горемыкина к двум статьям газеты «Русь» «по поводу наших законодателельных работ».
27 и 31 января снова виделись Горемыкин с Победоносцевым.
Министр Юстиции 30 января написал И.Л. Горемыкину о признании Сенатом действий Новоторжского предводителя Всеволожского противозаконными и подлежащими «личной уголовной ответственности, от которой освобождён лишь по манифесту».
27 января 1897 г. Император утвердил ходатайство И.Л. Горемыкина об административной ссылке В. Ульянова. Министр внутренних дел обеспечил продолжительное исключение Ленина из революционных рядов [С.Н. Семанов «1896 год» // «Прометей» М.: Молодая гвардия, 1971, Т.8, с.268-272].
29 января 1897 г. Н.В. Муравьёв написал Горемыкину, что Император повелел выслать Ленина и Мартова в Восточную Сибирь на 3 года.
Подписка Ленина за сдачу в камеру личных вещей 6 апреля 1896 г. позднее использовалась Департаментом Полиции для сличения почерков и установления его авторства [Ю.С. Уральский «Пароль «От Петрова». Из истории постановки конспирации в деятельности «Искры»» М.: Мысль, 1988, с.19].
По заслугам досталось при И.Л. Горемыкине и будущему лидеру другой левой подрывной партии – Павлу Милюкову. Он издавна симпатизировал террористическим методам народовольцев и “научности” марксизма, желал их совмещения. В феврале 1895 г. его уволили из Московского университета, выслали из Москвы и запретили педагогическую деятельность. В ноябре 1896 г. запретили жить и в С.-Петербурге. Выбор стать революционным демагогом, а не учёным, сделал сам Милюков, не следует обвинять в этом правительство. В 1902 г. Милюков так осуждал социал-демократов за полемику с эсерами: «ещё один-два удачных террористических акта – и мы получим конституцию» [А.В. Макушин, П.А. Трибунский «Павел Николаевич Милюков: труды и дни. 1859-1904» Рязань, 2001, с.271, 292]. По воспоминаниям большевиков, основное их несогласие с публичными выступлениями Милюкова сводилось только к выдвижению Милюковым основным создателем революции крестьянства, а не рабочих. Сама же революция являлась для них одним желанным явлением по типу антифранцузской 1789 г. [З. Шейнис «Солдаты революции» М.: Советская Россия, 1981].
Н.П. Боголепов ещё в декабре 1894 г. в дневнике обращал внимание, что процент студентов, высланных полицией, «совершенно совпадает с тем сколько профессоров-агитаторов существует по факультетам», «Милюков особенно». «Великий Князь [Сергей Александрович] гневно выразился о профессорах, как о творящих смуту» [Н.П. Боголепов «Страница из жизни Московского университета» М.: Печатня С.П. Яковлева, 1911, с.11, 16].
В конце 1896 г. года Горемыкин доложил Императору о готовности правительственных и общественных учреждений к проведению всеобщей переписи. Николай II распорядился приступить к работе и призвал подданных к усердному исполнению обязательств по должности или взятых на себя добровольно, и к даче правдивых сообщений переписчикам. Высочайший указ гласил: «в попечении Нашем о вящем устроении и преуспеянии Государства, Мы признали за благо произвести первую всеобщую перепись населения империи. Предстоящая перепись должна обнять всех без исключения жителей на всём пространстве земель державы Нашей и представить полное и точное исчисление населения по губерниям, уездам, городам и селениям, а также по возрасту, полу, вероисповеданию, роду занятий».
Горемыкин предлагал привлечение общественных сил, т.к. Главная переписная комиссия не имела достаточного числа работников. В.П. Семёнов вспоминал, что Горемыкин лично придумал бронзовую медаль для волонтеров, привлечение которых помогло избегать бюджетных трат и сберегало налоговые поступления. Стоимость медали не превышала 5 копеек, но считалась чрезвычайно престижной и мотивировала к работе. Переписью занялись военные, гражданские, студенты. Горемыкин по просьбе П.П. Семёнова-Тян-Шанского даже разрешил привлекать к переписи в Сибири политических ссыльных, а в Европейской России – неблагонадёжных земцев. Тёмно-бронзовой медалью за участие в переписи был награждён гвардеец П.Н. Краснов.
И.Л. Горемыкин или же директор Центрального статистического комитета в МВД Н.А. Тройницкий настояли, чтобы при переписи дворянские усадьбы учитывались отдельно от крестьянских селений. Так чтили сословный принцип. На перепись было выделено в 1896 г. 1591 тыс., в 1897 г. – 1597 тыс. руб. Тройницкий для подготовки переписи летом 1896 г. объезжал Харьков и Воронеж, где заранее начинали печатать около 10 млн. переписных бланков.
Царь и Царица заполнили карточки переписи, написав, соответственно: Хозяин и Хозяйка Земли Русской. Карточки засвидетельствованы И.Л. Горемыкиным [«Последние Новости» (Париж), 1924, 25 ноября].
На борьбу с проникновением чумы в Российскую Империю МВД командировало к Тегеран доктора Добрянского.
2 февраля 1897 г. состоялся обыск у Черткова на петербургской квартире. Там ему передали письмо лично от И.Л. Горемыкина с предложением явиться к министру для дачи показаний, но Чертков отказался от переговоров и не подписал полицейский протокол. 3 февраля И.Л. Горемыкин навестил его мать, Е.И. Черткову, объяснив ей обвинения в пропаганде и связи с делами сектантов [Протоиерей Г. Ореханов «В.Г. Чертков в жизни Л.Н. Толстого» М.: ПСТГУ, 2015, с.45].
Победоносцев у Горемыкина дома 8 февраля снова говорил о Льве Толстом. Антон Чехов в этот день написал А.С. Суворину про обыск у В.Г. Черткова, при котором якобы отобрали какие-то улики против обер-прокурора Синода и его подчинённых. Чехов пересказал, что матери Черткова И.Л. Горемыкин предложил её сыну жить в прибалтийских губерниях, там же где князь Хилков, либо за рубежом. Чертков решил уехать в Лондон [А.П. Чехов «Письма. Январь 1895 – май 1897» М.: Наука, 2009, Т.6, с.292].
В записке К.П. Победоносцева от 24 января (без указания года) И.Л. Горемыкину сообщалось: «я получил сведения, что у Черткова в «Салоне переписки» печатается на мимеографе 200 экз. «Помогите» сочин. Черткова и Трегубова». Обыск у Черткова, похоже, вызван данными из этой записки.
При первом обыске Черткова «самые ценные бумаги не были захвачены», но позже в день объявления о высылке жандармы обнаружили на его квартире бумаги о кавказских духоборах, в т.ч. сведения касающиеся передачи детей под опеку княгини Ю.П. Хилковой, из чего толстовцы старались раздуть скандал [В.Г. Чертков «Похищение детей Хилковых» Christchurch, 1901, с.4,7]. Несмотря на то что Лев Толстой писал Ю.П. Хилковой «с чувством доброжелательства и уважения», воспитанная на культе самого чудовищного революционного насилия советская интеллигентка в 1945 г. представляла привлекательной стрельбу «в жандарма», передающего детей их родной бабушке [Л.К. Чуковская «Дневник – большое подспорье» М.: Время, 2015, с.63].
В разгар кровавого красного террора и преследования всех православных, как замечал С.С. Ольденбург в статье «Церковь и большевизм», «толстовцы, руководимые Чертковым, издают в Москве свои журналы», выражая «не мало сочувствия некоторым коммунистическим принципам» [«Русская Мысль» (Прага), 1922, Кн.V, с.121].
По сообщениям мемуаристов, Лев Троцкий, находясь у власти в Москве, рассказывал какое существенное влияние на его мировоззрение оказал Л.Н. Толстой.
С.А. Толстая в эти дни 7-12 февраля была в Петербурге и обращалась к Горемыкину и в цензурный комитет МВД относительно переиздания полного собрания сочинений. Судя по дальнейшим высказываниям Софьи Толстой, И.Л. Горемыкин сурово отзывался о её муже, считавшем учение Православной Церкви за «обман, выдуманный для погибели людей», «произведение дьявола» [Л.Н. Толстой и А.А. Толстая «Переписка (1857-1903)» М.: Наука, 2011, с.403, 897].
Подобные взгляды толстовства Макс Нордау в «Вырождении» относил к области психического помешательства, признавая близость состояний гениальности и сумасшествия, а также справедливо называя революционеров неспособными к продуктивной повседневной жизни. Эти соображения затем поддерживали Василий Розанов и Иван Солоневич.
Первый двухэтажный Дом трудолюбия петербургского попечительского общества под председательством Клейгельса торжественно открылся 9 февраля в присутствии Горемыкина. Пожертвования для нуждающихся в работе на общую сумму более 5 тыс. р. сделали митрополит Палладий, о. Иоанн Кронштадтский и другие собравшиеся.
Этот первый Дом, в частности, изготавливал защитные панцири для полицейских, которые не пробивались пистолетными выстрелами и при этом были достаточно лёгкими для ношения, в 7,7 кг., и доступными по цене [С.В. Медведев «Политическая полиция, революционеры и железные дороги в начале ХХ столетия» М.: Директмедиа, 2023, с.73-74].
К.П. Победоносцев 11 февраля приглашал И.Л. Горемыкина в четверг в 21 ч. на совещание по «духоборческом делу».
Горемыкин также оставил неудовлетворённым прошение И.А. Карышева об учреждении спиритического общества, не считая его полезным средством борьбы с материализмом [«La Revue Spirite» (Paris), 1901, 1 mars, p.158].
12 февраля 1897 г. Горемыкин подписал циркуляр с разъяснением прав на получение серебряной медали памяти Императора Александра III классными чинами, имеющими должности и вышедшими в отставку при добропорядочной их аттестации.
15 февраля князь В.В. Барятинский уведомил И.Л. Горемыкина, что присланный им переписной лист Императрица Мария Фёдоровна решила на несколько дней оставить у себя.
В Г. Совет МВД внесло проект учреждения ветеринарных округов на границе с Китаем для ограждения его от эпизоотий. Пекинское правительство дало своё согласие.
Победоносцев и Горемыкин 20 февраля возвращались от Государя из Царского Села вместе.21 февраля Е.В. Богданович в честь 50-летия службы получил от Императора золотую табакерку с бриллиантами.
И.Л. Горемыкин 21 февраля 1897 г. получил письмо о возможном выступлении русской эскадры на Босфор и необходимом блокировании английского консула в Одессе [«Красный архив», 1922, №1, с.160].
Так раз в феврале 1897 г. Керзон отправил миссию абиссинскому негусу Менелику, чтобы убедить его в дружественных намерениях Британии, завязать политические и торговые связи. Российская Империя сделала ответный ход, отправив свою миссию с начальником конвоя П.Н. Красновым.
В то же самое время русское правительство выразило готовность оказать содействие облегчению голода в Индии. Керзон в палате общин выказал благодарность.
Тем не менее, русский военный востоковед Снесарёв продолжал считать Керзона «убеждённым русофобом», опровергая мнения о его нейтральности по среднеазиатскому вопросу [М.К. Басханов «У ворот английского могущества: А.Е. Снесарёв в Туркестане, 1899-1904» СПб.: Нестор-История, 2015, с.121].
22 февраля перед поездкой в Пекин Ухтомский испросил у Горемыкина беседу «на 5 минут по одному вопросу, связанному с моим обратным путём через Забайкалье» (приписка сверху карандашом: «во вторник 5 ½ часа»).
МВД закрыло на 8 месяцев газету «Московский Листок» и остановило розничную продажу газеты «Русь». На 4 месяцев остановило издание «Самарский Вестник».
24 февраля министр земледелия распорядился исследовать незаселённые пространства тайги с командировкой производителя работ Кокшарова исследовать лесные массивы в бассейне рек Сисима и Маны к востоку от Курагинской волости Минусинского округа у подошвы Саянских гор. Соседние таёжные участки уже были заселены.
Когда МВД на месяц запретило розничную продажу газет «Гражданин», «Свет» и «Гласность», это вызвало письмо К.П. Победоносцева И.Л. Горемыкину 25 февраля: «многих удивляет (и мне странно) что взысканиям по делам печати подвергаются издания, – правда несущие иногда вздор подобно всем прочим, – но не имеющие вредного и отрицательного свойства, а напротив зато остаются без взыскания издания заведомо вредного и ложного направления». К.П. Победоносцев писал далее что МИД, которому не понравились некоторые статьи, не требовал взысканий. «Я не сторонник ни той ни другой газеты, но не могу притом не вспомнить, что в то же время газета безумно распущенная и решительно-вредная» (Э.Э. Ухтомского) «продолжает безнаказанно глумиться над предметом общего почтения и распространяет мысли несогласные с порядком, производя немалый соблазн в умах русских людей внутри России и на окраинах: косвенным образом пропагандирует она и преимущество римской церкви», близко к В.С. Соловьёву. «В последний раз, быв в Царском Селе, я обращал внимание Государя на эту зловредность «Петербургских ведомостей», причём видел что статьи на кои я обращал внимание Его, были уже им замечены». «Государь отвергает решительно», будто газета Ухтомского находится «под особым его покровительством». «В таком случае, сказал я, необходимо было бы самим делом опровергнуть это ложное мнение».
Тем не менее, К.П. Победоносцев и в дальнейшем будет недоволен отсутствием кар со стороны И.Л. Горемыкина против этой газеты.
4 марта 1897 г. на Казанской площади состоялась крупная студенческая демонстрация, созванная по поводу самоубийства в тюрьме М.Ф. Ветровой. На демонстрации жандармами были замечены и преподаватели А.Н. Бекетов, С.Ф. Платонов, В.И. Ламанский, Н.И. Кареев [В.М. Ершова «О.А. Добиаш-Рождественская» Л.: ЛГУ, 1988, с.20].
Ермолов спрашивал Делянова, какие меры будут приняты в ответ. Делянов 5 марта ожидал от Горемыкина надлежащих сведений, они будут переданы Ермолову и затем министры примут общее решение.
Новые встречи Горемыкина и Победоносцева отмечены в дневнике за 4 марта, снова 5 марта у Горемыкина, 13 и 15 марта у Горемыкина.
М.П. Соловьёв 8 марта срочно уведомил своего министра о смерти А.Н. Майкова в 7 утра от крупозного воспаления лёгких: «с глубочайшим прискорбием имею честь доложить». П.С. Ванновский 8 марта рекомендовал предводителя дворянства В.А. Драшусова в вице-губернаторы: «не казните, что мешаюсь не в своё дело и будьте милостивы и исполните просьбу буде возможно».
К.П. Победоносцев 11 марта просил известить его, когда последует распоряжение об освобождении студента Петрова.
А.И. Горемыкина в это время находилась вдали от мужа в берлинской клинике, жаловалась сыну на медленное лечение, включавшее нанесение маски на лицо. «Мы все недостаточно ценим здоровье, а это такое счастье!».
14 марта Великий Князь Сергей Александрович был у И.Л. Горемыкина после Ванновского, «удачно». В дневнике также отмечено присутствие Горемыкина на вокзале 18 марта среди провожающих.
Граф Делянов передал Горемыкину 19 марта письмо своего племянника князя Голицына и просьбу принять в 17 ч.
26 марта К.П. Победоносцев прислал И.Л. Горемыкину различные соображения насчёт памятника Мицкевичу в Варшаве. Против него «трудно возвражать», однако важно обратить внимание на форму празднования открытия памятника. «В этом отношении не годится рассуждение Имеретинского: “лучше де у нас чем в Кракове”. Напротив, лучше бы в Кракове, нежели у нас» (т.е. в Австро-Венгерской Империи).
Разрешение на памятник воспринималось как знак доброй воли Императора Николая II, но не являлось попустительством революционерам: при открытии уделили должное внимание форме и полностью исключили произнесение речей. Власти не использовали мероприятие для пропагандистских целей. В пользу Самодержавной России убедительнее всех речей говорил стремительный рост населения Варшавы от 244 тыс. чел. в мятежный 1863 г. до 700 тыс. к концу века [«Города империи в годы Великой войны и революции» СПб.: Нестор-История, 2017, с.140, 145].
На благотворительный спектакль Итальянской оперы 27 марта явились многие участники благотворительных обществ, в т.ч. семейства И.Л. Горемыкина и Д.С. Сипягина. Спектакль устраивала графиня Комаровская [«Петербургский Листок», 1897, №86, с.2].
Затем 28 марта 1897 г. обер-прокурор напоминал И.Л. Горемыкину о проблеме действий земских начальников против церковно-приходских школ «и прямо производят на крестьян давление против них, а были уже случаи подделанных приговоров» сельских сходов. Попутно Победоносцев приглашал министра на совещание к 21 ч. «Муравьёв согласен».
Александра Сипягина прислала 30 марта приглашение И.Л. Горемыкину: «не сделаете ли Вы нам удовольствие отобедать у нас в пятницу 4—го апреля в 7-м ч.».
31 марта у Победоносцева состоялось собрание по делам рабочих. Присутствовали Горемыкин, Муравьёв, Витте.
В дневнике Победоносцева на 4 апреля пометка о встрече у Горемыкина.
7 апреля были отменены сборы в казну с видов на жительство, составлявшие около 4,5 млн. руб. в год. Паспорт потерял фискальное значение. Краткосрочные паспорта упразднились.
Для Царской Семьи М.П. Соловьёв 7 апреля прислал И.Л. Горемыкину 2 экземпляра его книги «По святой земле». Великим знатоком церковной живописи назовёт М.П. Соловьёва В.В. Розанов, пользовавшийся его устными консультациями.
Алексей Игнатьев 9 апреля просил у Горемыкина встречи с Императором Николаем II и потом сразу благодарил за содействие.
10 апреля 1897 г. Горемыкин представил доклад Царю.
Н.В. Муравьёв по желанию И.Л. Горемыкина 11 апреля прислал ему обвинительный акт по делу Зеленко и Меронвиля, утверждённый СПб. судебной палатой. Затем в мае 1905 г. К.Н. Меронвиль из заграницы будет подавать ходатайство о помиловании через супругу О.Б. Рихтера непосредственно Императору Николаю II.
В Минске 15 апреля произошёл взрыв погромного насилия еврейского населения, направленный против русских солдат. Как сообщалось на суде, «всех солдат на базаре было несколько десятков, а нападавшая толпа – тысяч 15 или 20. Лопушинский видел, как 300 евреев били и истязали 3-4 солдат. Их опрокидывают, бьют лежачих, топчут». «Только страшною ненавистью можно объяснить это поведение толпы». Как и во многих случаях антирусских революционных погромов, устроенных евреями, их преступления сопровождались ложными обвинениями и вымыслами, перелагающими вину и ответственность на жертв и невинных[«Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах» М.: Изд. А.Ф. Скорова, 1900, Т.4, с.319-324].
По еврейскому вопросу И.Л. Горемыкин касался темы аренды земли евреями в 1897 г. в записке об изменении и дополнении правил землевладения [«Документы по истории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга». Путеводитель. СПб.: Миръ, 2011, с.188].
21 апреля вечером И.Л. Горемыкин у К.П. Победоносцева.
В Г. Совете 24 апреля рассматривалось дело о нормировании рабочего времени.
28 апреля 1897 г. Великий Князь Сергей Александрович писал Николаю II: «я переслал Горемыкину адрес Моск. Дворянства – вернее, их прошение тебе; по-моему, оно хорошо составлено и верно». Победоносцев 28 апреля был у Горемыкина после Г. Совета.
Весной 1897 г. стало известно повеление Государя Императора: не отменяя традиционных поднесений Царской Семье икон, хлеба и соли, ограничить их ценность, а подношение иных предметов отныне отклонять. Единственной формой материального подношения к Престолу должна считаться только жертва на благотворительные местные учреждения. «Министр Внутренних Дел, сообщая о сём, присовокупляет, что им предложено всем начальникам губерний и областей принять зависящие меры к точному исполнению Высочайшей воли» [«Владикавказские Епархиальные Ведомости», 1897, 15 мая, с.61].
18 мая 1897 г. в Петергофе Государь и Государыня присутствовали на служении панихиды по погибшим на Ходынском поле.
МВД остановило издание газеты «Сибирский Вестник» на 8 месяцев. Журнал «Хозяин» за статьи «Тверское земство» и «Обзор сельскохозяйственной деятельности» получил третье предостережение.
На запрос одного из губернаторов о толковании Манифеста 14 мая 1896 г. И.Л. Горемыкин отправил циркуляр: «принимая во внимание, что главная тяжесть телесного наказания заключается не в числе ударов, а в том нравственном страдании, которое наказуемый, несомненно, должен испытывать, я не могу не признать, что буквальное применение к приговорам волостных судов о наказании розгами п.10 ст.XIII Всемилостивейшего манифеста не соответствует самому духу манифеста, имеющего в виду действительное и, притом, равномерное для всех видов наказаний облегчение участи обвинённых» [«Томский Листок», 1897, 25 мая, №109, с.3]. Подобное же стремление к смягчению наказаний ранее проявлял в юридических исследованиях Н.В. Муравьёв, ставший министром юстиции. Он активно защищал оправдательные приговоры судов присяжных и призывал к отмене публичных наказаний, не оказывающих нравственного воздействия на зрителей [Н.В. Муравьёв «Из прошлой деятельности» СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1900, Т.1].
22 мая состоялось назначение заместителем Горемыкина князя Алексея Оболенского, который с июня 1895 г. был управляющим Государственным Дворянским Земельным банком. В 1902 г. А.Д. Оболенский станет заместителем Витте в министерстве финансов, а в 1905 г. обер-прокурором Синода в правительстве Витте.
Г. Совет 29 мая рассмотрел представление И.Л. Горемыкина о преобразовании сельско-врачебной части в Иркутском генерал-губернаторстве и Енисейской губернии и определил порядок работы врачебных участков. Правила исполнения обязанностей служащими по врачебной части определялись инструкциями Горемыкина.
13 мая 1896 г. были выпущены «Временные правила о применении Судебных уставов к губерниям и областям Сибири». Со 2 июля 1897 в областях Восточной Сибири начали действовать судебные установления по уставам Императора Александра II. При открытии новых судебных учреждений раздавались благодарности по адресу Государя и «личной энергии» министра юстиции Н.В. Муравьёва. Открывать эти учреждения в Иркутске Императором был послан сам министр. Там ему присвоили и звание почётного гражданина города.
В результате применения правил 1896 г. произошла почти полная смена состава круга лиц, ведущих судебную практику в Сибири, их которых отныне до 90% отныне имели высшее юридическое образование, чего не наблюдалось прежде, и из-за чего сибирякам приходилось обращаться за помощью ссыльных – подпольной адвокатуре. Для лиц, имевших иное высшее образование, требовалось прослужить 3 года в судебном ведомстве, выполняя обязанности не ниже секретаря окружного суда. Численность присяжной адвокатуры была значительно увеличена. Но институт присяжных заседателей, вызывавший в Европейской России большие нарекания, в Сибири введён не был [И.Г. Адоньева «Великая полуреформа»: преобразования судебной власти Западной Сибири в оценках местной юридической интеллигенции (конец XIX – начало XX вв.). Новосибирск: НГТУ, 2010].
4 июня первое предостережение получила газета «Сибирь».
5 июня министр Горемыкин благодарственной речью завершил работы переписной комиссии. Её деятели получили золотые жетоны с вензелями. 8 июня Горемыкин заслужил благодарственный рескрипт Императора за проведение переписи: «полагаю Себе в особое удовольствие выразить лично вам Мою душевную признательность за ваше неутомимое и вполне целесообразное заведывание этим делом, в котором участвовали около тысячи учреждений и свыше ста пятидесяти тысяч отдельных лиц».
МВД на 8 месяцев закрыло газету на латышском языке «Денас Лаппа». Газета вела социалистическую пропаганду, разжигала классовую ненависть и подбивала на стачки. Полиция взялась за разгром марксистов, провела обыски и осуществила 183 ареста. Среди сосланных после суда окажется будущий советский нарком юстиции П. Стучка [М. Шнепс-Шнеппе «Латышские стрелки. Мировая революция как война за справедливость» М.: Алгоритм, 2017, с.188-189].
В сочинениях писателя, который в составе 1-й Г. Думы будет противостоять правительству Горемыкина, можно встретить выражение: «латыш, например, – первый бунтарь» [Фёдор Крюков «Эпоха Столыпина. Революция 1905 года в России и на Дону» М.: АИРО-XXI, 2012, с.358].
В 1918 г. именно из красных латышей будет подобрана Свердловым и Голощёкиным команда убийц Царской Семьи для Юровского, с преднамеренной заменой ими сочтённых не подходящих для совершения этого преступления русских рабочих [С.В. Зверев «Екатеринбургское злодеяние. Сравнительные характеристики версий» М.: Традиция, 2024, с.239-262].
И.Л. Горемыкин утвердил типовой устав потребительских обществ. Отступления от него должны были отдельно рассматриваться в МВД.
7 июня Горемыкин сообщил П.П. Гессе о выходе революционных изданий «Современник» и «Народоволец» [М.А. Князев «Дворцовые коменданты в придворной и государственно-политической жизни Российской Империи» Дисс. к.и.н. Нижний Новгород, 2023, с.45].
Д.С. Сипягин на бланке Канцелярии по принятию прошений сообщал 7 июня 1897 г. о назначении Царём по его докладу единовременного пособия в 300 руб. вдове д.с.с. Марие Владимировне Горемыкиной. Средства перевели ей в Ковенскую казённую палату. Дмитрий Сипягин уведомил об этом И.Л. Горемыкина «вследствие принимаемого Вами участия в судьбе М.В. Горемыкиной» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1202 Л.2].
8 июня в Петергоф ездили Горемыкин, Витте, Победоносцев.
Горемыкин 16 июня утвердил циркуляр по хозяйственному департаменту о типовом уставе благотворительных обществ, который следует использовать для ускорения их учреждения и распространения. Типовые уставы могли утверждаться губернаторами и градоначальниками без согласования с МВД.
Тем временем в МВД возник проект учреждения в Томском университете особой бактериологической станции для более интенсивной борьбы с сибирской язвой.
О работе МВД в газетах сообщалось также про намерение увеличить промысловый налог промышленных и торговых заведений в пользу земств. В МВД занимались также проблемами упорядочения оценки вещей, закладываемых в ломбардах, рассмотривался допустимый взимаемый процент.
25 июня Император Николай II отменил обязательное посещение православных богослужений для иноверных и инославных в образовательных учреждениях России. Совместная молитва в школах также была заменена на раздельную [М. Рольф «Польские земли под властью Петербурга» М.: НЛО, 2020].
10 июля по докладу Горемыкина Император позволил открыть по всей Империи с участием правительственных учреждений благотворительный сбор на открытие в Крыму санатория для чахоточных по проекту княгини М.В. Барятинской.
21 июля 1897 г. в 20 ч. в С.-Петербурге открылась первая в России передвижная пожарная выставка. На открытии наряду с И.Л. Горемыкиным и С.Ю. Витте присутствовали Великие Князья Владимир Александрович, его сын Андрей Владимирович, управляющий морским министерством, градоначальник, губернатор, городской голова и множество лиц, причастных к пожарному делу. В следующие дни выставка направилась в Царицын.
Среди распоряжений, публикуемых Горемыкиным в разное время, были и правила о предупреждении пожаров: запрещение разведения огня при сильном ветре и во время засухи. Для ружейных выстрелов воспрещалось употреблять пыжи из пакли, ваты, льна и бумаги. Предписывалась и срочность гашения пожаров окрестным населением, поскольку без расторопности огонь распространяется на большие расстояния.
21 июля Горемыкин подписал циркуляр по Департаменту Полиции, в котором губернаторам предписывалось не допускать больных евреев и их родственников к приезду для лечения в Москву, поскольку им позволено при такой необходимости, с нарушением черты оседлости, пользоваться услугами врачебных заведений в Киеве.
После образования Бунда в 1897 г. И.Л. Горемыкин приказал следить за новой партией в Варшаве, Минске, Вильно и др. городах. В результате в ночь на 26 июля 1898 г. было произведено 70 арестов среди интеллигенции (в этом еврейском «рабочем» якобы союзе), всех арестованных увезли в Москву и там судили [«Жизнь» (Лондон), 1902, май, №2, с.102].
В Большом Петербургском дворце 26 июля прошёл парадный обед в честь Кайзера Вильгельма II и его супруги Императрицы Августы. Александра Горемыкина сидела среди самых знатных особ. И.Л. Горемыкин и С.Ю. Витте встречали правителей Германии в немецком посольстве.
28 июля МВД остановило издание газеты «Одесский Листок» на два месяца.
Получил широкую известность и распространялся в революционной печати секретный циркуляр Горемыкина от 12 августа 1897 г. об аресте и высылке зачинщиков забастовок. Циркуляр точно описывает механизмы распространения революционной лжи интеллигентскими вождями через студентов в среде рабочих.
«В мае прошедшего года рабочие С.-Петербургских бумаго-пряжных, бумаго-ткацких и ниточных фабрик прекратили работы, предъявив фабрикантам требования об увеличении задельной платы и сокращении рабочего дня. – Осенью того же года возник ряд забастовок в Москве и в некоторых местностях центрального фабричного района, а также возобновились, хотя и в меньших размерах, стачки в С.-Петербурге, при чём отличительными признаками всех этих стачек представляются: предъявления рабочими одних и тех же требований, единодушное упорство и сохранение стачечниками внешнего порядка и спокойствия.
Произведённые по поводу этих стачек расследования выяснили, что если первоначальные забастовки возникли на фабриках, на которых рабочие находились в наиболее тяжёлых экономических условиях, то дальнейшее распространение движения и дисциплина среди стачечников находились в зависимости главным образом от деятельности тайных революционных сообществ, именующих себя “союзом борьбы за освобождение рабочего класса” и “рабочим союзом”. Расследование, направленное к выяснению состава и образа действия вышеозначенных преступных сообществ, установило, что большинство членов этих “союзов” принадлежит к учащейся молодёжи обоего пола высших и специальных учебных заведений и курсов и что самые сообщества организованы из отдельных групп на началах децентрализации. Центральные группы сообщество ведают преимущественно денежные сборы и воспроизведение различными способами воззваний и иных изданий, предназначенных для агитационных целей. Прочие члены сообществ, порознь или отдельными группами, стараются завязать сношения среди рабочих и, сближаясь с наиболее развитыми рабочими, организуют при их посредстве рабочие кружки. Каждый рабочий кружок поступает в заведывание одного или нескольких “интеллигентов’, которые преподают рабочим, по издаваемым для сего специально брошюрам, новейшие политико-экономические и социалистические теории и вообще развивают своих слушателей в противоправительственном направлении»
В.Н. Коковцов 19 января 1905 г. в записке для Царя находил иначе, что забастовка, будучи экономическим, а не политическим явлением, не угрожает государству, а преждевременные аресты озлобляют рабочих. Большинство забастовок, утверждал Коковцов, вызваны не преступной пропагандой, а местными экономическими причинами.
Относительно них рабочие в СССР потом с тоской вспоминали о царском времени: можно было устраивать забастовки, ибо «рабочие были сами себе начальниками» [Сара Дэвис «Мнение народа в сталинской России» М.: РОССПЭН, 2011, с.171]. Пролетарии пролетели как дырявая пролётка – отзывался о революции её певец Исаак Бабель [Ю.П. Анненков «Дневник моих встреч» Л.: Искусство, 1991].
Т.е., Коковцов верно оценивает происхождение и значение экономических забастовок. Но в довольно распространённом случае политической пропаганды правила Горемыкина вполне справедливы. К примеру, П.Н. Дурново на совещании министров 18 января 1905 г. точно говорил: «смуту, как революцию, не делает толпа, а лишь образованный класс» [«Красный Архив», 1925, Т.11-12, с.21-22, 31].
Обычная ситуация с рабочими протестами в Императорской России выглядела так: «рабочие бастуют опять; часть, вернее огромное большинство, хочет работать, но более энергичная кучка грозит им поджогами и убийствами, и все боятся» [С.Р. Минцлов «Дебри жизни. Дневник 1910-1915» Берлин: Сибирское книгоиздательство, 1925, с.43].
Революционеры не останавливались перед убийствами директоров и инженеров, чья положительная деятельность в отношении рабочих «заслуживала полной симпатии». Совершаемые злодеяния «явно шли в разрез со взглядами большинства самих рабочих» [Н.Н. Алянчиков «Фабричный террор» Тверь, 1908, с.6].
В случае организации забастовок интеллигенцией и мелкими радикалами-террористами, устранять зачинщиков по методу Горемыкина было самым необходимым, эффективным делом.
Витте напрасно протестовал против циркуляра МВД 12 августа 1897 г., считая его посягательством на расширенные его усилиями в предшествующие голы права фабричной инспекции. На самом деле Горемыкин крайне умеренно относился к широте полномочий Витте. В.М. Вонлярлярский через Клейгельса передавал Горемыкину записку о потребности перевода фабричной инспекции в ведомство МВД, но Горемыкин не стал препираться с Витте, и такой перевод осуществил позже Плеве [И.В. Лукоянов «Не отстать от держав…». Россия на Дальнем Востоке в конце XIX — начале ХХ вв. СПб.: Нестор-История, 2008, с.502].
В то самое время, когда Горемыкин издал циркуляр, министр юстиции Н.В. Муравьёв в 1897 г. на основании всех имевшихся у него следственных дел определённо указывал на связь появлявшихся среди рабочих организаторов стачек с «тайными обществами».
Любимый военный корреспондент Императора Николая II, будучи на Дальнем Востоке, записывал рассказы о страшных наводнениях в Приморье, вызываемых тихоокеанскими тайфунами. К ним прилагался «тропический, беспросветный, бесконечный дождь» [П.Н. Краснов «По Азии. Путевые очерки» СПб., 1903, с.13].
Половодье 1896 г. испортило много вёрст железной дороги.
После шедших с середины июля непрерывных дождей небывалый разлив рек, какого не помнили старики, привёл к сносу домов, путей сообщений, посевов в Забайкалье. 29 июля министр Горемыкин получил просьбу Приамурского генерал-губернатора С.М. Духовского о выделении на помощь пострадавшим 5 тысяч рублей из казны. Император Николай II сразу выделил им из личных средств 2 тысячи, комитет в Чите собрал 8 тысяч частных пожертвований. В конце августа МВД Горемыкина выделило на безвозвратные пособия жителям Читы и Забайкалья 25 тысяч рублей [«Байкал» (Троицкосавск), 1897, №14-16].
Прогнозируемая повторяемость бедствий вроде разливов, приходящихся на самую активную земледельческую пору, а также затруднения скорой доставки помощи далёкому краю привели правительство к тому что хлебозапасные магазины начали устраиваться ещё в 1889 г. [А.А. Риттих «Переселенческое и крестьянское дело в Южно-Уссурийском крае» СПб.: Тип. МВД, 1899, с.60].
Хотя все такие факты помощи указывали на постоянную заботу Царя и его министров о нуждах подданных, их добрые дела не находили заслуженного одобрения в среде левой интеллигенции.
В неурожай 1897 г. статистики калужского земства определили потребность в ссуде нуждающимся более 1 млн. руб. И.Л. Горемыкин распорядился дать сумму втрое меньше, что некомпетентные левые писатели неверно расценивают как замалчивание голода [О.Л. Протасова «А.В. Пешехонов. Человек и эпоха» М.: РОССПЭН, 2004, с.18].
Не заслуживает доверия Пешехонов, доходивший до того, что во имя революционных пропагандистских иллюзий даже отрицал бесспорный факт имущественного неравенства среди крестьян [А.В. Берлов «На чужбине. О российской аграрно-научной эмиграции в Европе (1922-1939)» М.: Граница, 2021, с.208].
Исследования М.А. Давыдова отлично показали, что земские статистики и сами опрашиваемые крестьяне действительно чрезмерно завышали свои потребности для получения безвозмездной помощи, а замалчивания неурожаев не наблюдалось.
П.П. Семёнов на совещании под председательством И.Л. Горемыкина в ноябре 1905 г. будет говорить: «статистические данные об урожайности нельзя считать непреложными». «Крестьяне боятся обнаружить какие бы то ни было признаки своего благосостояния и поэтому склонны преуменьшать цифры, касающиеся урожайности их полей» [РГИА Ф.1212 Оп.1 Д.3 Л.63об.].
Либеральная пропаганда обвиняла И.Л. Горемыкина даже в использовании точного термина недород вместо голода, и в запрещении злонамеренно ложных сообщений о голоде. Горемыкин следовал принятому среди учёных определению. В ходу было такое употребление: «семь лет мог продолжаться недород, а три из них могли быть годами голода, со всеми его ужасами» [«Журналы собраний Совета Императорской Московской Духовной Академии за 1914 год» Сергиев Посад, 1916, с.180].
Справедливо преследуемый духовной цензурой за католические и того хуже, жуткие пантеистические загибы, философ В.С. Соловьёв 9 августа 1897 г. разместил имя Горемыкина впереди трёх наиболее влиятельных министров в письме к редактору «Вестника Европы» М.М. Стасюлевичу:
«Горемыкин веселеющий,
И Делянов молодеющий,
Победоносцев хорошеющий,
Муравьёв-жених
Собирались снова вместе и
Порешили……….
Что вся сила в них».
Заканчивается стихотворение на том что им не удастся прикинуться либералами (как будто кто-то из них пытался): «дела все ваши взвешены, да и сами вы …….. – Вот конец и прост» [В.С. Соловьёв «Письма» Пг.: Время, 1923, Т.4, с.49].
Затёртая рифма легко считывается, активный оппонент Н.Я. Данилевского, Н.Н. Страхова и Л.А. Тихомирова, отчаянно ненавидевший все проявления русского национализма, Владимир Соловьёв желал И.Л. Горемыкину и его соратникам виселицу. Публикатор Э.Л. Радлов в очередной раз ошибся с датой, что за ним частенько водится, пометив это письмо 1891-м годом. Хотя уже тогда Горемыкин превосходно себя зарекомендовал, но всё же не настолько, чтобы возглавить перечень министров. Поскольку в стихотворении также говорится про неурожай от засухи, видимо, это и стало причиной неверного определения года.
В биографическом очерке «LXXV», основанном на документах с точными указаниями дат и цифр, злостная дурь о недостаточной борьбе Горемыкина с голодом разоблачается: «ещё в июле месяце он предвидел надвигавшееся бедствие и спешил принять свои меры», «по его распоряжению, заблаговременно были собраны сведения о размерах предстоящей нужды». Горемыкин оказал продовольственную помощь на 30 млн. руб., не прибегая к субсидиям казначейства, на сбережения продовольственного капитала предшествующих лет. Особые старания прилагались к прокормлению крестьянского рабочего скота.
Насколько революционеры, лгавшие о Горемыкине и принижавшие значение помощи нуждающимся соотечественникам, всегда оказывались хуже Императорского правительства видно на примере СССР: «Какая разница с дореволюционной Россией! Звучит сказкой забота царской семьи о раненых и пленных воинах, не говоря уже о помощи Красного Креста!» [Ф.Я. Черон «Немецкий плен и советское освобождение» И.А. Лугин «Полглотка свободы» Париж: YMCA-PRESS, 1987].
4 августа у Горемыкина был Победоносцев.
Государь записал, что 7 августа 1897 г. «имел доклады: Фредерикса, Горемыкина и Муравьёва – и здесь не могут оставить в покое!» – на военных смотрах. Несколько позже Царь писал матери, что стал принимать по 3-4 министра сразу, устраивая вместо разрозненных докладов такие небольшие совещания с ценным обменом мнений. А.А. Поливанов записывал высказывание Николая II, что весь его день принадлежит министрам: «а ночь в моём распоряжении; сколько я сплю – это уже моё дело».
Продолжались и регулярные беседы лучших русских министров. 9 августа Горемыкин навещал Победоносцева.
П.С. Ванновский 10 августа дополнительно пригласил супругу И.Л. Горемыкина «присутствовать на параде в Красном Селе 13 августа (при Форе). На сей случай прилагаю два билета». 12 августа вечером Горемыкин и другие министры встречали французского президента в гостиных отеля посольства.
В Москве на международном медицинском съезде 7-14 августа Склифосовским высказывалась благодарность Горемыкину за вклад в его проведение.
14 августа в Петергофе Горемыкин и Победоносцев долго ждали возвращения Государя из Кронштадта.
Виленский губернатор Иван Чепелевский 19 августа 1897 г. писал И.Л. Горемыкину, что доложил Государю: решение вопроса о постройке «центральной лечебницы для душевнобольных, благодаря энергичным распоряжениям Вашего Высокопревосходительства быстро двигается вперёд». Выбранный участок земли Царь осмотрел лично 3 днями ранее и спросил: «Министр долго останавливался здесь?» «На что я доложил, что Ваше Высокопревосходительство с утра осмотрели подробно участок земли, причём преподали указания о месте и расположении построек, а затем оставаясь в Вильне до ночи, Вы изволили сделать все необходимые распоряжения для безостановочного движения этого дела» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1369 Л.1-2].
22 августа Император отметил в дневник как «принимал Горемыкина с Имеретинским и Рихтера». В этот день в Варшаве вечером Горемыкин был на парадном обеде в Лазенковском дворце. 25 августа Николай II написал матери, что князь Имеретинский «имеет вполне правильные взгляды, какие должны быть у русского генерал-губернатора Польши, с некоторою снисходительностью и достаточным доверием к полякам».
Князь А.К. Имеретинский, наместник в Царстве Польском, по мнению русских монархистов, горячо боролся с революционерами и социалистами, но отличался примирительным сентиментализмом. Это шло в разрез прежней линии наместника И.В. Гурко [А.Н. Куропаткин «Русская Армия» СПб.: Полигон, 2003, с.339].
К примеру, А.К. Имеретенский 24 декабря 1897 г. выпустит из-под стражи арестованного Бориса Савинкова и его брата, по ходатайству их матери. Власти Империи традиционно были куда снисходительнее и добрее чем такие революционеры, пытавшиеся переубивать всех подряд, своих и чужих, от В.К. Плеве до Николая II, от Гапона до Азефа. Среди жертв сатанинского террора окажутся многие приближённые И.Л. Горемыкина [«Три брата (То что было). Сборник документов» М.: Новый хронограф, 2019, с.14].
Глубоко не верны делаемые назло либералам и в угоду господству необольшевизма аморальнейшие восхищения тем как Сталин устраивал массовые казни коммунистов, своих же единомышленников [А.М. Буровский «Мифы и правда о 1937 годе. Контрреволюция Сталина» М.: Яуза-пресс, 2010].
Сталин действовал как настоящий революционер, согласно со всей левой политической традицией: своих детей пожирает не контрреволюция. Это делает Сталина не лучше, а куда хуже всех других соратников Ленина. По-настоящему восторгаться следует тем как даже самые отъявленные идейные враги Российской Империи пользовались её благами, в отличие от того как жизни или свободы их лишили в результате свержения Николая II. Когда неосталинисты ведут к повторению всех ошибок и преступлений революции, монархисты предостерегают и предотвращают их.
Царя и Царицу в Варшаве встретила громадная манифестация, нанёсшая значительный урон сепаратистам и оскорбившая разочаровавшихся либералов [Э. Пильц «Русская политика в Варшаве» Варшава, 1909, с.30].
25 августа Победоносцев получил письмо от Горемыкина.
Со стороны недоброжелатели тоже отмечали их слаженную общность.
8 сентября 1897 г. жена Л. Толстого написала: «что за деспотическое правительство у нас! Царя как будто нет, а какие-то тупые злючки вроде Горемыкина (министра внутренних дел) и Победоносцева делают поступки, навлекающие злобу на молодого царя, и это жаль» [С.А. Толстая «Дневники» М.: Художественная литература, 1978, Т.1, с.294].
Софья Толстая непоследовательно и недостаточно упорно выступала на защиту Церкви и Монархии перед анархистом-мужем, заносчивым эгоманьяком. В один из наиболее опасных моментов, в Японскую войну, опасаясь что либералы её сочтут как Льва-мл., противником пацифизма, она напишет письмо в английскую «Таймс», т.е. прямым союзникам врага, предлагая отдать ради прекращения войны какие угодно территории Российской Империи [П. Басинский «Лев в тени Льва» М.: АСТ, 2015].
Упоминание Софьей о навлечении злобы на Царя сделано неспроста, либералы устраивали настоящую травлю каждого, кто выступал с критикой толстовства.
Реагируя на выступления православных иерархов против лжи толстовства, «либералы озлились до бешенства и потери благоразумия». «Не дай вам Бог заслужить их одобрение», говорил Владыка Амвросий (Ключарев) о редактируемой А.В. Амфитеатровым «России», «С.-Петербургских Ведомостях» Э.Э. Ухтомского и других «редакциях наших жидовствующих газет» [Прот. Т.И. Буткевич «Высокопреосвященный Амвросий, Архиепископ Харьковский. Биографический очерк» Харьков, 1902, с.339-340].
Традиционно либералы использовали еврейскую тему для борьбы с христианством, называя антисемитизмом православное отношение к иудаизму. «Это из ненависти к христианству они так полюбили жида» [Ф.М. Достоевский «Полное собрание сочинений» Л.: Наука, 1988, Т.30, Кн.1, с.8-9]. Последователи либерализма все свои силы кладут на борьбу с русским национализмом в Церкви, превознося для борьбы с православием любые иные конфессии, не признавая канонизированных русских святых, распространяя ненависть к Монархии, как можно увидеть на примере А. Меня и его последователей, во имя борьбы с антисемитизмом отказывающихся признавать Ветхий Завет потерявшим силу [С.С. Бычков «Хроника нераскрытого убийства» М.: Русское рекламное агентство, 1996].
Горемыкин отправился в Париж и 11 октября с Муравьёвым был у Ганото на завтраке в честь русских министров. Муравьёв, одобрив литературную и артистическую конвенцию об авторских правах, поехал в Дармштадт, где с сентября находилась Царская Семья. К 14 октября Горемыкин вернулся в Петербург.
20 октября Горемыкин дома у Победоносцева, на другой день – наоборот – он у министра внутренних дел.
С.Ю. Витте, А.С. Ермолов и Н.В. Муравьёв 25 октября благодарили И.Л. Горемыкина за присланные им тома «Свода узаконений».
Э.Э. Ухтомский, продолжая пытаться натравливать Горемыкина на своих конкурентов, «Свет» В.В. Комарова («простите моё маньячество в этом отношении»),прислал министру номер газеты, нарушивший циркуляр с запретом говорить о Высочайшем повелении 25 июля. Ухтомский 26 октября также обратил внимание Горемыкина что помимо «Света» «Московские Ведомости» «дают понять, что ныне царствующий Государь во вред России уклоняется от заветов Державного Своего Родителя и подобные статьи ходят в обществе по рукам с вопросом: и для кого это пишется и с какими целями распространяется?».
В личном письме от 28 октября 1897 г., не на бланке министерства юстиции, Н.В. Муравьёв просил И.Л. Горемыкина «ускорить доставление нам отзыва по проекту судебной реформы в северо-восточн. уездах Вологодской губ., сообщённому на заключение Мин. Вн. Дел ещё в апреле этого года. За неполучением этого отзыва может оказаться невозможным завершение преобразования суда в Европейской России и 1898 г. к чему есть все основания и весьма серьёзные побуждения. Совершенно необходимо внести проект в Государственный Совет» к 1 ноября, чтобы удержать в смете кредит, на который согласилось министерство финансов. «У меня есть резолюция Его Величества, одобряющая моё предположение о неотлагательном завершении судебной реформы».
30 октября Горемыкин и Победоносцев оба посещали Витте.
Занимаясь проблемой неурожаев, А.С. Ермолов собирал и публиковал доказательства, касающиеся экономической пользы осушения болот, ввиду появления ложных теорий о связи между осушениями, после которых в южных губерниях сохранялся переизбыток влаги, и засухами в совершенно иных областях центра и востока России [СПФ АРАН Ф.24 Оп.2 Д.47 Л.2-6].
Очевидно, такие теории были направлены против правительственной аграрной политики и выпущенного 26 июня 1896 г. закона о мелиоративном кредите, направленном как на осушительные, так и оросительные работы, а также способствовавшего развитию плодовых садов и виноградников.
Состоявшееся 1 ноября 1897 г. увольнение тверского губернатора, согласно его прошению, принимает в глазах современного историка гротескные черты ввиду неуместного пристрастия к не заслуживающим существенного внимания записям С.Д. Шереметева, сторонника назначения на место МВД Д.С. Сипягина.
«Противостояние Ахлёстышева и Горемыкина стало первым в царствование Николая II случаем, получившим общественный резонанс, когда фигуры, занимавшие видные места в бюрократической иерархии, придерживались противоположной политической ориентации: с одной стороны – представления эпохи Александра III, с другой – основания, все явственнее становившиеся приоритетными для модернизировавшегося общества. Этот ценностный раскол внутри политической элиты страны далее лишь усиливался и стал впоследствии одной из главных причин гибели самодержавия» [Д.А. Андреев «Самодержавие и борьба в правительственных верхах 1894-1904» Дисс. д.и.н. М.: МГУ, 2022, с.327].
Именование политической ориентации министра и губернатора противоположной является смехотворной нелепостью, бессмысленна модернизационная терминология и вымысел о расколе и гибели. Каждое Царствование являлось шагом вперёд сравнительно с предыдущим ввиду системного поступательного положительного развития Империи, а отнюдь не кризиса. Правильное понимание логики постепенного раскрытия потенциала естественного развития и политического использования полученного опыта снимает мнимые противоречия между эпохами Александра II, Александра III и Николая II, указывая на их логическую преемственность.
В действительности материалы диссертации Д.А. Андреева не показывают никакого надуманного противостояния Горемыкина с губернатором, довольно естественные расхождения в суждениях между которыми не имеют решительно никакого принципиального значения. Следует напомнить о том как К.П. Победоносцев назвал попросту глупыми претензии Мещерского и Ухтомского к пониманию Горемыкиным законности. Аналогично выступил Грингмут относительно мнимой противоположности МВД традициям Александра III.
Настоящее несогласие имелось у монархистов с создателем “резонанса” С.Д. Шереметевым, заурядными спекулятивными интригами которого приятно пользоваться либеральным историкам. Бессмысленно на основании его противоречивых метаний выстраивать какую-либо логическую конструкцию политической истории. К примеру, в 1905 г. Шереметев метнётся на сторону Горемыкину и будет искать в нём единомышленника, но останется противником Императора Николая II, заявив своей главной целью борьбу с бюрократическим режимом, разделяя в этом отношении самую вредную мифологию либералов и революционеров, одновременно считая своим единомышленником Александра III [СПФ АРАН Ф.281 Оп.2 Д.562 Л.41об.].
Качественный положительный пример правой монархической мысли даёт Юлиус Эвола в «Критике фашизма», когда отстаивает от наступления парламентаризма истинное Самодержавие, т.е. идеологически противоположный демократам и социалистам антитоталитарный опыт «облагораживания бюрократии», «в других странах, например, России и Пруссии» (до 1917-18 г.), где существовал «тип работника, видящего в служении государству прежде всего великую честь, что, помимо прочего, требует особого призвания» [Ю. Эвола «Люди и руины» М.: АСТ, 2007, с.312, 437].
Эту же мысль выражал в последние годы Германской Империи ещё не деградировавший до демократов писатель: «Многажды ославленное «чиновничье, полицейское государство» есть и остаётся наиболее приемлемой и глубоко желаемой немецким народом формой государственного существования. Для того, чтобы сегодня высказать это убеждение, требуется немалое мужество», «что демократия, что политика [т.е. левое популистское политиканство парламентаризма] чужды и вредны самому немецкому существованию» [Т. Манн «Путь на Волшебную гору» М.: Вагриус, 2008, с.40-41].
Одним из самых достойных представителей этого честного и смелого бюрократического правого монархизма в Российской Империи являлся Горемыкин.
6 ноября утром Горемыкин представил доклад Императору. 7 ноября у Победоносцева – Горемыкин, Ухтомский, обсуждали Черногорские дела.
А.С. Суворин 7 ноября просил И.Л. Горемыкина назначить ему время встречи, сразу выражая сожаление за «бестактный промах, сделанный газетою в моё отсутствие, который мог дать Вам повод думать, что я не ценю того доброго внимания, которое Вы мне пожелали доказывать». По дневнику Суворина можно убедиться, что он действительно не ценил И.Л. Горемыкина и считал осуществляющую антиреволюционную цензуру монархическую власть своим врагом, поскольку интересы защиты Империи и газетного дела не совпадали.
МВД 16 ноября на две недели остановило печатание частных объявлений в газетах «Мировые Отголоски», «Народ», «Сын Отечества», «St.-Petersbourg Zeitung» и закрыло розничную продажу газеты «Русский Листок».
Ухтомский 16 ноября сообщал Горемыкину, что какое-то лицо желает ознакомиться с денежной стороной дела. Судя по соседнему письму от 18 ноября, подразумевается желание К.К. Случевского оставить редакцию «Правительственного Вестника». 17 ноября К.П. Победоносцев об этом же писал И.Л. Горемыкину, что Ухтомский предлагает Случевскому взять «С.-Петербургские Ведомости» «и поставить туда редактора от себя». «Случевский кажется не прочь».
В революционной среде тоже повторяли мнение Победоносцева что Ухтомский «не боится никого» и освещает темы, на которые Горемыкин «запрещает писать, и ему ничего за это не делают», писал в ноябре 1897 г. С.О. Цедербаум [«Из архива Ю.О. Мартова. 1896-1904» М.: Памятники исторической мысли, 2015, Вып.1, с.129].
В.А. Грингмут 17 ноября 1897 г. сообщил И.Л. Горемыкину: «вчерашняя тревога, к счастью, оказалась неосновательною». «Статья о которой мы вчера с Вами говорили, появится в завтрашнем нумере». «Я буду счастлив, если заслужит одобрение Вашего Высокопревосходительства» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.695 Л.5].
Из Парижа П.И. Рачковский обращался к И.Л. Горемыкину 17 ноября насчёт Витте: «Принося Вашему Высокопревосходительству мою искреннюю благодарность за Ваше милостивое письмо, считаю долгом почтительнейше доложить что Михаил Михайлович Ляшенко, проживающий в доме №39 по Офицерской улице находится в настоящее время за границей и вернётся в Петербург в пятницу вечером на будущей неделе. Несколько дней тому назад, я видел его в Париже, сообщил ему адрес Баронессы Медем, куда он и явится по Вашему приглашению. Под впечатлением первого свидания с ним я осмелился послать Вам телеграмму, желая предупредить Ваше Высокопревосходительство о действительном настроении С.Ю. по вопросу о телефонах в Сызрани и Петербурге. Вопрос этот обсуждался, если не ошибаюсь, в Государственном Совете, где будто бы С.Ю. отнёсся уже к нему неодобрительно: оказывается, что он этим не удовлетворился и представил 7-го ноября Государю памятную записку, в которой просил Его Величество отклонить Ваше ходатайство (если бы такое поступило) об ассигновании Министерству соответствующих кредитов на устройство телефонов в Сызрани и выкупа таковых в Петербурге. В упомянутой записке Министр Финансов высказал предположение, что устройство телефонов в Сызрани могло бы взять на себя наёмное общество и что в этом случае можно было бы обойтись без Правительственных затрат. Что же касается Петербургских телефонов, то против перехода этих последних в казну, он привёл массу соображений, обнаруживающих в нём усердного радетеля казённых интересов. Ляшенко утверждает, что это не единственный случай, когда он входит с подобными записками по всем ведомствам, желая убедить Государя в своём рвении при охране казённых интересов. В данном случае, он имеет в виду вынудить Министерство Внутренних Дел отдать Сызранское дело в руки частных лиц и возобновить контракт с комиссией Белля». «В разговоре по означенному предмету с одним господином, С.Ю. заметил со злобной улыбкой: «Они, не Н.И. Петров, большие специалисты – пусть выговаривают выгодные для казны условия; теперь имеет казна в среднем 50% годового дохода, а при иных условиях казна и этого не получит». Не зная в какой степени всё это важно знать Вашему Высокопревосходительству, я думаю что Ляшенко будет крайне полезен для освещения откупной деятельности Министерства Финансов на будущее время. Так, ему, между прочим, будут известны бюджеты по всем ведомствам с окончательными выводами С.Ю. до обсуждения таковых Государственным Советом. Вообще Ляшенко человек сведущий не только в финансовой политике, но и по другим вопросам закулисной деятельности названного Министерства. Для упрощения его задачи не благоугодно ли будет Вашему Высокопревосходительству давать ему необходимые поручения для освещения тех вопросов, которые Вас могли бы интересовать. Смею уверить Ваше Высокопревосходительство, что он сумеет оправдать Ваше доверие и сделать всё от него зависящее чтобы Вы остались им довольны.
Посылка Вашего Высокопревосходительства была получена мною и отправлена в минувший четверг. В политическом отношении полное благополучие. Подробный доклад о положении дела за границей будет отправлен со следующим курьером: есть много интересного.
С чувством глубокого уважения и беспредельной преданности» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1143 Л.1-2].
Столь подробное неофициальное письмо П.И. Рачковского относительно телефонной сети может навести на мысль о его личной материальной заинтересованности и конфликте интересов с С.Ю. Витте на этой почве. Рачковский неодобрительно характеризует подобные действия Витте как закулисные, поскольку он только прикрывается интересами защиты казны для сведения личных счётов.
Независимо от подоплёки конкретного дела, пример телефонной сети, требующий создания технической монополии в рамках населённого пункта, допускал формирование «частной монополии» для полного снятия с казны (т.е. с налогоплательщиков) лишних затрат [Милтон Фридман «Капитализм и свобода» М.: Новое издательство, 2016, с.181].
22 ноября 1897 г. П.И. Рачковский прислал И.Л. Горемыкину телеграмму на французском: «Друг выражает желание показать своё почтение Вашему Высокопревосходительству как можно скорее» (снова о М.М. Ляшенко). Телеграмма Рачковского 29 ноября, ссылаясь на достоверный источник, уведомляла о получении отказа в кредите на Сызранские телефоны.
По сводным данным о всех министрах внутренних дел И.Л. Горемыкин у дурнейшего поклонника чекистов значится как «сторонник решительного подавления студенческих беспорядков», а получил отставку из-за «обвинений в коррупции» [С.А. Кредов «Щёлоков» М.: Молодая гвардия, 2010, с.297].
Клевета в адрес И.Л. Горемыкина имела хождение, но не основана ровно ни на чём, полностью несостоятелен и вымысел об отставке, не связанной ни с одним из ложных обвинений. Но раз они раздаются, то лучше сразу со всем разобраться.
6 декабря Ляшенко попросил И.Л. Горемыкина назначить ему приём для доклада. Таковой состоялся.
Рачковский в письме к Ляшенко 10 декабря 1897 г. охарактеризовал Горемыкина: «надеюсь ты послушался меня и в беседах с ним повествуешь только то, что тебе достоверно известно и не выдаёшь случайного слуха за действительный факт. Верь, что только на такой почве могут установиться между вами добрые, искренние отношения. Иначе, кроме недоразумений взаимной подозрительности, между вами ничего не произойдёт. Ничего иного и быть не может. Ник. [И.Л. Горемыкин] человек честный, прямой, умный и осторожный, и дальновидности в нём много. Такого же приблизительно типа и Накл-ый [П.П. Гессе]. Он знает тебя по моей рекомендации». В начале письма задан вопрос: «до чего вы договорились с Ник.; верите ли вы друг другу и на каком пункте остановились?» [«Былое», 1918, №2, с.83].
11 декабря Ляшенко написал И.Л. Горемыкину, что едет за границу по важному делу, вернётся через неделю и снова явится на приём.
Связь с Рачковским мелькнула в одном из сохранившихся писем П.П. Гессе к И.Л. Горемыкину от 14 октября из Дармштадта: «Я должен у Вас просить извинение за то что по моему ходатайству Государь пожаловал Рачковскому орд. Владимира III ст. Может быть Вы и не будете за это особенно сердиты так как кажется он его заслужил» (эту серию писем я датирую 1899-м). Даже ордена выбивал для Рачковского не Горемыкин, что подтверждает приведённую характеристику и отсутствие каких-либо непозволительных корыстных обменов.
В.К. Плеве считал, что Рачковский устраивал из личной выгоды иностранные коммерческие предприятия в России, чем не следовало заниматься на русской службе в Париже. При этом речь не шла о нарушении им законов или об использовании служебного положения, а лишь об отвлечении Рачковского от прямых полицейских обязанностей на сторонние дела, хотя дела эти вполне важные и соответствующие интересам России. Судя по тому, какими качествами охарактеризован Горемыкин, ведение с ним каких-либо коррупционных дел исключено. Более того, в том же письме к Ляшенко Рачковский уточняет, что его интересует не обогащение, коего он опасается, а ведение «благородной борьбы с тёмными силами».
Последнее утверждается в серии статей «Карьера П.И. Рачковского»: министр Горемыкин «ценил Рачковского и относился к нему с большой симпатией, поручая ему весьма серьёзные дела не только в области полицейского розыска, но и важные в государственном отношении». По поручению Горемыкина Рачковский ездил в Рим и встречался с папой Львом XIII и кардиналом Мариано Рамполлой дель Тиндаро. Секретная миссия касалась устройства нунциатуры в Петербурге, чего, однако, не произошло [«Вечернее время», 1912, 30 мая, №157, с.2].
В письме А. Мосолова И.Л. Горемыкину упоминается запланированная встреча с нунцием 17 мая (в годы управления МВД), когда для Горемыкина Мосолов получил предварительно от нунция список вопросов к обсуждению.
В.С. Брачев показывает ошибочность представлений, что Рачковский скопил миллионы на финансовых операциях в Париже. И.Ф. Манасевич-Мануйлов в 1917 г. говорил ЧСК, что Рачковский при Горемыкине получал 2 тыс. руб. в месяц.
И.Л. Горемыкин ценил роскошную обстановку, полагающуюся государственному деятелю его уровня. Всё необходимое он получал согласно утверждённому в Империи довольству. Лично же он был весьма обеспеченным человеком не только благодаря успешному производительному имению. Горемыкин имел постоянный крупный доход от переиздающихся составленных им нескольких томов свода узаконений. Денежную честность И.Л. Горемыкина удостоверяют уже приводившиеся воспоминания К.Н. Неклютина о решении вопроса по строительству Самарской железной дороги. Положительным характеристикам Горемыкина при назначении в МВД полностью соответствуют и отзывы после отставки. Его честность ничем не скомпрометирована.
По докладу министра земледелия Ермолова Император Николай II отпустил в распоряжение Астраханского губернатора 50 тыс. руб. для помощи калмыкам, пострадавшим от неурожая.
Для более объёмного представления о деловых подходах во взаимоотношениях министров приведу послание И.Л. Горемыкина к С.Ю. Витте за 19 ноября 1897 г.: «В письме от 23 августа сего года по вопросу об образовании особой Комиссии для разработки законодательных мер по введению общегосударственного страхования рабочих на случай смерти и инвалидности Ваше Превосходительство изволит выразить сомнение в том, чтобы обязательное страхование рабочих представляло у нас достаточно назревшую потребность. Необходимо, по мнению Вашему, принять во внимание, что владельцы промышленных заведений неоднократно заявляли о полной готовности своей прийти, без всяких принудительных мероприятий, на помощь делу обеспечения участи занятых в их заведениях рабочих. Не отрицая затем своевременности работ по собиранию материала, необходимого для всестороннего освещения настоящего вопроса, Вы изволите однако полагать, что так как в ведении Министерства Финансов находится наибольшее число фабрично-заводских рабочих, то и самое собирание сведений и вообще разработка вопроса об обеспечении рабочих в случае утраты трудоспособности или смерти должны быть, во всей совокупности, сосредоточены в Министерстве Финансов, причём выработанные по этой части предположения могли затем быть пересмотрены в комиссии при участии представителей от заинтересованных ведомств.
Со своей стороны я по обсуждении приведённых замечаний затруднился бы согласиться с тем, чтобы заботу об улучшении участи рабочих и их семейств, путём обеспечениях оных соответствующими видами страхования, удобно было отложить на неопределённое время и отнести к числу задач, не вызывающих покуда надобности в особых мероприятиях со стороны Правительства. Долговременный опыт убеждает в том, что огромное большинство владельцев промышленных заведений до настоящей поры не принимает по личному почину никаких активных мер к обеспечению участи занятых у них рабочих. В виду сего рабочие, сознавая, что в случае лишения трудоспособности им не откуда ожидать вспомоществования и они останутся без всяких средств к жизни, повсеместно организуют тайные кассы взаимопомощи, которые при отсутствии правильно поставленного правительственного за действиями их надзора, служат также для поддержки стачечных во время происходящих забастовок. Отсутствие у рабочих надежды на то что постоянство в труде принесёт за собою обеспечение старости и улучшение судьбы их семейств вызывает у рабочих постоянные переходы с места на место в погоне за случайным повышением временного заработка. Этим создаются и благоприятные условия для увлечения самыми грубыми социалистическими и анархическими учениями, распространение коих между нашими рабочими не подлежит сомнению и при дальнейшем его развитии грозило бы обратить этот класс населения в среду враждебно относящуюся ко всем проявлениям мирного развития государственной и общественной жизни.
Таким образом, едва ли было бы достаточно осторожно и дальновидно полагаться в настоящем деле исключительно на добровольный почин владельцев частных фабрик и заводов, а тем более на голословные их по этому предмету обещания. Вполне соглашаясь, с другой стороны, что при современном положении вопроса нельзя бы уже задаваться окончательным изготовлением соответствующих законодательных предначертаний, я не могу однако не заметить, что известные Вашему Превосходительству предположения мои по сему предмету сводятся единственно к тому, чтобы теперь же приступить к планомерному собиранию и разработке того обширного материала, без всестороннего исследования коего нельзя будетни в какое время подвинуть разрешение намеченного вопроса. Материалом этим Министерство Внутренних Дел покуда не располагает, равно как не имеется его и во вверенном Вам Министерстве, что видно, между прочим, из упомянутого письма Вашего Высокопревосходительства. Поэтому, на стороне Министерства Финансов не имелось бы в сём отношении каких-либо особых преимуществ. Что же касается вопроса о том, в чьём именно ведении состоят рабочие на частных фабриках и заводах, то я полагал бы, что они на равных с прочими классами гражданского населения Империи состоят в общем ведении администрации и что компетенция Правительственных учреждений различается вообще по ряду подлежащих предметов, а не по разрядам подведомых им лиц. Нет сомнения, что меры, направленные к развитию промышленности и торговли входят ближайшим образом в круг ведомства Министерства Финансов. Но общие условия быта огромных масс населения не могут быть рассматриваемы только с односторонней точки зрения промышленных интересов. Явления эти принимают нередко как и в данном случае, по отношению к положению рабочего класса характер таких вопросов внутреннего политического благоустройств, от ближайшего и непосредственного попечения коих не может отказаться Министерство Внутренних Дел.
Принимая затем во внимание, что – как ныне можно считать безусловно доказанным, обеспечение рабочих и их семей, будь то путём образования добровольных или же обязательных союзов может во всяком случае получить верную основу лишь на началах страхования, и что рассмотрение всех дел, касающихся страхования, сосредоточено в особом, образованном для сей цели при Министерстве Внутренних Дел учреждении, я не могу не остаться при том убеждении, что и ближайшее исследование вопроса о страховании должно лежать на обязанности вверенного мне Министерства.
С тем вместе сомнительным мне представляется чтобы общие учреждения Министерств при наличных их силах в состоянии были придать данному делу достаточно живое направление. Департаменты Министерств, как Вашему Высокопревосходительству известно, обременены такою массою текущих и экстренных дел, что от них нельзя бы требовать той особой затраты внимания и труда, которую необходимо вызывает собою настоящий, чрезвычайно сложный и важный вопрос. Поэтому учреждение особой комиссии, с ассигнованием средств, достаточных для образования при ней делопроизводства хотя бы в небольшом на первое время составе лиц, представлялось бы по моему мнению, в данном случае особенно уместным и полезным. Уведомляя об изложенном, долгом считаю покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство почтить меня сообщением окончательного Вашего по настоящему делу отзыва» [РГИА Ф.1574 Оп.2 Д.158 Л.2-6].
Стоит только обратиться к подлинным деловым документам правительства, и тут же выясняется, насколько лживые вымыслы о гениальном Витте и ленивом Горемыкине ни к чему не приложимы. Оказывается, именно Горемыкин более всех заботится о благополучии рабочих. Это Горемыкин торопит медлительного Витте, а не наоборот. При этом Горемыкин следует ключевым монархическим принципам: правительственная опека исходит не из какого-то искусственного теоретического утопизма, она не только хочет дать рабочим то что они хотят, но и делает это сообразно с существующим опытом страхования, т.е. с тем, что действительно актуально и эффективно. Важно отметить, что сами предприниматели могли бы заниматься этим, так что вмешательство министерств вызвано отсутствием опережающих действий с их стороны. Хорошо видно, что Горемыкин не пытается свалить на другие министерства ответственные и сложные дела, но и не преувеличивает значения собственного МВД из каких-то личных соображений. Горемыкина беспокоит только правда и польза.
Витте писал, что разделяет соображения Горемыкина, но не считает обязательное страхование наиболее целесообразным, настаивая, что разрешать этот вопрос надо не законодательно, а через частную инициативу. Витте не признавал германский опыт лучшим сравнительно с остальной Европой, затягивал образование межведомственной комиссии и ссылался на начало исследовательских работ внутри его министерства финансов. Сравнение доводов показывает правоту Горемыкина, а не Витте.
Независимые от революционной пропаганды исследования показывают, что МВД заботилось о благополучии рабочих, согласно своим ведомственным задачам, в то время как министерство финансов старалось содействовать развитию промышленности и поддерживать предпринимателей. Нельзя не признать важности обеих задач. Ведомственная конкуренция Горемыкина и Витте помогала определить выверенный баланс направлений. Благодаря чему в 1897 г., «за 20 лет до революции реальная зарплата русского рабочего не отставала от современной советской» [Д.В. Поспеловский «На путях к рабочему праву» Франкфурт-на-Майне: Посев, 1987, с.37].
Парад георгиевских кавалеров 26 ноября Николай II принял в Зимнем дворце в присутствии И.Л. Горемыкина и министров.
29 ноября, после того как в Г. Совете с ним спорил С. Шереметев, И.Л. Горемыкин не пожелал продолжать обсуждение после заседания, обвинив его в личных мотивах полемики: «Вы думаете, что конная стража доставляет мне большое удовольствие» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.255].
30 ноября вечером Горемыкин был у Победоносцева. 2 декабря собирался Комитет Министров.
П.И. Рачковский 4 декабря 1897 г. сообщал И.Л. Горемыкину из Парижа о результатах назначенного наблюдения «за проживающим в Террите доктором Ционом, на предмет установления его сношений с Россией. Почерпнутые этим путём сведения не дали, к сожалению, положительных указаний на лиц, сообщающих ему материалы для его памфлетов. Но есть некоторое основание полагать, что, крое генерала Анненкова, являющегося в данном случае простым посредником, в этом деле несомненно участвуют ещё другие лица, имена которых, по всей вероятности, неизвестны самому Циону». Рачковский передал записку о 6-месячном наблюдении за Ционом, критиком финансовой политики Витте, согласно которой Витте «неоднократно будто бы пытался подкупить» Циона, но безуспешно. Отмечена также «измена Половцова, предавшегося» в пользу Витте. Циону передавали не только правительственные бумаги, но и сведения о «личных особенностях, характере, способах действий и интимной жизни». Критика золотого рубля со стороны Циона сводилась к вымыслам о стремлении Витте разорить дворянство дабы «вызвать экономический кризис, внутренние смуты и антиправительственное движение, во главе которого он мог бы играть впоследствии выдающуюся роль» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.219 Л.1-4].
Черносотенное движение в дальнейшем подхватило эту конспирологию. По тону записки, похоже, ей симпатизирует и Рачковский как противник Витте, не разделяя его стремление к индустриализации, которое действительно входило в некоторые противоречия с выгодами агропромышленников ввиду невозможности построить коммунизм и равно удовлетворить всех. Г.В. Бутми писал об этом 6 мая 1895 г. И.И. Янжулу про землевладельцев: «мы выносим на своих плечах всякие финансовые опыты и их последствия: колебания курса, покровительственные пошлины, запрещение экспорта, потерю заграничных рынков, таможенную войну, синдикаты сахарозаводчиков. Мы выносили и искусственное повышение курса кредитного рубля выше его серебряного эквивалента» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.2 Д.148 Л.2].
Урожай 1895 г. был чуть выше среднего, и землевладельцы много жаловались на обесценение хлеба. Но когда в 1896 г. урожай вышел напротив, ниже среднего, и цены поднялись, это достаточно показало разницу в экономических интересах производителей и потребителей по ценобразованию и доступности продукта. Следовательно, нет необходимости полностью принимать ту или иную сторону, нужно сочетание в соблюдении их интересов.
Достаточно реалистично к этой проблеме подходил правый монархист С.С. Ольденбург 17 января 1912 г., рассматривая её на примере Германской Империи: «в сущности основой деления на партии в значительной мере служит борьба между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством. С.-д. и свободомыслящие всецело становятся на сторону города», «от этого пострадает сельское хозяйство» [СПФ АРАН Ф.887 Оп.2 Д.156 Л.3-4].
Односторонность такой партийной и классовой борьбы является сугубо вредной, поэтому не конструктивно занимать позицию чрезмерного критика С.Ю. Витте и столь же ошибочно не защищать активно аграрный сектор. И.Л. Горемыкин служил в этом плане уравновешивающей силой в качестве защитника интересов крестьянства, помещиков, а также и рабочих на промышленных предприятиях. Политика Императора Николая II умело соединяла оба положительных направления, давая альтернативу разжиганию классовой ненависти.
Положительным монархическим принципам полностью соответствовало желание И.Л. Горемыкина избегать бюджетных трат на содержание органов печати, даже и выгодных власти по взятому правому направлению. 4 декабря министр одобрил представленный ему проект письма к С.Ю. Витте относительно просьбы редактора-издателя газеты «Мировые Отголоски» К.В. Трубникова предоставить ему ссуду в 50 тыс. руб. Витте считал что такая ссуда скорее всего окажется безвозвратной. Поэтому решить, насколько газета заслуживает поддержки правительства Витте предоставил Горемыкину. Последовал ответ: «Признавая принципиально нежелательным и неудобным дарование органам повременной печати правительственных субсидий в виде ссуд или безвозмездных воспособлений я не находил бы соответственным и удовлетворение указанного выше» [РГИА Ф.1282 Оп.1 Д.1083 Л.5].
«Мировые Отголоски» просуществуют ещё до 24 января 1898 г. и закроются. Константин Трубников активно нападал на противников Российской Империи, в т.ч. на толстовство, критиковал А.С. Суворина и «Н. Время». В его финансовой аналитике в пользу золотого рубля имеется и определение масштаба вредного воздействия печати, продвигающей идеи социализма и демократии: «фабрично-книжное громадное предприятие, которое издало уже 341 миллион листов газеты и книжных изданий», «более полутора десятка лет ведёт систематическую и увлекательную для толпы, но трудно уловимую для наблюдательной власти, междустрочную пропаганду односторонних, ложных и превратных экономических и философских учений, делая таким образом тщетною и науку и культуру, и приводя известную часть общества к деморализации, одичанию и гибели» [К.В. Трубников «Преобразование денежной системы» СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1895, с.11].
Отказ монархической власти пускаться в пропагандистскую гонку за сотнями млн. экз., стремление одержать честную политическую победу над левыми партиями не за счёт опасного уподобления им, — вечно актуальный пример верного выбора.
5 декабря обер-прокурор снова весьма критически отозвался о польском наместнике в письме к И.Л. Горемыкину: «дайте себе труд посмотреть эту картину польской интриги, которую отрицает безумный Имеретинский». Победоносцев жаловался что теперь все “сердцем хладные скопцы”. В чём напрасно пытались обвинять его самого. В постоянной воодушевлённой энергичности и активности отстаивания своих идеалов Победоносцеву нельзя отказать.
Победоносцев написал письма министрам Горемыкину и Муравьёву 11 декабря. Второе предостережение получила газета «Сибирь» за передовые статьи. Розничная продажа «Русского Листка» была возобновлена, вернули частные объявления в «Русский Труд» и «Биржевые Ведомости», а журнал «Новое Слово» был закрыт окончательно.
13 декабря 1897 г. Горемыкину прислали просьбу разобраться в причине увольнения властями без предъявления объяснений Ивана Петровича Белоконского из Курской земской управы [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1436 Л.38об.].
В Лондоне 16 декабря был арестован идеолог терроризма В.Л. Бурцев. Ссылаясь на Дорошевича, Бурцев позднее писал, будто «Горемыкин однажды сказал обо мне: Бурцев – мой крестник!». «Это я его засадил в английскую тюрьму!». «По приказу Горемыкина из Петрограда в Лондон был послан начальник заграничного сыска известный Рачковский с целой организацией провокаторов, филеров» [В.Л. Бурцев «Борьба за свободную Россию» СПб.: Изд. имени Н.И. Новикова, 2012, с.106].
Как всегда, В. Бурцев ошибочно именует сотрудников политической полиции провокаторами. Свойственное этому мемуаристу вольное обращение с фактами и его неумение выяснять достоверность используемых сведений известны по множеству примеров.
19 декабря 1897 г. Витте вынужден был предложить Императору Николаю II назначить во главе Особого Совещания по рабочим делам К.П. Победоносцева – лишь бы не Горемыкина.
Вызванный в Гатчину, Победоносцев 20 декабря вёл разговоры о Горемыкине, завтракал у Императрицы. Обратно возвращался с Фредериксом.
23 декабря 1897 г. Император «имел доклады: Ванновского и Горемыкина, после завтрака Витте». Собирался на заседание Комитет Министров.
Последние дни декабря И.Д. Делянов был тяжело болен, К.П. Победоносцев 29 декабря сидел у его постели и смертного одра, на другой день вечером был на панихиде.
1 января 1898 г. Великий Князь Сергей Александрович ходатайствовал о назначении Н.П. Боголепова министром народного просвещения за монархический принцип и твёрдость воли. Либералы ненавидели Н.П. Боголепова за преследование П.Н. Милюкова.
Алексей Игнатьев 5 января 1898 г. передал Горемыкину записку: «согласно желанию Вашему я виделся сегодня с В.К. Плеве и он сказал мне, что ему положительно известно, что Великий Князь ничего не говорил Государю Императору по известному Вам делу».
В 11 ч. 45 м. 7 января И.Л. Горемыкина принимал В.К. Михаил Александрович.
В книге известного петербургского монархиста сообщается, что И.Л. Горемыкин бывал на приёмах у баронессы Варвары Ивановны Икскуль, которую посещали люди искусства и крупные политики. До 1897 г. её салон располагался в особняке на набережной Екатерининского канала, 156. После она переехала в трёхэтажный особняк на Кирочной, 18 [В.В. Антонов «Петербург: вы это знали?» М.: Центрполиграф, 2012, с.198-204].
Баронесса В.И. Икскуль писала романы на французском языке, печаталась в «Северном Вестнике», заступалась за своего знакомого, тесно связанного с террористами «Народной воли» идеолога Н.К. Михайловского, перед высокопоставленными служащими МВД [Э.К. Пименова «Дни минувшие» М.-Л.: Книга, 1929, с.149]. Ходили слухи что она одновременно принимала министра и укрывала разыскиваемого Департаментом Полиции. «С императрицей Александрой Феодоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали её своей» [В.Ф. Ходасевич «Собрание сочинений» М.: Согласие, 1997, Т.4, с.172].
До последних дней отметавшая даже малейшие сомнения в словах Ленина о всесилии коммунистического учения М.В. Нечкина в 1923 г. упоминала о салонной революционности баронессы Икскуль. Коммунистические историки выражают уверенность, что дома у Икскуль «часто» укрывались нелегалы [«История в человеке. Академик М.В. Нечкина. Документальная монография» М.: Новый хронограф, 2011, с.63-64, 96].
Горемыкин устраивал собственные рауты в честь тезоименитства представителей Царской Семьи и благотворительные вечера в пользу жертв неурожаев. В 1898 г. на одном таком вечере у Горемыкина собрались: супруга французского посла графиня де Монтебелло, германский посол князь Радолин, испанский – граф Виллагонзало, итальянский – граф Морра ди Лавриано, заместитель министра внутренних дел Икскуль фон Гильдебрандт, помощник шефа жандармов Пантелеев, туркестанский генерал-губернатор Духовской. Гостей встречала на лестнице Александра Ивановна, супруга министра. Концертную программу исполняли Фигнер, Вержболович, ожидалась Савина, но её карета опрокинулась [Г.В. Андреевский «Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX-ХХ веков» М.: Молодая гвардия, 2009, с.359].
Н.К. Крупская 9 января 1898 г. написала И.Л. Горемыкину просьбу назначить ей место ссылки одно с Лениным и уменьшить срок до 2 лет, когда он кончается у Ленина. По донесению охранного отделения в Департамент Полиции 18 ноября 1898 г. министр, как следует понимать, Горемыкин, пожелал познакомиться с легальным изданием Ленина «Экономические этюды и статьи Владимира Ильина». Ему предоставили 1 экземпляр из жандармского управления. В январе 1900 г. новый министр Сипягин освободил Ленина от надзора полиции, воспретив проживать в столицах. Но уже 10 марта 1900 г. полиция обнаружила незадачливого конспиратора в С.-Петербурге [«Красный Архив», 1934, Т.62, с.123-124, 129, 134].
Комитет Министров собирался 13 января 1898 г.
По предложению градоначальника Клейгельса, поддержанному И.Л. Горемыкиным, 18 января 1898 г. Император выпустил указ о создании конной стражи. Тогда же Горемыкин вечером виделся с Победоносцевым.
До 1895 г. использовались казачьи разъезды от Гвардейских частей, но по ходатайству военных они были отменены. Опыт показал необходимость их восстановления, настолько, что И.Л. Горемыкин мог ручаться за поддержание в столице порядка и спокойствия только при условии учреждения конно-полицейской стражи в предлагаемом им проекте. Штат включал 150 городовых, троих писцов, 30 конюхов. На первоначальное обзаведение отпущено 35649 руб. [И.П. Высоцкий «Санкт-Петербургская столичная полиция и градоначальство» СПб.: Голике и Вильборг, 1903, с.246].
Вл. Гурко назвал защиту И.Л. Горемыкиным этого проекта в Г. Совете самым запоминающимся выступлением в качестве министра. Как обычно, Гурко демагогически приписал Горемыкину либеральный характер речи, поскольку Горемыкин сослался на свои распоряжения, позволившие многим принять участие в чествовании встречи в С.-Петербурге с Императором Николаем II президента Ф. Фора. С каких пор в Царской России массовые приветствия Государя и его зарубежных союзников являются чем-то либеральным – непостижимо. Для того чтобы насадить свою ложную несостоятельную антимонархическую терминологию её поклонники идут на что угодно. Пересказывая дальше И.Л. Горемыкина по памяти, Гурко приписал ему освещение внутренней политики с анекдотической стороны и введение членов Г. Совета в прикровенную высшую политику, что должно было располагать их к себе. «Горемыкин ушёл с заседания под общий хор одобрительных о нём отзывов» [В.И. Гурко «Черты и силуэты прошлого» М.: НЛО, 2000].
20 января 1898 г. снова работал Комитет Министров.
А. Сипягина 22 января 1898 г. попросила кн. Н.И. Святополк-Мирского ходатайствовать перед И.Л. Горемыкиным, «прося его дать место вице-губернатора племяннику моему князю Сергею Дмитриевичу Горчакову». «Мне Пепка Мирский сказал что Горемыкин не отказывает Вам» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1181 Л.133].
Передавая письмо с просьбой, сосед Горемыкина Н.И. Святополк-Мирский был польщён: «на какую высоту я попал благодаря Вашей дружбе: сама Комиссия Прошений обращается ко мне с прошением! От Вас будет зависеть свергнуть меня в тартарары или поддержать мой престиж».
К.П. Победоносцев 26 января ходатайствовал о приёме Лопухина на службу в МВД из Комиссии Сипягина, чиновником для особых поручений 6 класса. «Оболенский знает его».
В качестве важного политического достижения Горемыкина в юбилейном биографическом очерке «LXXV» приводится удешевление губернских страховых операций по закону от 26 января 1898 г.: выплаты населения уменьшились на 450 тыс. руб.
И.Л. Горемыкин вечером 30 января навещал Победоносцева. Они обсуждали Принца Ольденбургского, М.П. Соловьёва и дела печати.
П.С. Ванновский 31 января предлагал назначить полковника Генерального Штаба Дедюлина помощником начальника Штаба Корпуса жандармов, давая ему «блестящую аттестацию» за 15 лет службы: «он умный, образованный, благовоспитанный», усердный и добросовестный. В.А. Дедюлин позже, в 1903 г., возглавит жандармский корпус.
О.Л. Боголепова вспоминала, что её мужа другие министры встретили не очень тепло, Победоносцев беседовал «сухо и несочувственно», а главным врагом оказался С.Ю. Витте. Н.В. Муравьёв был знаком и общался с её братом [«Русский Архив», 1906, Т.122, с.371]. К.П. Победоносцев писал Императору Николаю II 1 февраля 1898 г. о Н.П. Боголепове: «враждебных ему людей я не знаю: по-видимому, он не имеет ни врагов, ни близких друзей. Но все вообще расположенные к нему так говорят о нём: это прекрасный человек, добрый, русский человек, но узкого ума, без инициативы, но с упрямством, замкнутый в себе, не только не имевший общения с людьми, но и избегавший его» [«Религии мира. Ежегодник» М.: Наука, 1983, с.177].
Критические отзывы Победоносцева о других министрах, как всегда, субъективны и не существенны сравнительно с положительными достоинствами, заслужившими признание Царя.
И.И. Янжул вспоминал что К.П. Победоносцев хотя и «желчный старик», т.е. озвучивал чрезмерно резкие высказывания, но в беседе по экономическим вопросам наглядно показал, «какой всё-таки умный и сведущий человек был Победоносцев». Н.П. Боголепова Янжул, много лет с ним взаимодействовавший, звал честным преподавателем, прямолинейным и искренним, чуравшимся выпивки, тосковавшим по России в командировках за рубежом.
В неофициальной переписке Н.П. Боголепова, не предназначенной для посторонних, встречаются его искренние убеждения: «благонравие и благочиние, с обусловленным им смирением и кротостью единственные добродетели, с которыми можно благоденствовать». Такая запись сделана в декабре 1873 г., что особенно поучительно, не с позиции высшего начальника, ещё отсутствующей, а совсем напротив. Эта убеждённость может объяснить карьерные успехи Н.П. Боголепова в Российской Империи и личную приязнь Николая II [СПФ АРАН Ф.45 Оп.2 Д.113 Л.1].
А.Ф. Кони писал 3 марта 1898 г. Н.Я. Гроту: «Я обедал на днях с Боголеповым. Он производит впечатление честного и порядочного человека, — но от многого, что я от него услышал — веет педантизмом» [«Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах» СПб.: Тип. Министерства Путей Сообщения, 1911, с.233].
Самые лучшие мнения выражал о личности Н.П. Боголепова, пока был жив, предыдущий министр народного просвещения граф Делянов: «В.К. Сергей Александрович стоит за назначение Боголепова. Выбор хороший: Боголепов человек твёрдый и прямодушный» [И.П. Хрущов «Памяти графа И.Д. Делянова» СПб.: Тип. М. Акинфеева и И. Леонтьева, 1898, с.46].
Следует учесть что Н.П. Боголепов никогда не отличался угодливостью перед начальством и высказывал критические замечания о мероприятиях власти в тех же письмах за 1873 г. или в более поздних. И.И. Янжул 17 января 1896 г. рассказывал, что в ходе одного университетского скандала Делянову вручили целую пачку писем Боголепова «с резкими отзывами о Министре и вообще о деятельности Мин. Просвещения» [СПФ АРАН Ф.24 Оп.2 Д.127 Л.2об.].
Князь Волконский 2 февраля 1898 г. прислал И.Л. Горемыкину составленную по его поручению Н.П. Барсуковым книгу «Граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский по его письмам, официальным документам» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.519 Л.8об.]. Про историка Н.П. Барсукова монархисты писали, что при знакомстве с его сочинениями «русский юноша» «застрахован от беспочвенности и стал бы верным слугой своего народа» [В.К. Истомин «Николай Платонович Барсуков. Последнее прости» М.: Университетская тип., 1906, с.4].
6 февраля Победоносцев получил от Горемыкина записку об общеобразовательных курсах.
Вечером 12 февраля состоялось собрание с обсуждением языка в Царстве Польском. Были Горемыкин, Победоносцев, Муравьёв, Витте, Аничков, Имеретинский.
24 февраля собирался Комитет Министров.
26 февраля Горемыкин подписал циркуляр по хозяйственному департаменту о том, что должностные лица, получающие прогонные деньги, должны пользоваться при передвижении почтовыми, собственными или наёмными лошадьми, а не бесплатными земскими. Горемыкин указывал также на важность соблюдения точного контроля над ведением открытых листов на пользование такими лошадьми. Приблизительное количество таких листов определял губернский распорядительный комитет. В них указывались данные получателя и время использования в рамках текущего года. Листы сдаются выдающему учреждению после использования, а не востребованные листы в конце года уничтожаются.
К.П. Победоносцев 26 февраля писал о случае перехода вотяков в ислам, хотя ранее И.Л. Горемыкин в разговоре с ним считал: «это невозможно». «Однако из бумаг, которые я получил потом, оказалось, что это последовало. Кто таким образом подал вам такую бумагу?».
2 марта Горемыкин испросил утверждение Николаем II его предложения о даровании женщинам-врачам в Империи прав государственной службы.
Ухтомский 10 марта писал Горемыкину что ободрён «Вашим многократно выражавшимся вниманием ко мне», назвал редактора «Гласности» невменяемым и предложил ознакомиться с номером собственных «С.-Петербургских Ведомостей», о котором судачат, будто он может дать повод «к фанатическим погромам».
К этому времени относится письмо без даты, на бланке начальника Главного управления по делам печати, написанное вполне в духе М.П. Соловьёва с упоминанием взрыва храма в Курском Знаменском монастыре в ночь на 8 марта 1898 г.: «Милостивый государь, барон Александр Александрович! Конечно, статья «Гласности» не могла не обратить моего внимания на себя. Обсудив её, я, однако, пришёл к заключению, что прямых законных оснований для привлечения редактора к ответственности за нарушение какого-либо цензурного закона нет; если не поставить в вину редакции антисемитизм, характеризующий «Гласность» и «Наблюдателя», то это подняло дух у защитников юдаизма, наводняющих нашу, немецкую и французскую периодическую прессу; это значило бы также косвенным образов взять под защиту правительства то прискорбное и опасное влияние, которое евреи оказали на современную жизнь Западной Европы и далее Россию. «Гласность» справедливо указывает, что курское кощунство – сделано людьми, не только ради ограбления, но вместе с тем чуждыми народным верованиям и ненавидящими христианскую православную веру. Наиболее вероятным «Гласность» находит, при современном ослаблении политического нигилистического фанатизма, что виновниками совершённого преступления могут быть евреи, страстная ненависть которых к христианству не подлежит сомнению. Благодаря послаблениям повсеместно в Европе это племя не только нигде не стремится к национальной ассимиляции с туземцами, но напротив, напрягает все силы свои к обособлению в крепкие, национально-замкнутые, автономные группы. Распадение старых начал, очень часто наблюдаемое напр. в Германии, ведёт не к упразднению кагального устройства вообще, а к образованию новых, столь же сильно организованных. Еврейские богатства стали из средства обороны агрессивной политической силой. Alliance Israelite объединил всё еврейство в своеобразный политический союз, вмешивающийся под личиной благотворения во внутренние отношения тех государств, кои Господь Бог испытывает, послав им в сожители массы жидов.
Я не согласен с «Гласностью», что всего вероятнее предположение о совершении курского преступления жидами: они могли быть подстрекателями, они, конечно, явятся укрывателями, но на непосредственное совершение преступления у них не достанет смелости. Пятковский также не обвиняет их прямо, но высказывает возможность совершения преступления каким-нибудь безумцем.
Без сомнения статья «Гласности» вызовет страстный отпор со стороны юдофильской прессы: «Хроники Востока», «Сына Отечества», «Вестника Европы», «Северного Вестника», «С.-Петербургских» и, может быть, «Биржевых Ведомостей». Охотников защищать резкую статью Пятковского явится мало.
В том же № «Гласности» помещена корреспонденция из Одессы, прямо нарушающая недавнее распоряжение Министра о непечатании подробностей о мошенничестве еврейской»… [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1436 Л.93-94].
15 марта 1898 г. в С.-Петербурге Великий Князь Сергей Александрович записал: «был Горемыкин – пропасть дел сдал ему».
К.П. Победоносцев 21 марта приезжал к Горемыкину, и ещё раз 23 марта.
24 марта 1898 г. Николай II «перед докладами имел строгое объяснение с Горемыкиным при Дурново по делам дворянского совещания. Это было необходимо, но чрезвычайно неприятно!». Произошло какое-то исключительное, судя по характеру записи, недопонимание между Царём и Горемыкиным. Совещанием этим заведовал Дмитрий Сипягин, а Государь выразил ему поддержку и желал видеть то же и от министров.
Дневник Я.С. Полякова передаёт этот случай со слов И.Н. Дурново: произошла «ссора с Горемыкиным в присутствии Государя, и что Горемыкин наговорил на Витте и свалил на него». По этой записи получается, И.Н. Дурново не заметил существенного недовольства И.Л. Горемыкиным со стороны Царя. Зато и здесь крылось противостояние со стороны Витте.
Незадолго перед тем в начале марта «Московские Ведомости» выпустили статью в честь рескрипта Императора Николая II на имя И.Н. Дурново, говоря что им теперь окончательно определено государственное положение дворянства, подобно решению 1861 г. о крестьянах: «нет более препон к восстановлению поместного значения дворянства, вне крепостного права, как в своё время не стало препон возвращению государственного значения крестьянского сословия вне крепостной зависимости» [Кн. П. Цертелев «Конец сомнениям» М.: Университетская типография, 1898, с.12].
Как справедливо утверждалось, именно интересы России требуют политического усиления поместного дворянства, чем должно было заняться учреждённое совещание. Земства, будучи монархическим принципом самоуправления, альтернативным демократическому федерализму, служат только техническим механизмом функционального сбора средств на местные нужды. Земский принцип позволяет точнее определить без завышений размеры налогообложения, собираемого на местах. Другое дело дворянский принцип, составляющий иное качественное достоинство монархической системы. Он позволяет не только формировать культурное и нравственное преимущество политической элиты, которой лишены демократии. Поместное дворянство одновременно устраняет угрозу заброшенности окраин и чрезмерного раздувания столичного центра. Поместное дворянство заинтересовано в развитии родного края и прилагает к тому значительные усилия, заметные по совокупности биографических данных И.Л. Горемыкина, Д.С. Сипягина и всех представителей русского правомонархического дворянства. Демократическое представительство отрывает избираемого выскочку от его края, забрасывая в центр, а если и нет, на уровне местных выборов, то избранный голосованиями депутатов в любом случае намного уступает по набору достоинств наследственному дворянству. При демократиях сохраняется система неравенства и даже сословности, понимание которого присутствует в известном выражении что настоящим интеллигентом становятся только в третьем или пятом поколении. Но это неравенство, искажаемое декларируемым ложным эгалитаризмом, либерализмом и избирательными циклами.
Как видно, Император Николай II хорошо понимал политическое значение дворянства для строительства Новой России, имеющей больше благородства, культуры, честности и достоинства, нежели демократические режимы. Монархический принцип получал собственное идеологическое развитие, оставляя прежние формы воплощения и получая более актуальные.
Комитет Министров рассмотрел записку Горемыкина от 25 марта о передаче суммы в 5405 руб., собранной на установление памятника Императору Александру II в Тифлисе на стипендию в Тифлисский Александровский детский приют. Поскольку памятник требовал более значительных средств, капитал передали в кассу Тифлисского губернского попечительства детских приютов [«Вестник благотворительности», 1898, №12, с.3].
К.П. Победоносцев 25 марта 1898 г. принимал Владимира Пуришкевича и затем переслал И.Л. Горемыкину его письмо о том, что «честнейший» отец стал «жертвой интриги правящей греко-еврейской партии, успевшей ввести в заблуждение ревизора господина Савича». В.М. Пуришкевич подал по этому поводу объяснение И.Л. Горемыкину и В.К. Саблеру. Отец Пуришкевича 27 марта собирался прийти на приём к министру внутренних дел [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1103 Л.92].
Современный автор весьма подробной биографии не касается этой истории, упоминая только что его отец состоял непременным членом Бессарабского губернского присутствия, а Владимир Пуришкевич в 1899 г. будет активно заниматься благотворительной помощью пострадавшим от неурожаев [А.А. Иванов «Пламенный реакционер. Владимир Митрофанович Пуришкевич» СПб.: Владимир Даль, 2020, с.27, 41].
31 марта К.П. Победоносцев просил И.Л. Горемыкина «образумить» газету «Русский Труд» С.Ф. Шарапова, т.к. она стала органом «злостных сплетен и по части раскола и от инородцев», теперь там появилась корреспонденция «с Кавказа с жалобами на русификацию Грузии и Грузинской церкви».
За 10 апреля в дневнике Победоносцева есть ещё одна лаконичная пометка о свидании с Горемыкиным.
Победоносцев был и у Государя и в Комитете Министров 14 апреля.
16 апреля Горемыкин подписал циркуляр по департаменту общих дел о приёме пожертвований на устройство училища имени А.Г. Рубинштейна. Им занялось общество во главе с сенатором А.А. Сабуровым, решившим почтить память умершего ревнителя музыкального образования.
МВД 19 апреля дало первое предостережение журналу «Северный Вестник».
20 апреля 1898 г. вышел подготовленный МВД и министерством юстиции закон об учреждении комиссий в Уфе, Перми и Оренбурге для землеустройства и межевания спорных башкирских земель [«Министерство юстиции в первое десятилетие царствования Императора Николая II. 1894-1904» СПб.: Сенатская типография, 1904, с.55].
Вечером 21 апреля встречались Горемыкин и Победоносцев.
Помощник шефа жандармов генерал-лейтенант Пантелеев в 1898 г. предложил изъять фабричную инспекцию из министерства финансов и передать её в МВД и предлагал созвать сведущих лиц, которым бы подчинялись фабриканты для улучшения быта рабочих. 24 апреля 1898 г. Царь повелел рассмотреть записку Победоносцеву, Горемыкину, Витте, министру юстиции, земледелия. 15 июля 1899 г. такое совещание сочло исчерпывающими существующие законы, не нуждающимися в дополнениях для решения указанных задач [«Красный Архив», 1925, Т.11-12, с.14-15].
До 18 ч. вечера был Победоносцев в Комитете Министров 28 апреля.
К этому времени московский генерал-губернатор стал склоняться к необходимости замены Горемыкина. 5 мая в В.К. Сергей Александрович в Царском Селе записал: «Я думаю, что Горемыкин уйдёт – тем лучше. Теперь нужно поставить Муравьёва». Об этом желании Его Высочества стало известно Витте и попало в его заметки. Очевидно, Муравьёв пытался опереться на Витте в претензии на МВД. Это приведёт Муравьёва к опрометчивой борьбе с Горемыкиным на стороне Витте в деле о студенческих беспорядках.
7 мая Великий Князь пишет дальше: «хороший разговор с Муравьёвым – был Горемыкин и Боголепов». «Нам нужен хороший министр внутренних дел – это только Муравьёв». В тот же день Царь принимал Горемыкина. По докладу Горемыкина Император разрешил открыть по всей Империи подписку на учреждение в Ялте при особой 4-х классной прогимназии пансиона для слабых здоровьем учеников. Тогда же Победоносцев составил письмо Горемыкину.
МВД 11 мая запретило розничную продажу «С.-Петербургских Ведомостей» за критику действий тульского губернатора В.К. Шлиппе, поскольку губернатор не может входить в газетную полемику со своими подчинёнными по службе. Б.В. Никольский за такую мотивировку в дневнике обозвал Горемыкина первоклассным хамом. Этот дневник наполнен самыми разнообразными ругательствами в отношении министров и Царя, несправедливо приписывая успехи Николая II только наследию Александра III [Б.В. Никольский «Дневник 1896-1918» СПб.: Д. Буланин, 2015, Т.1, с.104, 181, 659].
Ретроград Никольский оказался на стороне либерала В. Маклакова, который мемуарах пытается представить графа В.А. Бобринского несомненно лояльным власти. Однако в апреле Шлиппе уже выпустил в «Правительственном Вестнике», «Новом Времени» и др. газетах опровержение публикаций Бобринского губернской комиссией. Т.е. он вошёл в полемику. И уже после своего разоблачения властями, якобы лояльный Бобринский опубликовал ответное письмо против Шлиппе в газете Ухтомского. Очевидно, в данном случае прав К.П. Победоносцев, прямо именовавший Бобринского противником власти. Если бы Бобринского заботила польза дела, он подал бы в ведомственном порядке докладную записку с имеющимися в его распоряжении данными. Но получается, что его письмо в газету вызвано желанием разжигать страсти и отомстить губернатору, который на всю Россию выставил Бобринского обманщиком.
Возможно, что помимо Никольского, Бобринскому поверили и другие монархисты, Н. Хвостов 18 апреля 1905 г. напишет такие претензии по тульской губернии: «в эту минуту обе ваши партии мне отвратительны: Шлиппе и Арсеньев – по своей темноте и нечистоплотности, а [Г.Е.] Львов – по сумасбродству, и по своей солидарности с 3 элементом, т.е. с анархистами. Ведь ваша либеральная партия идёт заодно с жидами, докторами и адвокатами, требует конституции по западному образцу, всеобщей подачи голосов и равноправности женского пола. По взглядам всякому здравомыслящему человеку Шлиппе и Арсеньев ближе, но претит их подлость и всякие злоупотребления; противники же их принадлежат к категории буйных сумасшедших» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1979 Л.13].
История Клопова показала насколько ожесточённой была борьба либералов с В.К. Шлиппе. Интересны в связи с сомнительными обвинениями в “темноте” вполне справедливые критические суждения тульского губернатора в адрес пантеистической интеллигенции: «заражённый либеральными идеями педагогический персонал не может дать ребёнку положительных начал. Очень часто среди учащих встречаются проникнутые даже социально-революционными воззрениями, не говоря уже о равнодушии в религии» [Е.К. Сысоева «Школа в России. XVIII – начало ХХ вв.: власть и общество» М.: Новый хронограф, 2015, с.391].
В разгар противостояния И.Л. Горемыкина с Г. Думой в мае 1906 г. левая газета «Страна» вспомнила про 1898 г. для возведения на Ивана Логгиновича множества клеветнических измышлений. Повторялось, будто он старался замять факт голода во многихгуберниях. Газетчики сочинили, якобы Горемыкин был уволен в результате расследования А.А. Клопова, произведённому по желанию Государя и инициативе одного из Великих Князей (намёк на Александра Михайловича). Будто бы, несмотря на окружение Клопова тайными полицейскими агентами, тот выполнил поручение Императора.
В ход шли бесконечные пропагандистские спекуляции. Хронологически и логически уход из МВД никак не связан с командировкой Клопова. Император Николай II продолжал полностью доверять Горемыкину, которого никто не ловил на обмане. Более того, задача которую выполнял Клопов полностью соответствовала министерским распоряжениям Горемыкина, который преследовал ровно те же цели, что и Николай II, отправивший Клопова.
В апреле 1898 г. призывы к помощи пострадавшим от неурожаев печатались в «Новом Времени» и «С.-Петербургских Ведомостях». Другое дело, что тульский губернатор Шлиппе по рапорту врачебного инспектора в «Правительственном Вестнике» опроверг преувеличения, допущенные в статьях графа В.А. Бобринского о продовольственной нужде, а присланные Вольно-Экономическим Обществом студенты приказом Горемыкина от 18 мая были водворены обратно в столицу. Благотворительной помощью вместо студентов занялся представитель Красного Креста князь Пётр Волконский, к нему присоединился граф Бобринский [«История Петербурга», 2004, №1, с.18-19]. По отзыву Горемыкина главному управлению РОКК, помощь со стороны общества населению губерний, пострадавших от неурожая 1897 г. признавалась весьма желательной. Такими губерниями считали Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Ставропольскую, Тамбовскую и Тульскую [«Томские губернские ведомости», 1898, 30 апреля, №17].
В различных областях сильные климатические катастрофы, даже более угрожающие по потерям урожая чем в 1891-м, наблюдались и в 1898-м, но со сравнительно узкими районами по площади. Уровень хлебных цен остался низок. Выезжавший во все такие места министр А.С. Ермолов не только оказывал прямую помощь крестьянству, но и обеспечивал им дополнительные денежные поступления через организацию общественных работ в лесном хозяйстве. Это лучший тип благотворительности, поскольку приводит к всесторонним положительным последствиям без увеличения налоговых нагрузок [«Всеподданнейший доклад министра земледелия и государственных имуществ по поездке в Сибирь летом 1898 г.» СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1899, с.3-4].
Имеется масса министерских бумаг, связанных с помощью, оказанной по распоряжениям министра разным губерниям. К примеру, в подписанном И.Л. Горемыкиным письме Таврическому губернатору сообщалось: «неурожай вызывает необходимость значительных на эту губернию ассигнований из средств общего по Империи продовольственного капитала». «Не сомневаюсь, что Ваше Превосходительство приложите все усилия к правильному удовлетворению продовольственной и семенной потребностей сельских обывателей». Министр предписывал обеспечить «целесообразное употребление земскими учреждениями отпускаемых на этот предмет Правительством средств», также рекомендуя помогать нуждающимся путём «организации общественных работ по дорожной части» и устройством частной благотворительной помощи, т.е. Горемыкиным перечислялись самые разнообразные методы действия, все какие только существовали. Характерно, что Горемыкин одновременно желал чтобы ему предоставляли «новый способ проверки проверки сведений по сему вопросу, поступающих непосредственно в означенное Министерство от подведомственных ему органов», что давало бы МВД «возможность, в случае надобности, безотлагательно принимать меры к оказанию уполномоченным общества Красного Креста надлежащего содействия со стороны чинов местной администрации» [РГИА Ф.1282 Оп.1 Д.1083 Л.15].
Подлинные причины нападок на И.Л. Горемыкина вполне выясняются из этих фактических распоряжений. Не было никакого замалчивания случаев реального неурожая или помех какому бы то ни было из типов оказания помощи крестьянам. Однако ложные сведения о голоде распространялись регулярно, и в МВД, по заданию Горемыкина, систематически выявляли и гласно опровергали частые ложные спекуляции демократов на мнимом голоде.
Даже самые нелепые заграничные клеветнические издания о Царской Семье, которые А.И. Куприн звал низкопробным крошевом для свиней, прошли мимо такой сплетни и не связали Клопова с увольнением Горемыкина. Из живописных подробностей там воспроизвели наличие у Клопова открытого листа, подписанного дворцовым комендантом, и то что на исследование неурожаев Клоповым безуспешно пытались влиять земцы, враждебные губернаторам [Современник «Николай II. Разоблачения. С тайными документами и речами царя» Берлин, 1914, с.195].
Согласно воспоминаниям брата вышеупомянутого Петра Волконского, прикосновенного к этой истории, миссия Клопова датируется годом ранее, летом 1897 г. Клопову поручили в неофициальном порядке проверить достоверность донесений местной администрации. Сотрудником Клопова тогда и состоял П.М. Волконский. Либеральные газетчики в 1906 г. переврали факты, включая вымышленных агентов МВД. Пётр Волконский снова отправился в Тульскую губернию в ноябре 1898 г., без Клопова.
Согласно опубликованному в 1923 г. в Берлине рассказу Сергея Волконского, ни его брат, ни ранее Клопов не делали никаких разоблачений И.Л. Горемыкина и решительно ни в чём ему не противостояли. Либеральные силы тогда боролись с губернатором Шлиппе. В случае с Клоповым, фактом независимой ревизии был возмущён министр юстиции Н.В. Муравьёв, сказавший «что нужно быть таким… (не повторяю) как Горемыкин, чтобы не подать в отставку». Витте грозил: «пусть только сунется в моё ведомство». Возмущались миссией Клопова дома у Д.С. Сипягина и его супруги.
Следует отметить, что сторонники Муравьёва и Сипягина желали видеть их в кресле Горемыкина, а Витте рад использовать любой повод для критики Горемыкина. Но у Горемыкина не было причин бояться ревизии. Выраженное будто бы Горемыкиным Куропаткину недовольство Клоповым 12 ноября 1898 г. показывает опасение министра, что отправку Клопова могут со стороны злонамеренно воспринять как знак недоверия Царя МВД, т.к. Клопов, по записи Куропаткина, действовал «секретно он Горемыкина». На самом же деле факт независимой проверки должен по замыслу Николая II целиком опровергнуть распространяемые лживой пропагандой обвинения по адресу МВД.
Петру Волконскому, посланному по личному указу Императрицы Марии Фёдоровны, противостоял не Горемыкин, а православные монархисты, против которых изрыгает яд в мемуарах Сергей Волконский, враг «смешения принципов патриотизма и православия, политической благонадёжности и церковной обрядности», отозвавшийся неодобрительно о Н.П. Боголепове, Д.С. Сипягине, В.П. Мещерском. Монархисты прислали Горемыкину в МВД 47 доносов, а тульский губернатор Шлиппе потребовал отозвать Петра Волконского. «Горемыкин внемлет просьбе Шлиппе, настаивает на отозвании брата» [С.М. Волконский «Мои воспоминания» М.: Захаров, 2004, Т.2, с.88-95].
Критика православными монархистами П.М. Волконского, можно подозревать, во многом справедлива, но для биографии И.Л. Горемыкина важнее установить ложь устойчивого мифа о том, будто министра изобличили ревизии Клопова и Волконского. Это полностью не соответствует реальности.
Несколько позже, в 1927 г. в Париже вышли воспоминания Владимира Гурко, где подтверждается, что Государь отправил Клопова с личным заданием. Гурко пишет, что Николай II выдал Клопову 300 руб. и записку с требованием исполнять его требования. По документальным данным, с июня 1898 г. Клопов израсходовал за полгода 7 тыс. руб.
Гурко связывает расследование Клопова с недородом. Сергей Волконский называет его задачу выяснением ситуации «об экономическом состоянии». Гурко пишет, будто одиночке Клопову за недостатком средств потребовалось удостоверение для бесплатного проезда «по всем железным дорогам России», а в Туле была лишь первая остановка. В действительности Клопов проехал несколько губерний. Тульская история сопоставления сообщений либеральной части тульского земства с официальными донесениями властей оказалась более громкая. Там Клопова сопровождал П.М. Волконский и ещё несколько лиц, о чём Гурко умалчивает, не имея представления о том как всё обстояло на самом деле. Итак, согласно сплетням, какие запомнил Гурко, местные власти в Туле сразу доложили Горемыкину о приезде Клопова. Министр объяснил Императору «бесцельность и совершенную невозможность командировок безответственных лиц», и Клопова отозвали обратно в С.-Петербург [В.И. Гурко «Царь и Царица» М.: Вече, 2008, с.172].
Как и вся книга Владимира Гурко, эта зарисовка намалёвана крайне грубо, примерно как упоминание, будто в 1916 г. Горемыкина уволили в ноябре – Гурко ошибся месяцев так на десять. С.М. Волконский не подтверждает, будто Клопову не удалось исполнить свою задачу. Никто Клопова обратно не отсылал. И что интересно, несмотря на все старания либералов, ревизия Клопова закончилась тем что губернатор Шлиппе, поддерживаемый правыми монархистами, получил орден. А Император Николай II затем ценил И.Л. Горемыкина «едва ли не более всех остальных своих сотрудников», – случай, когда Владимир Гурко в мемуарах вполне прав.
8 февраля 1898 г. А.В. Богданович записала у себя легенду совершенно противоположного толка, будто бы не какие-то земские либералы, а их противник губернатор Шлиппе хотел рассказать министру истинную правду о голоде, но И.Л. Горемыкин не стал его слушать. Несогласованность лжецов привела к взаимному опровержению обоих вымыслов.
Писавший на немецком языке эмигрант к 300 рублей Гурко нафантазировал, будто Клопов «изъездил всю Россию, осушая слёзы вдов и освобождая пленников», «назначая пенсии» [M. Essad-Bey «Nicholas II. Prisoner of the Purple» London, 1936. P.72-73].
Другой из наихудших биографов Императора Николая II, С.Л. Фирсов нисколько не разобравшись в этой истории, повторил разом все ошибки Гурко. Незадачливый компилятор, ничего не понимая в сути Самодержавной системы, постоянно обвиняет Царя в неверных действиях, приписывая им негативные последствия. Каждый раз это результат некритического отношения к источникам [С.Л. Фирсов «Николай II. Пленник самодержавия» М.: Молодая гвардия, 2010, с.187].
Особенно смешно утверждение, будто ревизоры, которых всегда не любят чиновники, бесцельны и бесполезны.
Зверски переврал историю отношений Царя с Клоповым идеолог террористов Виктор Чернов. Ссылаясь на анонимного сенатора, В.М. Чернов писал про Царя: «из министров он слушается того, кто с ним груб, кричит на него – Николай очень труслив, его легко запугать. Витте был с ним развязен и бесцеремонен, и Николай долго его слушался, но ещё грубее был Плеве» [Ю. Гарденин «Юбилей Николая Последнего. 1894-1904» Тип. ПСР, 1905, с.6-7].
Сравнительно с этим потоком дезинформации, непосредственный свидетель, сын Льва Толстого раскрывает суть дела, что в Чернском уезде Тульской губернии представители поддерживаемой им либеральной партии, назло монархистам, «стали пересаливать в противоположную сторону», делая недопустимо преувеличенные искажения правды. 2 либеральных земских начальника отправляли донесения, настолько расходящиеся со сведениями от 3 земских начальников – монархистов, что создавалась непонятная пестрота противоречий о полном недороде или отличном урожае в разных частях одного уезда [И.Л. Толстой «Мои воспоминания» М.: Художественная литература, 1969, с.227, 271].
Тем самым подтверждается полная актуальность направления Императором Николаем II Клопова, и адекватность распоряжений Горемыкина проверять сведения о неурожаях. Илья Толстой также утверждает, что отправлял Горемыкину телеграмму в защиту открытых им 12 благотворительных столовых и тем самым, он предполагает, удалось «спасти» их. Хотя угроза закрытия столовых со стороны полиции была связана не с запрещением раздач провизии, а с деятельностью приезжих из Москвы, о них И.Л. Толстой кратенько упоминает. И конкретно с пропагандистской работой, о которой совсем умалчивает.
Сопоставить безумную революционную и либеральную пропаганду о Клопове следует с более вдумчивым подходом и делением на правых и виноватых. В бумагах К.П. Победоносцева есть не датированный отрывок из обращения к Императору: «с нынешнего лета стал появляться в разных губерниях некто, именем Клопов, в компании нескольких молодых людей, ославленных социалистами или так называемыми народниками. Не обращаясь к существующим на месте властям, эти люди прикрываются именем вашего величества и в случае нужды показывают какую-то бумагу, приводящую всех в недоумение. Никто не смеет их останавливать или воздерживать в их отношениях с народом. В особенности производит соблазн поведение их в тульской губернии, где по-видимому сосредоточили они свою странную деятельность. На тульскую губернию по поводу толков о голоде, обратилась в последнее время агитация, или безумная или неблагонамеренная, и сектантов и так называемых народников, — здесь гибельный для России очаг деятельности графа Льва Толстого. И тут к г. Клопову примкнули недовольные местные элементы – известный агитатор Писарев, молодой князь Волконский, Бобринский и, к сожалению, князь Ухтомский… Все эти господа ездят в Ясную Поляну к Толстому; в Туле составляют в гостинице какие-то тайные совещания при закрытых дверях». Победоносцев опасался соединения имён Государя и Толстого[РГИА Ф.1574 Оп.2 Д.244 Л.20-21].
Итак, Клопова не остановили в Туле, он успел побывать во многих местах. Следует разделить положительные задачи ревизии Клопова и то как его именем пытались прикрыться либералы и толстовцы для сведения счётов с монархистами, в т.ч. с губернатором В.К. Шлиппе и вице-губернатором И.М. Леонтьевым. К группе фрондирующих тульских земцев тогда примыкал не кто иной как князь Г.Е. Львов, избранный в 1900 г. председателем Тульской земской управы. В 1916 г. он попытается поддержать заговорщика М.В. Алексеева, подсылая Императору письма Клопова, настраивающие против Б.В. Штюрмера.
Отвечая Царю на перечисленные претензии в свой адрес, в июле 1899 г. Клопов вспоминал что пресловутую бумагу, свой единственный документ, он показывал «крайне редко (всего 8-10 раз)», а «либерализм», «Толстой» «тут были не при чём». Однако содержание совокупности писем Клопова разоблачает тождество его с либералами, т.к. именно их взгляды Клопов прямо повторяет когда пишет о желании «освобождения» «от ига людей 20 числа», про «проклятое чиновничество и холодный формализм». Отсюда и претензии И.Л. Горемыкина, по записи Куропаткина, к Клопову: «мутит всех» «заодно с Львом Толстым» [«Тайный советник Императора» СПб.: Петербург-XXI век, 2002, с.9,48,80].
Все позиции становятся ясны: министры справедливо ругали Клопова за его дурные взгляды, но для разоблачения системы лжи либералов Николаю II нужен был для ревизии именно такой человек. Проверка фактов сторонником бюрократии левыми противниками Монархии не принималась бы во внимание. В результате проверки Клопова Николай II убедился, что Горемыкин самый надёжный политик, на которого можно опереться в 1906 г., в наиболее угрожающий Монархии революционный подъём. Царь остался с Горемыкиным, а не с Клоповым, который себя дискредитировал в глазах Николая II.
Полное несоответствие взглядов Царя и Клопова прослеживается по всем данным их переписки. Это расхождение отметил граф П.А. Гейден в письме от 7 июня 1906 г. про встречу с Клоповым: «помнишь тот, который ездил по поручению Государя проверять Горемыкина во время голода. Он, оказывается, и теперь пишет Царю, но без особого результата» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1982 Л.52].
Проверить состояние Тульской губернии можно по нескольким показателям, наиболее наглядный из которых тот, что за 1897 год в ней умерло меньше жителей, чем за предшествующий на 648 человек. Увеличение смертности произошло в 7 уездах из 12, включая Чернский (на 45 чел.). Алексинский (51), Белевский (92), Тульский (121), Одоевский (126), Веневский (263) и Крапивенский (319). Однако нет оснований утверждать, что такое колебание связано с голодом, а не с другими факторами, поскольку на 245 чел. смертность увеличилась и в городе Туле, насчёт которого никак нельзя сказать, что её могли вызвать сельские неурожаи. В целом же по всем уездам смертность оказалась ниже прежней настолько, что перекрыла перечисленное на 648. Другой самый существенный показатель, рождаемость, показал снижение сравнительно с прошлым годом на 1335 чел. Но и тут можно отметить, что упомянутые Чернский и Одоевский уезды не показали снижения рождаемости. Общее же превышение рождаемости над смертностью в Тульской губернии составило 24245 чел. [«Обзор Тульской губернии за 1897 год» Тула, 1898, с.2].
В случаях, когда мы сталкиваемся с настоящим голодом, как в 1933 г. в Уральской области, доходит до того, что смертность превышает рождаемость [А.В. Сушков «Империя товарища Кабакова: уральская партноменклатура в 1930-е годы» Екатеринбург, 2019, с.80]. Не видим мы в деле Клопова и никаких свидетельских показаний, которые бессчисленны по социалистическому голодомору в спецсводках ОГПУ о контрреволюционных настроениях: «В СССР коммунисты не дают возможности жить… Отбирают всё до основания, затем сажают в тюрьмы и морят голодом до смерти» [«1929: «Великий перелом» и его последствия» М.: РОССПЭН, 2020, с.158].
ОГПУ в те годы поэтому расшифровывали: «О, Господи! Помоги убежать!» [В.Л. Янин «О себе и других» СПб.: Нестор-История, 2021, с.13]. Поэтому многие жители СССР, как и белоэмигранты, рассчитывали на иностранную интервенцию против большевизма, но западные демократии сделают всё чтобы спасти сталинизм и обеспечить дальнейшее истребление русских красными. Кроме как на Императора Николая II и монархическую власть, жителям России в борьбе с революционерами рассчитывать было не на кого.
Официальное приложение к Всеподданнейшему отчёту Тульского губернатора сообщает о произошедшем весной высыхании почв из-за сильных ветров и последующей жары. Озимая рожь в Чернском уезде показала уровень урожайности 3,5 при среднем по губернии 2,7 (в Крапивенском уезде 2,7; в Веневском 1,9). Тем самым урожай ржи оказался в половину хуже, чем в 1896 г. Помощь крестьянам была оказана из правительственных запасных магазинов, из них за год было выдано в ссуду 47750 четвертей озимого хлеба и 24484 четвертей ярового.
По другим показателям, из-за неурожая сократился торговый оборот ярмарок на 39310 руб., закрылась одна в Веневском уезде. Но в Крапивенском и Алексинском уезде обороты ярмарок не изменились, а в Тульском и Одоевском уездах продажи даже повысились, а значительно сократились в других уездах, где статистика не показывает рост смертности.
Численность голов скота уменьшилась на 202716 при итоговой вполне существенной сумме в 1192538 голов. Опять-таки, самое заметное уменьшение поголовья, на 50 тыс., произошло в Епифанском уезде, где не отмечено увеличение смертности. В Крапивенском уезде – снижение на 22 тыс. голов.
Перечисленное разнообразие доступных источников питания не позволяет говорить о состоянии голода и какой-либо вызванной ею смертности. Таковая совершенно отсутствовала.
Смертность в тульской губернии была одна из самых высоких в Российской Империи по данным за все предыдущие 25 лет до 1898 г., 40 смертей в год на 1000 чел. Следовательно, она не связана с политикой Шлиппе и событиями 1897-98 г. Смертность накапливалась за счёт болезней в детском возрасте, особенно до 5 лет. По периодам года возрастание смертности статистика показывала на время земледельческих работ июля-августа, что исключает возможность смертности от голода, иначе такой рост приходился бы на зиму-начало весны с исчерпанием запасов провизии [«Россия. Энциклопедический словарь» Л.: Лениздат, 1991, с.99-103].
По совокупности обстоятельств, также не зависящих от Горемыкина или Шлиппе, Тульская губерния по своему состоянию относилась к наименее благополучным. На что указывает не датированное письмо Нины Вернадской А.С. Зарудному, написанное значительно позже 1898 г.: «Тверская губ. вообще и культурой своей и природой по сравнению с нашей, Тульской, кажется совсем другой страной. Кажется, что Тульская достигнет такой культуры лет через 15» [РГИА Ф.857 Оп.1 Д.224 Л.56об.].
При повторении неурожая в 1898 г. Горемыкин действовал по уже отработанной системе поддержки крестьян, только вместо собственного накопленного капитала пришлось истребовать на те же нужды 34 млн. руб. от министерства финансов. 7 млн. р. было роздано крестьянам деньгами и 7 млн. пудов хлебом. Дополнительную помощь оказали Красный Крест и частная благотворительность. Затем, весной и летом 1899 г. МВД Горемыкина раздало крестьянам более 67 тыс. голов степных лошадей.
П.С. Ванновский, ссылаясь на практику избрания губернаторов из числа военных генералов рекомендовал в кандидаты генерал-майора Э.В. Экка, начальника штаба 7 корпуса. «Ему 47 лет, он образован, хорошо воспитан, вежлив, очень умеет владеть собою». И.Л. Горемыкин не воспользовался и этой рекомендацией.
Эдуард Экк продолжил чисто военную карьеру, был превосходным монархистом, участником Белого Движения. В воспоминаниях Экк хорошо напишет об удивительной доброте Императора Николая II [Э.В. Экк «От Русско-турецкой до Мировой войны» М.: Кучково поле, 2014].
14 мая 1898 г. после Ботанического сада Победоносцев был у Горемыкина.
Несмотря на отказы И.Л. Горемыкина, П.С. Ванновский продолжал предлагать новые ходатайства о назначениях и напоминать о прежних своих предложениях.
Комитет Министров заседал 19 мая.
Горемыкин и Победоносцев встречались 22 мая.
27 мая Горемыкин, Муравьёв и Победоносцев постановили прекратить издание в Тифлисе газеты на армянском языке «Ардзаганг».
Николай II позволил правительству образовать Особое совещание для выявления необходимого изменения в сельском законодательстве.
30 мая МВД дал возобновить издание газеты «Русский Труд», запретил розничную продажу «Биржевых Ведомостей» и «Петербургской Газеты».
2 июня собирался Комитет Министров.
Предложения А.П. Игнатьева Горемыкину легли в основу закона 8 июня 1898 г., получившего название «Временное положение о крестьянских начальниках». По новому закону самоуправления инородцев заменялись управами русского типа. Крестьянские начальники получили широкие полномочия и должны были поддерживать нравственное состояние сельского общества [«Сибирь в составе Российской империи» М.: Новое литературное обозрение, 2007, с.237].
Также 8 июня было принято положение о промысловом налоге, по которому для занятия торгово-промышленной деятельностью теперь выдавались свидетельства на юридическое лицо, а не на физическое. Тем самым принадлежность к купеческому сословию и номерным гильдиям теперь приобреталась только для общественного статуса [«Енисейское купечество в лицах (XVIII – начало ХХ в.)» Новосибирск: СО РАН, 2012, с.24].
Чем вновь показывалось отличие сословного принципа профессиональной наследственности от кастовой замкнутости. И прежде в купеческое сословие поступали главным образом разбогатевшие крестьяне.
17 июня циркуляр Горемыкина губернаторам предлагал «предпринимать самые решительные меры к предотвращению и подавлению каких-либо насильственных действий со стороны сельского населения и всех виновных в самоуправстве и насилии привлекать немедленно к ответственности». Предотвращение предполагалось через «особое наблюдение» за сельскими адвокатами, пришлыми людьми, высланными агитаторами и прочими потенциальными революционными провокаторами [«Крестьянское движение в России. 1901-1904» М.: Наука, 1998, с.236].
Брехливая революционная печать изображала этот циркуляр И.Л. Горемыкина №4894, направленный на предотвращение «бесчинства», погромов «хозяйственных и даже жилых построек» как нечто предосудительное, направленное во вред крестьянам [«О преступлениях против собственности частных лиц» СПб.: Издание неофициальное, 1899, с.3-4].
23 июня МВД остановило на месяц издание газеты «Бессарабец» П.А. Крушевана, а «Петербургскую Газету» вернуло к розничной продаже.
На докладе о бывших греко-униатах Николай II 2 июля 1898 г. начертал резолюцию: «надеюсь что эти правила удовлетворят всем справедливым требованиям и предотвратят всякую смуту, рассеиваемую в народе врагами России». Правила признавали бывших греко-униатов православными, за исключением происходящих от родителей-католиков [Архиепископ Никанор (Каменский) «Собрание сочинений» Казань: Тип. Императорского Университета, 1909, с.606].
И.Л. Горемыкин с К.П. Победоносцевым ездил в Петергоф к Императору и обеим Царицам. Был завтрак с Государем, который показывал Великих Княжон Ольгу и Татьяну. Делали фотографии.
15 июля на даче Горемыкина прошло совещание с участием Победоносцева, Ермолова, Витте, Трепова, Астафьева.
17 июля во время пребывания Румынского Короля в С.-Петербурге Горемыкин был на завтраке в румынском посольстве, а затем представил Королю депутацию от города в Зимнем дворце. Наследному принцу городской голова преподнёс серебряный кубок с гербом столицы. После приёма они отбыли на яхту «Александрия».
М.И. Горемыкин из Берлина 19 июля прислал матери ценную мысль: «проклятый самоанализ, копание и выкапывание в самом себе – вот наша болезнь. Я тоже был такой, но вовремя остановился» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1511 Л.8об.].
О. Иоанн Кронштадтский 23 июля 1898 г. писал И.Л. Горемыкину, прося содействия в построении Воронцовского Благовещенского монастыря в Холмском уезде Псковской губернии после полученного одобрения общины Св. Синодом: «осмеливаюсь покорнейше просить Вас ускорить утверждением Вашим этого дела, близкого мне». Это письмо сохранилось в личном фонде И.Л. Горемыкина, а не в министерском [Протоиерей Иоанн Орнатский «Воспоминания о Кронштадском пастыре» М.: Отчий дом, 2013, с.359].
30 июля 1898 г. Горемыкин писал Витте насчёт необходимости увеличить бюджеты городов за счёт передачи им государственного квартирного налога. Витте отвечал, что неэффективность городских дум вызвана их некомпетентностью. Витте соглашался передать 3 млн. руб. в пользу городов, если Горемыкин признает выплачивающих его квартиронанимателями и даст им избирательное право [Е. Берар «Империя и город. Николай II, «Мир искусства» и городская дума» М.: Новое литературное обозрение, 2016, с.131].
Циркулярная нота 12 августа об инициативе разоружения со стороны Императора Николая II вызвала заграничные восторги, провинциальные одобрительные «толки даже у нас в народе», но либеральной интеллигенцией была встречена равнодушно [«К делу умиротворения, возбуждаемому нотою 12 августа 1898 года» Воронеж, 1899, с.3].
Сибирский железнодорожный путь 16 августа был доведён до Иркутска, и по этому случаю генерал-губернатор передавал поздравление Государю.
В Москве после парада гвардии и гренадеров в 16 ч. Император дал обед волостным старшинам, нижним чинам, имеющим военные ордена и представителей инородцев. В начале обеда Их Величеств встречали Горемыкин, военный министр и московский предводитель дворянства. Император беседовал со старшинами и георгиевскими кавалерами. Парадный обед состоялся в Георгиевском зале.
К.П. Победоносцев отметил чудную обедню в Успенском соборе и «общее восторженное впечатление». Насколько можно разобрать рукопись его дневника, в Москву ездила и супруга Горемыкина.
На другой день, 17 августа вечером был банкет у Великого Князя Сергея Александровича. В его дневнике есть запись о встрече с И.Л. Горемыкиным 19 августа.
Летом 1898 г. в Казанской губернии стояла жара и почти все 3 месяца не было дождей. Недород хлеба, трав и овощей ударил по благосостоянию крестьян и священников. «На Правительство легла большая забота о прокормлении голодавшего народа». Свои усилия направили и церковные иерархи [Леонид Багрецов «Очерк архипастырской деятельности высокопреосвященного Арсения (Брянцева)» Харьков, 1905, с.398]. Для выяснения нужд населения в распоряжение Красного Креста 2 ноября 1898 г. на один месяц был отправлен подъесаул П.Н. Краснов [С.В. Зверев «Генерал Краснов. Как стать генералом» Ростов-на-Дону: Феникс, 2013, с.74].
9 сентября К.П. Победоносцев в письме к Витте обвинял земских служащих в безнравственности и безответственности, вредному влиянию на ход хозяйственных операций.
Вице-директор Хозяйственного департамента С.Г. Щегловитов, брат будущего министра, 20 сентября представил справку о мерах развития дорожных работ «в неурожайных губерниях согласно преподанных Вами указаниям. К сожалению, Министерство Финансов, отпустив до 30 миллионов на продовольственные нужды, затруднилось отпускать кредиты на выдачу дорожных ссуд пока не последует разрешение в законодательном порядке испрашиваемого этим министерством общего кредита на эту надобность по смете будущего года. Следует надеяться, что земства обойдутся в этом отношении наличными средствами дорожных капиталов до упомянутых ассигнований». Подготовленный С.Г. Щегловитовым отчёт по МВД давал И.Л. Горемыкину «свод руководимой Вами деятельности по усовершенствованию дорожного дела» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1416 Л.1].
29 сентября было заседание Комитета Министров. Относительно беседы у Горемыкина есть пометка Победоносцева: «о Левашове».
1 октября газеты передали, что Горемыкин лично отправился в неурожайные губернии с целью точного выяснения размеров необходимой помощи. В маршруте были обозначены после Нижнего Новгорода путь на пароходе в Казань, Симбирск, Самару и Уфу.
Об этом же сообщал И.Л. Горемыкин в письме к С.Ю. Витте: «Я вполне разделяю высказанное Вами» в письме от 1 октября «мнение о настоятельной необходимости особо осмотрительного и осторожного расходования» средств «продовольственного капитала». Горемыкин соглашался с Витте, что требования новых ассигнований поставят министерство финансов в затруднительное положение. Поэтому в перечисленных 4 городах Горемыкин счёл нужным «лично произвести» «тщательную проверку продовольственных и семенных потребностей наиболее пострадавших в текущем году от неурожая губерний». «Мною вместе с тем было разъяснено губернским начальствам и представителям земств губерний Казанской, Вятской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Уфимской и Пермской что продовольственные ссуды могут быть выдаваемы только нуждающимся лицам нерабочего возраста, а способным к труду крестьянам лишь в исключительных случаях, при условии полной невозможности для них найти средства к пропитанию путём заработка». Там же на местах Горемыкин рекомендовал сократить площади посева овса для замены его хлебами, «в особенности просом», а такжепродать запасы овса из сельских запасных магазинов для приобретения «яровых семян». Произведённые уже траты из общего продовольственного капитала Горемыкин определил в 3 952 тыс. руб. «Необходимо отпустить на продовольствие населения до мая месяца будущего года 14 235 00 пуд. хлеба и на яровой посев не менее 12 500 000 п. зерна всего на сумму 22 600 000 рублей принимая стоимость ржи с доставкой на складочные пункты в 80 к. за пуд и яровых семян (овса, пшеницы, гороха, проса) в 90 к. за пуд. Затем, в тех же семи губерниях на расходы по гужевой перевозке хлеба» следовало отнести до 2 млн. руб.Дополнительно «по губерниям Рязанской, Орловской, Тульской, Нижегородской и Иркутской, по собранным мною сведениям, потребуется до 2 200 000 рублей». Из всей суммы МВД на расходы по неурожаю, от 31,7 млн. руб. к осени следующего года должно будет остаться до 1 млн. руб. [РГИА Ф.1282 Оп.1 Д.1083 Л.6-9].
Огромный размер помощи крестьянам, оказанной при прямом участии И.Л. Горемыкина, дошёл до максимума из имевшихся в распоряжении МВД возможностей. Следует отметить, что преждевременные растраты продовольственного запаса в 1897 г., когда неурожай только едва начинался, по преувеличенным требованиям либералов типа Пешехонова и Бобринского, привели бы к недостатку актуальной поддержки в 1898-м. Бдительным отпором нанесение крестьянам такого урона Горемыкин своевременно предотвратил. Тем более важно было и в 1898-м максимально точно распредилить продовольственную помощь, чтобы её хватило на нуждающихся. Горемыкин лично занялся ровно тем же, что ранее было поручено Клопову, только имея возможность действовать более результативно благодаря министерским полномочиям.
В связи с этим Горемыкин, видимо, должен был отсутствовать на заседании Комитета Министров 6 и 13 октября.
В октябре 1898 г. Николай II решил образовать совещание для упорядочения крестьянского дела и подготовительную комиссию при нём. С.Ю. Витте в письме Государю приводил слова Победоносцева, что необходимо помочь крестьянину стать полноценной персоной.
Путешествия Горемыкина продолжились, и 7 ноября он присутствовал в Вильно при торжественном открытии памятника графу Муравьёву, был также министр юстиции, государственный контролёр, родственники покойного графа. На памятник были возложены венки от газет «Московские Ведомости» и «Свет». Город был украшен флагами, играл оркестр, состоялся обед в военном собрании.
Студенты выпустили воззвание с осуждением шести профессоров Варшавского университета, пославших приветствие виленскому губернатору в честь установки памятника Муравьёву [«Археографический ежегодник». 1964. М.: Наука, 1965, с.118].
В газетах сообщалось, что в МВД подвергли рассмотрению вопрос об упразднении сиротских судов и передаче опекунского дела в сословные управления. Опеку намечено было учредить там, где находится имущество: в волости или в городе, даже в случаях когда опекаемый проживает в волости. Опекунский совет возглавляет волостной старшина при участии писаря и двух представителей волостного схода. Когда же для управления имуществом требуются иные условия, оно изымается из волостного управления.
Горемыкин разрешил обществу русских врачей открыть специальные женские курсы для подготовки фармацевтов и провизоров.
В.К. Плеве обращался к И.Л. Горемыкину с официальной просьбой ускорить передачу заключения МВД о проекте нового издания законов о Состояниях. Отзыв этот составлялся Канцелярией МВД.
После отказа в розничной торговле «Новому Времени» Б.В. Никольский писал в дневнике в начале ноября, что на месте А.С. Суворина рискнул бы вступить в борьбу с И.Л. Горемыкиным и М.П. Соловьёвым. 12 ноября он услышал, будто Горемыкин наказал «Новое Время» из-за личного недоброжелательства. Никольский не поскупился назвать министра грязным и пошлым негодяем, непростительной ошибкой К.П. Победоносцева. Важно обращать внимание на эти критические отзывы, т.к. они исходят из консервативных источников, не способных предложить положительные программы, далеко не понимающих как следует бороться с революционным движением. Особенно ярко это будет видно по их критике Императорского правительства в 1905-6 г. Всплески эмоций нередко вызваны неудовлетворённым честолюбием. Б.В. Никольский годами мечтал о министерстве народного просвещения, и грубо ругал в дневнике Н.П. Боголепова только за неспособность выбить у него вакансию.
С.М. Лукьянов 13 ноября по распоряжению Принца А.П. Ольденбургского просил И.Л. Горемыкина соизволения явиться «для представления объяснений по делу о пожертвовании графом А.И. Орловым-Давыдовым двенадцати тысяч рублей» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.929 Л.10].
15 и 16 ноября Горемыкин встречался с Победоносцевым по различным делам. 17 ноября князь В. Оболенский передал приглашение к графу Муравьёву в МИД на четверг в 13.30 [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1044 Л.1].
Проект временного штаба СПб. Конно-Полицейской Стражи был утверждён 19 ноября.
С 26 ноября 1898 г. все последующие годы И.Л. Горемыкин состоял почётным членом Владимирской Учёной Архивной Комиссии, занимавшейся историческими исследованиями и публикациями.
1 декабря прошло заседание Комитета Министров.
В начале декабря стало известно, что под председательством Горемыкина работает комиссия по преобразованию Электротехнического института почтового ведомства в высшее учебное заведение и распространению соответствующих прав на профессоров и учащихся института. Через год И.Л. Горемыкин будет избран почётным членом института.
9 декабря вечером Горемыкин был у Победоносцева. В.К. Сергей Александрович в этом день описывает как важную победу, что на совещании с участием Горемыкина, Муравьёва и Витте состоялось соглашение об ограничении приписки евреев к московскому купечеству 1-й гильдии, поскольку их доля превысила 1/3. Великий Князь снова принимал Горемыкина 10 декабря.
Обер-прокурор 10 декабря передал И.Л. Горемыкину записку Витте о земстве со своим комментарием: «не могу не высказать что я одинаково с ним возмущаюсь. Два года назад были иные речи – ограничить земскую больницу. А теперь министерство Вн. Дел хочет ещё вводить её во многих губерниях!!». Не вполне понятно, какие политические претензии мог бы иметь И.Л. Горемыкин к полезному делу распространения земских больниц, в которых ощущался недостаток.
16 декабря 1898 г. в 10 утра Горемыкин, военный министр и заместитель министра путей сообщения в Царском Селе встречали Государя, вернувшегося из Ливадии.
В ночь с 16 на 17 декабря полиция организовала облаву на стачечников текстильной фабрики Максвелла в С.-Петербурге. 20 человек были схвачены и затем преданы суду [«Современные записки». Из архива редакции. М.: НЛО, 2013, Т.3, с.435].
20 декабря газета «Русь» Гайдебурова получила третье предостережение и была закрыта на 6 месяцев.
Вышел Высочайший Указ о предоставлении помощнику шефа жандармов права заместителя Горемыкина и о возможности замещать его в Г. Совете, Комитете Министров и Сенате при рассмотрении жандармских дел.
29 декабря состоялось очередное заседание Комитета Министров. К.П. Победоносцев 30 декабря написал И.Л. Горемыкину письмо о расколе после того как 27 декабря В.К. Истомин, управляющий канцелярией Великого Князя Сергея Александровича сообщал Победоносцеву о борьбе с раскольниками в Москве, что МВД равнодушно в этом вопросе, а МЮ разрабатывает свой проект, включающий борьбу и с другими сектами с законодательной точки зрения, что также не двигало дело Победоносцева [РГИА Ф.1574 Оп.2 Д.25 Л.3].
В корреспонденции обер-прокурора за долгие годы можно встретить частые замечания о нежелании МВД принимать меры против старообрядцев исходя из принципов веротерпимости или ведомственных соображений. Весьма подробно вопрос о расколе изложен в обширной переписке К.П. Победоносцева с профессором Н.И. Субботиным. Письма показывают Константина Петровича с самой лучшей стороны в качестве убеждённого защитника Церкви, на высшем уровне понимания проблем и деликатности их печатного изложения. Относительно министерства Горемыкина 30 апреля 1899 г. Победоносцев выразился так: «нечего и обращаться, там скажут – дело судебное». «Защиты нельзя ждать по делам раскола ни от судов, ни от сената, ни от министерства» [В.С. Марков «Переписка проф. Н.И. Субботина, преимущественно неизданная, как материал для истории раскола и отношений к нему правительства (1865-1904)» М.: Тип. Г. Лисснера, 1914, с.614].
Точно так нечего было ждать и С.Ю. Витте, который в докладе Царю 26 октября 1899 г. писал, что никогда не возбуждал в ведомстве И.Л. Горемыкина вопросов о нападках в прессе «прямо или косвенно против меня» [С.Ю. Витте «Собрание сочинений и документальных материалов» М.: Наука, 2003, Т.2, Кн.2, с.129].
По просьбе И.Л. Горемыкина, министр иностранных дел В.Н. Ламздорф начал собирать справки о международном сионистском движении. По собственной оценке Департамента Полиции за 1898 г., сионисты создали широкую сеть «тайных кружков», чьи цели могут не ограничиваться стремлением к эмиграции. МИД собирал сведения о сионизме для И.Л. Горемыкина 2-ю половину 1899 г. По большинству донесений, европейские правительства поддерживают сионизм, но он «может представлять определённую опасность для России» [А.Е. Лакшин «Отношение в России к сионизму в начальный период его деятельности (1897-1904)» // «Вопросы истории», 2010, №8, с.65].
В дальнейшем В.К. Плеве разрешил съезд сионистов в Минске в 1902 г., поддерживая намерения евреев покинуть Российскую Империю. Однако съезд отказался от переезда в Палестину в качестве ближайшей меры, считая её более отдалённой. В документе Главного Управления по делам печати от 28 августа 1910 г. встречается мнение, что «всякие организации сионистов в сообщества должны быть признаны запрещёнными согласно точному смыслу ст.6 прил. к ст.118 – Уст. о пред. и пресеч. прест.». В сионистском журнале «Рассвет» д.с.с. Хан Маграбов усмотрел фанатичный расизм, «в высшей степени оскорбительное отношение к коренному, господствующему в русском Государстве, русском народу» [РГИА Ф.776 Оп.9 Д.2071 Л.2-8].
В конце декабря 1898 г. было достигнуто соглашение с Петербургским обществом страхования о коллективном страховании от несчастных случаев на фабриках членов Петербургского общества содействия улучшению и развитию фабрично-заводской промышленности. Страхованием рабочих могли заниматься добровольные общества.
Генерал-лейтенант Н.И. Петров 30 декабря уведомлял о приготовленном на следующий день открытии телефонного сообщения между Петербургом и Москвой, и послал для Горемыкина и Царя и записку об уже состоявшемся разговоре Великих Князей Сергея и Павла Александровичей [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1088 Л.43].
31 декабря К.П. Победоносцев прислал И.Л. Горемыкину текст телеграммы о. Иоанна Кронштадтского Царю с содержанием против московских раскольников. «По предмету её, всякие распоряжения зависят от Министерства Внутренних Дел, ведающего дела раскольников». В тоне личного письма обер-прокурора вновь выражено сильное недовольство от нежелания И.Л. Горемыкина прибегать к репрессиям. «Не могу при сём не выразить крайнее моё сожаление о равнодушии Министерства Внутренних Дел к новейшим событиям в Москве». Это ещё один интересный пример разновидности обвинения И.Л. Горемыкина в равнодушии и бездеятельности, которое на самом деле означает расхождение во взглядах на используемые политические методы. Регулярно наблюдаемый принципиальный отказ И.Л. Горемыкина прибегать к излишним карам лучшим образом характеризует министра как носителя положительных принципов Монархии, в отличие от тирании. В свою очередь идеологическая ревность К.П. Победоносцева к утверждению православия и о нём свидетельствует с наилучшей стороны.
К концу 1898 г. Горемыкин учредил дополнительные 4 должности ветеринарных врачей в штат полиции к имевшимся ранее 2-м врачам.
4 января 1899 г. А.В. Богданович передавала слова Пантелеева, будто «государственная роспись Витте вся направлена против Горемыкина», т.е. намеренно не финансируются желаемые Горемыкиным учреждения.
10 января ходили слухи от Б.В. Никольского, будто Горемыкин препятствует собранию комиссии по крестьянскому благоустройству.
Согласно господствующей идеологии русского национализма, в Империи повсеместно работали над нуждами различных народностей. В 1899 г. в Красноярске губернатор М.А. Плец созвал заседание по обсуждению проекта преобразования управления местными коренными жителями, следуя указанию министра И.Л. Горемыкина «О скорейшем предоставлении проекта». Вопреки прямому указанию Горемыкина, проект разработали только к концу 1900 г. [Л.П. Бердников «Вся красноярская власть: Очерки истории местного управления и самоуправления (1822-1916). Факты, события, люди» Красноярск, 1995, с.111].
Для исполнения этого задания в январе 1899 г. по рекомендации генерал-губернатора Барабаша Крафта пригласили служить в МВД. «По поручению министра внутренних дел И.Л. Горемыкина делопроизводитель земского отдела министерства И.И. Крафт подготовил проект преобразования управления оседлыми кочевыми народами Сибири, который определял основные правовые нормы хозяйственной и административной жизни сибирских аборигенов» [Т.М. Кикилова «И.И. Крафт: от писаря до губернатора» // «Мартьяновские краеведческие чтения» Минусинск, 2005, Вып.III, с.216].
Егермейстер И.П. Балашов, ранее безосновательно обвинявший И.Л. Горемыкина в либерализме, на этот раз пожелал получить достоверные сведения напрямую, 18 января попросив прислать ответ МВД на записку Витте о земстве: «много слышал о магистральном, как говорят, ответе Вашего Высокопревосходительства» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.388 Л.1].
19 января К.П. Победоносцев просил И.Л. Горемыкина обратить внимание на просьбу казанского профессора Загоскина, который будет на приёме у министра в пятницу.
Как показывает историк С.В. Куликов, ещё в 1896 г. по поручению Царя И.Л. Горемыкин и С.Ю. Витте начали подготовку частичной ликвидации круговой поруки в общине. 23 января 1899 г. Николай II утвердил Временные правила взыскания окладных сборов, по которым круговая порука была отменена для подворных владельцев и крестьян небольших селений [«Университетский историк» (СПб.), 2010, Вып.7, с.214].
30 января за допущенные в «Гражданине» дерзкие отзывы о личностях бывшего и действующего управляющего Дворянским Земельным банком МВД запретило печатание в газете частных объявлений. С 1 февраля разрешили вновь издавать газету «Донская Речь», закрытую 31 октября 1897 г. «Петербургские Ведомости» Ухтомского получили второе предостережение за статьи в №33 о восстановлении канонического управления и соборов в Русской Церкви. Как и статьи на ту же тему в «Русском Труде» Шарапова с третьим предостережением и приостановкой на месяц, они были охарактеризованы как грубое искажение исторических фактов иерархического устройства Церкви.
1 февраля Император утвердил мнение Г. Совета об усилении полицейского надзора в промышленных районах. Для этого учреждалось 160 полицейских надзирателей. Наём квартир для них возлагался на владельцев фабрик.
Комиссаржевская 2 февраля должна была выступить на благотворительном вечере у Горемыкиных, но заболела и не предупредила об отсутствии.
Биограф пишет, что в этот сезон её сильно утомили ежедневные выступления. В предшествующие годы ей оказывал поддержку выдающийся правый историк С.С. Татищев. Затем она поддалась обману вымогателей и спонсировала террористические партии, существовавшие за счёт такого рэкета и грабежа [А.Ю. Сергеева-Клятис «Комиссаржевская» М.: Молодая гвардия, 2018, с.116, 156, 206].
К.П. Победоносцев 3 февраля снова излил И.Л. Горемыкину недовольство «СПб. Ведомостями», уже прямо заявив, будто они «признаются привилегированной газетой, стоящей вне закона, однако всему есть же мера». Обер-прокурор прислал статью, в которой увидел как «полоумный г. Дурново публично подвергал» своему суду «не только всю русскую церковь, но Митрополитов и Архиереев поимённо, возбуждая невежественную толпу».
В феврале 1899 г. начались студенческие волнения. Курсистка Елизавета Дьяконова в дневнике описала эти события: там были подтасовки голосов на студенческой сходке в пользу радикалов, запугивание любого, кто смел игнорировать забастовку бунтарей и ходить сдавать экзамены: «десять человек столпились над глупой девочкой и кричали ей в уши; та дрожала и плакала. Это ли не насилие!» [П.В. Басинский «Посмотрите на меня» М.: АСТ, 2018, с.260-261].
Идеологическая победа монархистов над революционерами, по опыту студента, не переживавшего на себе такого насилия, давала «свободу» «от политического гнёта распропагандированных беспокойных единиц». Это важнейшее «право» русской молодёжи Империи «на выявление своей настоящей духовной сущности» было уничтожено развязанной в 1895 г. либералами борьбой с Самодержавием за конституцию, которая началась «с петиции Николаю II при его вступлении на престол» [А.И. Фенин «Воспоминания инженера (1883-1906)» Прага, 1938, с.20, 80].
Поскольку в праздничный день 8 февраля студенческие драки, буйства и беспорядки происходили ежегодно без единого пропуска, И.Л. Горемыкин проявил свойственное ему нежелание мириться с укоренившимися левыми традициями. Следуя решительному примеру Николая II, министр показал деятельную натуру, отсутствие боязни браться за самые сложные и опасные политические задачи. Попытки отстраниться вызвали бы дальнейшее усиление нежелательных явлений и постепенное усугубление общего положения, дальнейшие сдвиги налево. Только открытое противостояние наиболее вредным процессам могло предотвратить их пагубное разрастание.
Переходя в контрнаступление для усиления позиций правых монархистов, т.е. ради фактического водворения необходимого для Империи правопорядка и прямой защиты упомянутых основополагающих прав молодёжи от революционного насилия, Горемыкин заранее предупредил Боголепова о намерении принять более строгие меры и прибегнуть к высылке согласно положению об усиленной охране, во избежание потворствования настоящему злу.
31 января 1899 г. И.Л. Горемыкин отправил Н.П. Боголепову на этот счёт официальное письмо, которое с пометкой «спешно» было перенаправлено к исполнению [«Архивное дело», 1928, Вып.№14, с.20].
Политический характер борьбы революционеров с университетским начальством регулярно проявлялся в практике запугивания студентов и насаждения своих порядков. Что происходило в прошлые годы описывал, к примеру, И.И. Янжул 28 февраля 1896 г., как получил от революционного совета землячеств запрет читать лекцию в определённый день, «а затем явилась депутация студентов с тем же самым… Как поступить??.. подчиниться приказанию самозваного трибунала?? Значило бы струсить и показать им, что свистки 94 года не пропали даром и всегда так нужно поступать с профессорами». В ответ на неподчинение революционный совет «застращиванием» заставил студентов не приходить на запрещённую им лекцию Янжула. Запугиванию не поддались всего 10-12 человек из 400. Насадители произвола также запретили студентам аплодировать профессорам «под угрозой, что они будут шикать» [СПФ АРАН Ф.24 Оп.2 Д.127 Л.5].
Объявление о недопущении непотребного поведения, впервые вывесили в субботу 1 февраля. Со следующей недели оно вызвало озлобление и раззадорило хулиганские намерения части студентов.
6 февраля студенты Петербургского университета на сходке сорвали объявление, предостерегающее от обычных на Татьянин день студенческих бесчинств. Витрину, за которой объявление находилось, разбили вдребезги.
Градоначальник Клейгельс 7 февраля написал ректору Сергеевичу: «с моей стороны приняты меры к обеспечению порядка и спокойствия на улицах после акта в Университете, при чём обращено особое внимание, чтобы по отношению к студентам со стороны подведомственных мне чинов было выказано вполне доброжелательное отношение в тех случаях, где увлечение легкомысленной юности играет главную роль; рядом же с этим будет применена корректная строгость по отношению тех, которые проявят умышленно злую волю» [РГИА Ф.1620 Оп.1 Д.13 Л.1].
8 февраля, когда ректор Сергеевич появился на кафедре, он был освистан. «Шум, крики и свист» были «сильны и оглушительны». Когда студенты начали расходиться, вызванные для охраны от их буйства конный полицейский и городовой были ими закиданы снегом. Студенты кричали, махали лопатами перед лошадьми, те испугались и унесли двух всадников. Затем к хулиганствующим студентам приблизился эскадрон. Студенты опять начали вопить, полетели снежки, одним из которых «была расквашена физиономия предводителя». В ответ на это, следует понимать, весьма ощутимое насилие, городовые напали на студентов, используя нагайки.
На следующий день сходка 2000 студентов постановила не участвовать в занятиях, пока их «права человеческой личности» не будут гарантированы. Как видно, ректор, преподаватели и полицейские за людей ими не считались и никаких гарантий от дальнейших посягательств на их безопасность предоставлено студентами не было. Меж тем ректор предложил именно это: обратить внимание на собственное поведение и всем освиставшим его явиться к нему и лично дать покаяние и «для видимости понести дисциплинарное наказание». Студенты проявили невиданную выдержку, они молча выслушали ректора только потому что заранее договорились об этом, а когда ректор ушёл, «зло высмеяли» его. Ректора студенты не любили за его остроумие и сарказм.
16 февраля протестующие выпустили программу с варварским призывом: «закрытие Университета, непрерывно, ежедневно, всеми средствами». «Ректор Сергеевич и профессора, читавшие лекции в присутствии городовых, несут ответственность за это. Имена Сергеевича, Фойницкого, Исаева, Ведрова и Георгиевского наши наследники запишут на позорном столбе. Эти люди не должны более появляться в университете». Протестующие пытались устанавливать свои правила, закрывать университет, изгонять преподавателей. 17 февраля министры Витте, Хилков, Ермолов и Муравьёв подписали записку, в котором объявление ректора, профессора В.И. Сергеевича направленное на предотвращение ежегодного праздничного буйства, признавалось неудачным по форме, т.к. не могло положительно повлиять на обострённое честолюбие молодёжи [«Студенческое движение 1899 года» Мадлон: А. Чертков, 1900].
Выступая перед студентами, ректор остроумно высмеивал их претензии и методы действий, когда недовольные своими столкновениями с конной полицией студенты решили срывать лекции и добиваться закрытия университета [«Былое», 1924, №24, с.124].
А.С. Ермолов 18 февраля просил И.Л. Горемыкина сообщить резолюцию Царя со вчерашнего совещания для подготовки правительственного сообщения. Н.П. Боголепов тоже хотел узнать «результат Вашего сегодняшнего Всеподданнейшего доклада по вчерашнему решению? Мне важно знать это как можно скорее для дальнейших распоряжений, особенно по Университету» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.435 Л.1].
Боголепову пришлось обращаться за помощью МВД для поиска и наказания зачинщиков беспорядков. Поскольку политическая полиция не имела агентуры среди обычных студентов, а силы МВД даже не заходили внутрь университета, схватки со студентами происходили только уличные, то Горемыкин отвечал, что выявить их сможет само университетское начальство, наблюдающее за событиями. С тем же, что надо искать вожаков, прячущихся за спинами используемых ими студентов, Горемыкин вполне соглашался [Е.Д. Резникова «Московский Университет в контексте правительственной политики в области просвещения (1884-1905 гг.)» Дисс. М.: МГУ, 2017, с.129].
Левый интеллигент С.Ф. Ольденбург вечером 18 февраля написал матери: «в Москве были сходки, и после них студентов стали высылать массами», в т.ч. не только активных проводников революционного насилия, но и пособников, участвовавших в сходке, т.е. поддерживающих их. К переписанным на сходке позднее приходила полиция и мгновенно устраивала высылку: «бумаги и вещи вышлют на родину, а проезд на казённый счёт» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.3 Л.200].
У арестованных находили сочинения Плеханова и Маркса, призывы к свержению Самодержавия. 12 февраля подобную прокламацию выпустил Киевский совет землячеств.
Такие студенты, организаторы бойкотов лекций, требовавшие прекращений экзаменов от профессоров и более правых учащихся-академистов, угрожавшие несогласным и оскорблявшие их, а потом подвергшиеся арестам и высылкам, подтверждают в воспоминаниях, что в кружках обсуждали Плеханова, иную марксистскую литературу, а монархический режим эти будущие строители СССР и прославители сталинизма, считали источником несправедливости [«Неизвестный М.И. Туган-Барановский» СПб.: Нестор-История, 2008, с.141, 144].
В частности, среди высланных студентов был С.Д. Мстиславский, будущий масон, эсер, активный участник февральского переворота, успешно устроившийся пропагандистом при сталинизме [«Партия левых социалистов-революционеров» М.: РОССПЭН, 2015, Кн.2, Ч.2, с.832].
Государь выразил прискорбие и неудовольствие распространению этих беспорядков среди множества учебных заведений. 20 февраля для всестороннего разбирательства он назначил комиссию генерала Ванновского.
Тут нельзя пройти мимо красочных сравнений с происходящим в РФ через сто с лишним лет, когда в таких случаях отнюдь не происходит разбора действий полиции на высшем правительственном уровне, и не то что студенты, но и 50-летние кандидаты наук получают 4 года тюрьмы за удержание рукой бьющей их дубинки на мирном и санкционированном митинге [Ольга Романова «Русь сидящая» М.: АСТ, 2018, с.111].
Политический регресс демократии и социализма при революционерах во власти не подлежит сомнению, сравнительно с режимом Николая II. Борьба за сохранение монархических принципов поэтому соответствовала общим интересам, в т.ч. и всех студентов.
19 февраля Н.П. Боголепов снова спрашивал И.Л. Горемыкина, «нет ли у Вас каких-либо известий от Его Величества? Завтра придётся опять открыть двери, и я стою на распутье».
Профессора собрали подписи за предоставление рассмотрения дела учебному начальству. Согласно письму А.Е. Преснякова матери 21 февраля 1899 г., «Горемыкин грубо накричал на Фаминцына, Бекетова и Ламанского, подавших ему эту бумагу» (как правило, все сообщения о том будто отличавшийся легендарным спокойствием и непоколебимым благодушием И.Л. Горемыкин на кого-либо кричал, совершенно вымышлены или во всяком случае преувеличены). Рассказывали также, что А.С. Фаминцына принял Государь, после чего Горемыкин нанёс академику визит. Содержание их встречи нам остаётся не известным. По версии недоброжелателей, «Горемыкин пытался обозвать ложью свидетельство о насилиях полиции, но был уличён, ибо Фаминцын представил Государю и в комиссию, назначенную для разбора дела под председательством Ванновского, около 100 письменных показаний потерпевших и свидетелей» [А.Е. Пресняков «Письма и дневники 1889-1927» СПб.: Д. Буланин, 2005, с.289].
Односторонний характер обвинений в адрес И.Л. Горемыкина выявляется при сопоставлении всей картины событий. Для МВД не составляло никакого труда предоставить другую сотню свидетельств. Тот же А.Е. Пресняков в разгар событий 9 февраля писал о студентах: «крепко они безобразят». Вращение же среди интеллигенции самых недостоверных сплетен хорошо видно по тому, как А.Е. Пресняков в 1895 г. распространял ложный слух о назначении И.Л. Горемыкиным своего родственника, иркутского генерал-губернатора, шефом-жандармов. Это несомненный вздор, поскольку А.Д. Горемыкин оставался на своей должности в Иркутске все годы министерства И.Л. Горемыкина.
Сторону Горемыкина приняли Н.П. Боголепов, А.Н. Куропаткин, К.П. Победоносцев, Великий Князь Сергей Александрович. Отрицали политическую сторону беспорядков и пытались защищать студентов Н.В. Муравьёв, А.С. Ермолов, Хилков, Императрица Мария Фёдоровна, В.К. Александр Михайлович [О.И. Голечкова «Бюрократ его величества в отставке. А.А. Половцов и его круг» М.: АИРО-XXI, 2015, с.94-97].
К.П. Победоносцев 10 февраля на официальном бланке обер-прокурора писал И.Л. Горемыкину: «печальная университетская история! Надо бы мирно погасить это волнение». «Виновато начальство! Неразумно вывешено объявление – по настоянию Министра, а сам Министр не явился». «Университетского начальства не видно – оно скрывается, и всё по-видимому отдано в руки полиции – едва ли это поведёт к добру!».
Озвученные претензии в адрес Н.П. Боголепова не выглядят справедливыми в свете рассмотренных событий. Если Победоносцев, не вникая в подоплёку дела, стремился потушить только один свежий революционный взрыв, то Горемыкин нападал на сами основы студенческого левого движения и добивался их полного искоренения для предотвращения любых последующих таких же погромов. При всей несомненной сложности поставленной задачи, движение в этом правом направлении безусловно следовало продолжать. В последующие годы этого будет добиваться Николай II без участия Горемыкина, используя ту же тактику как можно более полного устранения революционеров из стен университетов.
С Императрицей Марией Фёдоровной И.Л. Горемыкин в эти дни встречался, после изъявленного им 6 февраля желания, 12 февраля в 12 ч. и 16 февраля в 11.30. Но расположить её к себе так и не удалось.
21 февраля 1899 г. Великий Князь Сергей Александрович с опрометчивой поспешностью назвал величайшей ошибкой повеление Ванновскому расследовать студенческие беспорядки. Он счёл это опасной уступкой, похожей на выражение недоверия министерству Н.П. Боголепова и русской полиции. Победоносцев считал, что это сделано под влиянием Витте, настроенного против Боголепова и Горемыкина, а расследование действий полиции подорвёт учебную дисциплину. Брату Павлу Александровичу Сергей написал, что это поручение сделано «чтобы потопить Горемыкина и Клейгельса, это пожалуй ещё хуже и ещё опасней и приведёт к более крупным беспорядкам среди молодёжи». Тут Н.В. Муравьёв разошёлся со своим давним покровителем, поддержав интригу Витте против Горемыкина. 24 февраля Сергей Александрович добавил в письме, что записка Витте в пользу студентов пошла по рукам профессоров и учащихся.
22 февраля А.С. Фаминцын передал Ванновскому «ещё два документа», в т.ч. показания вольнослушателя болгарина. «По отзывам многих лиц, полиция по отношению к вольнослушателям (одетым в штатское платье) ведёт себя ещё с большей бесцеремонностью, чем со студентами». Этот болгарин опасался высылки, т.к. его обвинения стали известны Клейгельсу [СПФ АРАН Ф.39 Оп.2 Д.10 Л.3].
А.А. Шахматов писал 22-го: «Тревожное мы переживаем время. Не знаю как сегодня, а вчера кризис ещё не миновал и решение возобновить занятия ещё не состоялось» [СПФ АРАН Ф.752 Оп.2 Д.348 Л.24об.].
Отправленное Горемыкину 23 февраля письмо не имеет внятной подписи, что затрудняет оценку его достоверности, но запись сделана приближённым министра, а не безответственным анонимом: «Ваше приглашение ко мне было вручено только сегодня в 2 часа», «завтра вторично будут делать операцию». «Студентам ещё до бунта дали понять чтобы они ничего не боялись, так как за них будут стоять в высших сферах. Студенты всюду кричат что у нас не Государь, а Порфироносная Кукла, что царствует не Он, а Победоносцев, что Победоносцева надо «свести на нет»», «его креатуры (а главным образом говорили – Вас) следует прогнать вон и на их место поставить новых людей. Всё это говорится в более грубых выражениях, которые здесь не пишу. А Витте при самом начале беспорядков (студ.) хохотал и аплодировал им т.е. студентам. Если ещё что узнаю то немедленно сообщу Вам» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1436 Л.100].
Вскоре Витте будет обвинять Горемыкина в использовании анонимной записки, где Витте осуждали за связи с беспорядками.
К.П. Победоносцев 23 февраля написал И.Л. Горемыкину, что «сегодня Боголепов созывает нас к вам вечером». Обер-прокурор по нездоровью ранее пропустил собрание Комитета Министров и не поехал на это приглашение, посчитал что удастся решить основные вопросы и без него, раз теперь «Витте настаивает что надо действовать со всею строгостью». «Слышу что выходит 1-я книжка мерзкого журнала «Начало» и говорят она ужасная. Вы разрешили это жуткое издание по каким-то особым соображениям». Намёк касался сведений о причастности к изданию журнала тайного агента полиции.
На просьбу А.С. Фаминцына принять его 23 февраля для передачи сведений, полученных в результате общения со студентами, Н.П. Боголепов в тот же день отвечал: «к сожалению, сегодня я весь день занят. Попробуйте заехать ко мне сегодня между 5-ю и 6-ю часами; если я к этому времени вернусь из Комитета Министров, то приму Вас, но могу уделить немного времени, с полчаса. Завтра, в среду, я могу уделить час времени вечером в 8 ч.» [СПФ АРАН Ф.39 Оп.2 Д.5 Л.1].
И.Л. Горемыкин 1 и 7 марта принимал участие в работе Особого совещания под председательством Д.М. Сольского о порядке управления Квантунским полуостровом. Горемыкин высказался против подчинения разным ведомствам. Хотя местное управление пока осуществляло именно МВД, он предложил в интересах общего заведования дел передать администрацию в подчинение военному управлению [В.П. Казанцев, Я.Л. Салогуб «Русская Маньчжурия: опыт освоения и управления (1890-е годы – 1905 год)» СПб.: Наука, 2012, с.56-59].
В дальнейшем установление Наместничества исходило из тех же соображений устранения межведомственной борьбы, одновременно преследуя задачи «широкой децентрализации», согласно воззрениям правых монархистов, отрицающих негативное разрастание этатизма.
7 марта в Конногвардейском манеже состоялось освящение санитарных отрядов в присутствии Императрицы Марии Федоровны, Великой Княжны Ксении Александровны, И.Л. Горемыкина, министра путей сообщения и градоначальника Клейгельса.
Клейгельс ещё осенью 1896 г. учредил карету скорой помощи для перевоза в больницы нуждающихся. Теперь же открылись санитарные станции при пяти пожарных частях: в каждую входили два санитара, кучер и пара лошадей [«Санкт-Петербургские ведомости. Наследие. Избранное» СПб.: АО СПВ, 2018, Т.1, с.262-263].
По воспоминаниям Николая Вельяминова, любимое выражение Государя было «да, конечно», а хитрого старца И.Л. Горемыкина: «пустяки», которое он будто бы распространял на гигиену и санитарию. Горемыкин якобы переубедил Государя, что не следует создавать специального министерства народного здравия, на чём настаивал принц А.П. Ольденбургский. «Зная хорошо характер Государя, чиновную мудрость Горемыкина и бесшабашную горячность Александра Петровича, я понял, что дело Принца проиграно». Вельяминов не входит в число наиболее надёжных мемуаристов, но интересна его уверенность в силе доверия Императора к Горемыкину, которая подтверждается и дневниковыми записями собеседников Николая II в те дни.
В начале марта недовольные продолжали проклинать Горемыкина и Боголепова, несмотря на то что к 10 марта Боголепов вернул высланных и исключённых студентов Петербурга и Москвы, где “свирепствовал” Д.Ф. Трепов [А.И. Волкова «Воспоминания и дневник» М.: ГПИБ, 2015, с.280].
Устное предложение И.Л. Горемыкина возглавить комиссию по разработке общего закона о телефонных сообщениях И.Я. Голубев письменно отклонил 12 марта [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.585 Л.42].
15 марта 1899 г. Великий Князь Сергей Александрович предложил Горемыкину закрыть университет. 16 марта МВД запретило розничную продажу «Приазовского Края». 17 марта М.П. Соловьёв отправил циркуляр с предписанием редакциям газет не касаться беспорядков в университетах и не печатать объявлений о нежелании получать газет, не сочувствующих беспорядкам. Тогда студенты писали коллективные письма против того как о них отзывается А.С. Суворин в «Новом Времени».
Организованная либералами травля заставила даже А.В. Амфитеатрова, не одобрявшего статьи Суворина о студентах, объединиться с редакцией в защиту её чести [Н.В. Снессарев «Мираж Нового Времени» СПб.: Тип. М. Пивоварова, 1914, с.25].
После известий об исключении 300 студентов из Киевского университета, писал А.Е. Пресняков 18 марта, «студенческие партии дошли даже до драки», «все защитники студентов отступаются от них, скомпрометированные их же изменой. Ожидать этого следовало». Уже делали окончательный вывод о победе И.Л. Горемыкина над всеми, кто хотел его потопить.
20 марта Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна написала Николаю II, что выбор Ванновского подрывает авторитет Горемыкина и Боголепова.
В действительности расследование Ванновского восстанавливало подлинный ход столкновений с полицией и ни в чём не могло повредить Горемыкину. Имя Ванновского лишь использовалось для разжигания интриг против МВД противниками Горемыкина. Назначив расследование, Император Николай II продемонстрировал свои основные выдающиеся политические достоинства и превосходство над паническими метаниями консерваторов, желающих оставить всё как при Александре III. Для убедительной идеологической победы над парламентаризмом практика назначения расследований являлась важным шагом вперёд. Односторонность подхода Ванновского в защиту студентов не представляла опасности, т.к. она лишь демонстрировала Николаю II слабость аргументов противников Горемыкина.
Император Николай II в письме матери 20 марта выразил полную поддержку действиям И.Л. Горемыкина: «в университете опять начались беспорядки, в Москве и Киеве также; но я надеюсь, что принятыми на этот раз строгими мерами удастся, наконец, водворить спокойствие на этот год! Несносно!».
23 марта К.П. Победоносцев в письме Великому Князю Сергею Александровичу изложил суть проблемы: 60 студентов выслали из Петербурга за провокации. Министры со стороны Витте решили вернуть их. В результате «вырос целый бунт дикой 1000-ной сходки в стенах Университета, с чтением революционных прокламаций».
И.Х. Озеров 23 марта писал И.И. Янжулу из Москвы: «У нас опять волнения, и уволено, кажется, около 800 человек. Не знаю, как и состоятся экзамены» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.2 Д.737 Л.185].
А.Е. Пресняков 26 марта писал, что забастовщики насильно «выводят из аудиторий» студентов, не давая им слушать профессоров.
29 марта А.С. Суворин послал И.Л. Горемыкину огромное письмо сугубо личного характера с беспокойством насчёт вреда от министерского циркуляра его журналистской репутации. «Я видел что сочувствие большинства общества на стороне моих доводов». Но после выхода циркуляра с распоряжением о прекращении обсуждения университетских беспорядков и запретом объявлений против «газет, порицающих студенческие беспорядки», Суворин весь испереживался из-за клеветы, будто он сам ходатайствовал о таком циркуляре и изнылся от неспособности опровергнуть распространение лжи о себе лично. Это довольно поучительно, когда сами журналисты, в огромном количестве безответственно и злонамеренно распространявшие недостоверные сведения, особенно о русских монархистах и правой самодержавной политике, сами оказались под тем же потоком клеветы, что и царские министры. А.С. Суворин прочувствовал на себе последствия работы революционной системы организованной лжи, но не сделал правильных выводов, и вместо того чтобы понять общность своих интересов с властями Российской Империи, ещё больше озлился на монархический строй и стал позорно подлаживаться под революционную пропаганду, страшась её злых языков.
А.С. Суворин рассуждал исключительно о сиюминутных интересах прессы, а не о задачах борьбы с революционерами, которые в будущем уничтожат его газету: «запретительные циркуляры, не публикуемые в общее сведение, всегда спутывают и нас, журналистов, и читающую публику, и едва ли приносят какую-нибудь пользу правительству, у которого и без циркуляров неограниченная власть над печатью. И в данном случае, циркуляр от 17-го марта мог только затруднить возможность разобраться публике в вопросе». «Предоставленная самой себе, эта полемика» «что-нибудь полезное выяснила бы публике».
Если бы газетные обсуждения действительно соответствовали интересам правительства, поскольку позволили бы обеспечить идеологический разгром левого лагеря, в таком прекращении полемики не было бы нужды. Но А.С. Суворин искажает основной смысл происходящих событий, а именно, скрывает преобладающее вредное воздействие подавляющего числа газет левого направления, с которыми «Новое Время» не могло справиться и зачастую не очень пыталось. Поэтому правительство не имело никакой другой возможности добиться положительных политических охранительных целей.
Циркуляр был выпущен по просьбе Н.П. Боголепова, который совершенно правильно понимал, что полемика в печати в пользу стачки студентов мешает «восстановлению нормального порядка в университетах и умиротворению студентов», как объяснил А.С. Суворину М.П. Соловьёв [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1239 Л.4-6].
Бороться же с клеветой на И.Л. Горемыкина такие газеты и не думали, при всякой возможности повторяя ложь о министрах. 14 мая 1906 г. «Новое Время» без стеснения напишет: «И.Л. Горемыкин, считавшийся “красным”». Длиннейшие письменные рассуждения Суворина о том насколько печать полезна для опровержения клеветы, ничуть не мешали заниматься её умножением.
Сторонники Витте безуспешно старались развернуть события против И.Л. Горемыкина. Великий Князь Константин Константинович 30 марта 1899 г. написал в дневнике: «вчера был у Витте и целый час говорил с ним. Услыхал я от него ужасные вещи. Витте осуждает карательные меры, высылки, аресты, применяемые направо-налево и притом бестолково. Другой лагерь состоит из трёх человек: Победоносцева, Горемыкина, всем старающегося ему подслужиться [это ложь, Победоносцев обвинял Горемыкина в обратном], и Боголепова. Они сумели «подействовать» на Сергея, который всегда склонный преувеличивать политическую неблагонадежность учащих и учащихся, из Москвы то и дело пишет «зажигательные письма»… Горемыкин сам посылает в толпу учащихся своих сыщиков — agents, — сеющих там волнения, сам печатает и распространяет возбуждающие умы воззвания, и, когда эти меры приводят к смятению и беспорядкам, нашёптывает Государю, что студенты и прочие учащиеся в высших учебных заведениях — это враги отечества и самодержавия».
Поразительно, как слушатели Витте могли верить его фантастической лжи о Горемыкине. 25 марта Великий Князь Сергей Александрович в письме брату Павлу очень сдержанно назвал отношение Витте к Горемыкину неприличным. Заместитель Витте В.Н. Коковцов ещё рассказывал, что причиной особенного озлобления и без того жестокого интригана стала врученная Царём Витте анонимная записка, в которой он назывался виновником беспорядков среди студентов. Витте не придумал ничего лучше, как сочинять обвинения в том же разжигании волнений самого Горемыкина, без всяких оснований считая Горемыкина создателем той записки против Витте. Коковцов не разделял мнения Витте об авторстве записки, зато рассказал, что на совещании министров Горемыкин не проявлял к Витте ни малейшей враждебности и спрашивал у Витте совета.
По записи Великого Князя Константина Константиновича 21 марта, «Витте, сильно раздраженный анонимкой, направленной против него и поданной Государю запиской, резко ответил, что не за чем к нему обращаться за советом, что он выдаёт финансы, а что если надлежащие министры не знают, что им делать и как управиться с учащимися, да ещё во всех этих брожениях непременно хотят найти политическую подкладку, то лучше всего закрыть все учебные заведения». Как и во все предыдущие годы, на мирные предложения Горемыкина к сотрудничеству Витте отвечал враждой.
28 марта Горемыкин поручил С.Э. Зволянскому приготовить проект правительственного сообщения о студентах. Министр отстаивал необходимость активной борьбы с революционерами путём высылки как меры полного устранения из университета и из участия в беспорядках.
1 апреля Императрица Мария Фёдоровна в письме Государю безуспешно пыталась повлиять на него, проталкивая ложную версию сторонников Витте: «то что студенты возобновили свои глупости, очень меня огорчает, особенно то, что теперь Горемыкин захочет притвориться, что был прав, говоря об этом как о политическом деле, а ведь оно совсем не было таким!». Вместо борьбы с ложью и смутой, враги И.Л. Горемыкина пытались ею воспользоваться, не стесняясь нанесением урона верным монархистам и поддержкой врагов Престола.
В итоге противники Горемыкина признали за ним победу. Когда вышло правительственное сообщение, оно, по мнению С.Д. Шереметева, парализовало работу комиссии Ванновского, т.е. ударило по спекулятивной интригантской односторонности группировки Витте. По дневнику графа, «это ловкий приём Горемыкина». «Теперь полное торжество Горемыкина и Боголепова… Итак, повторилась история Ходынской комиссии графа Палена. Те же приёмы», «те же люди». Организационный комитет студентов 3 апреля обвинил Горемыкина и выпущенное правительственное сообщение в недомолвках, передержках и неточностях. «Будем помнить, что цель Горемыкина – показать, что “бунтует” кучка политиканов», а цель студентов – показать что большинство «просто хочет чтобы его не били и не высылали за то что били». – На самом деле они боролись за возможность беспрепятственно оскорблять, гнать, преследовать в стенах университета и за его пределами преподавателей и студентов, если они проявляют верность монархическим взглядам и препятствуют буйствам и насилиям.
11 апреля А. Филиппов писал К.П. Победоносцеву, что студенты буйствуют, «подстрекаемые еврейством очень искусно». Русские студенты «способны только застрелиться, или по крайней мере валяться в истерике оттого только, что полиция не выполнила глупых требований! Из руководителей пред молодёжью являются органы прессы» при отсутствии массовой правомонархической пропаганды[РГИА Ф.1574 Оп.2 Д.277 Л.3].
Совсем недавно всё то же происходило и при Александре III. 17 марта 1890 г. из Москвы А.Н. Плещееву А.П. Чехов писал про грандиозные беспорядки в городе и дурно отредактированные прокламации. «В них чувствуется не студент, а жидки и … акушерки. Должно быть, не студенты сочиняли». Органами прессы также куда чаще руководили евреи, нежели правительственные лица, вроде Горемыкина, никогда не дававшего указаний, о чём писать газетам. «Жиды или министры забирают в свои руки прессу», жаловался Чехов 28 августа 1891 г.
Антон Будилович и другие правые монархисты справедливо считали в 1899 г., что студентов провоцировали к беспорядкам либеральные профессора.
26 марта 1899 г. К.П. Победоносцев снова выразил И.Л. Горемыкину своё недовольство: «я писал вам 2 раза о мерзостном «Начале», которое вы разрешили выпустить. Но вы, к сожалению, не обратили внимание». «Теперь является вторая книга, ещё ужаснее первой». «Повторяю что всё это возмутительно».
Ведомство Горемыкина больше препятствовало нежелательным и опасным действиям газет. В последних числах марта была ограничена розничная продажа газеты «Киевлянин». Та же участь постигла газету «Народ». 31 марта МВД объявило первое предостережение газете «Сын Отечества» за статью «Женский вопрос» в №84. Вредное направление газеты было охарактеризовано как особенно резкое по этой статье. 4 апреля «Биржевым Ведомостям» вынесли 3-е предупреждение за передовую статью, и МВД закрыло газету на два месяца.
В основном же МВД занималось не проблемами печати. Для преодоления последствий неурожая в Волжско-Камский край было закуплено целых 70000 степных лошадей для пострадавшего населения. МВД ассигновало в распоряжение Якутского губернатора 3500 рублей на прокормление скота ввиду неурожая кормов.
4 апреля 1899 г. П.П. Гессе написал И.Л. Горемыкину что видел издателя журнала «Русское Обозрение» Александрова, который произвёл «самое лучшее впечатление. Не знаю в чём заключается его денежная беспорядочность».
Заместитель Горемыкина, барон Икскуль фон Гильденбандт 18 апреля 1899 г. получил звание действительного статского советника. Александр Александрович Икскуль (1840-1912) происходил из семьи командира батальона Лейб-Гвардии Преображенского полка, вместе с И.Л. Горемыкиным окончил Училище Правоведения в 1860 г. с первой золотой медалью. Два года жил и учился за границей прежде поступления на службу в министерство юстиции, с 1867 г. был обер-секретарём первого департамента Сената, в качестве камергера состоял при Великой Княгине Елене Павловне. Во время голода в Казанской губернии он отметился самой энергичной помощью населению. Служил лифляндским, харьковским и псковским губернатором.
1 апреля К.П. Победоносцев передавал И.Л. Горемыкину «письмо Тихомирова» с просьбой вернуть его.
Л.А. Тихомиров в дневнике за 22 апреля выразил полную поддержку записке ведомства И.Л. Горемыкина против Витте. Тихомиров послал К.П. Победоносцеву свою книгу «Единоличная власть» дабы побудить его поддержать И.Л. Горемыкина. По словам Тихомирова, записка МВД лучше этой книги излагала сущность Русского Самодержавия. Опровержения со стороны Витте Тихомиров считал зловредными и ошибочными. Победоносцев, однако, был против земского проекта Горемыкина [А.В. Репников, О.А. Милевский «Две жизни Льва Тихомирова» М.: Academia, 2011, с.297].
Русские монархисты продолжают поддерживать и развивать эти идеи И.Л. Горемыкина и Л.А. Тихомирова: «сильная власть наверху и развитое самоуправление внизу» [Е.В. Семёнова «Русская реакция» М.: Традиция, 2022, с.256].
Сторонник школьного классицизма И.В. Помяловский писал 20 апреля: «студенты держат экзамены, хотя и не в том количестве, в каком ожидалось. В университет их пускают по билетам». «Молодёжь ещё не вполне успокоилась и есть основание бояться, что беспорядки возобновятся и в будущем году, который, пожалуй, также пропадёт для правильных занятий, как и нынешний» [СПФ АРАН Ф.825 Оп.2 Д.169 Л.51].
А.Е. Пресняков 26 апреля 1899 г. передал жене, что у Государя Ванновский характеризовал показания студентов как порядочные, в отличие от ведомственных докладов. Николай II отвечал, что И.Л. Горемыкин и Н.П. Боголепов представляют это дело «совсем иначе!».
29 апреля Горемыкин утвердил распоряжение министра земледелия о дополнении инструкций горным управлениям о мерах предупреждения оседания почвы и образования трещин при разработке месторождений.
На отпевании и погребении члена Г. Совета адмирала К.Н. Посьета на кладбище Новодевичьего монастыря присутствовали 30 апреля Царь и Царица, а также министры, но не одни только высокопоставленные лица, но и студенты путей сообщения, члены общества спасения на водах.
2 мая МВД запретило издание «Сибирской Торговой газеты» на 8 месяцев. При том что подобные распоряжения отдавались от имени Горемыкина, решения принимались чиновниками Управления печати.
Революционер Д.А. Клеменц 3 мая писал: «студенческие дела всё также на точке замерзания. В одном Горном институте только дело в порядке. Студенты все, начиная с 5-го до второго курса включительно не ходили на экзамен поголовно» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.17 Л.25].
3 мая 1899 г. В.Н. Коковцов письменно выразил И.Л. Горемыкину глубокую признательность за предоставление для личного ознакомления составленной в МВД записки по поводу соображений Витте о земских учреждениях [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.846 Л.2].
Недоброжелатель Горемыкина Д.П. Голицын-Муравлин по слухам за май 1899 г., метил возглавить Главное управление по делам печати, а на МВД претендовал В.К. Плеве [А.П. Чехов «Письма. 1899» М.: Наука, 1980, Т.8, с.496]. По другим воспоминаниям, Муравлин стремился стать и министром [А.Р. Кугель «Листья с дерева» Л.: Время, 1926, с.45].
Горемыкин 4 мая подписал циркуляр по хозяйственному департаменту о недопустимом злоупотреблении превышением страховых сумм и двойными страхованиями имущества.
Распоряжением министра 4 мая 1899 г. журнал «Русское Богатство» был приостановлен на 3 месяца за статьи в пользу финского сепаратизма. Этому предшествовали переговоры М.П. Соловьёва с В.Г. Короленко, бывшим фактическим редактором журнала при официально указанной фиктивной фамилии. М.П. Соловьёв указывал на подобные методы обмана: «пресса всё может. Всё! Но и правительство может принимать свои меры. Я лишь советую». М.П. Соловьёв вёл обсуждение о финских законах «с серьёзной благосклонностью врача, разговаривающего с труднобольным». В записях В.Г. Короленко 9-12 апреля есть и такая фраза М.П. Соловьёва относительно доклада И.Л. Горемыкину: «Я не принимаю мер. Я только докладываю министру».
Начальник финляндского жандармского управления в 1899 г. сообщал Горемыкину о широком распространении в обществе оппозиционных настроений: «роль чинов корпуса сводится к простому донесению русской власти о замеченных внешних проявлениях сепаратизма, без всякой возможности раскрыть корень зла» [Л.В. Суни «Самодержавие и общественно-политическое развитие Финляндии в 80-90-е гг. ХХ в.» Л.: Наука, 1982, с.129].
6 мая Государь приказал приступить к отмене или ограничению ссылки, образовав комиссию под председательством министра Муравьёва с представителями ключевых ведомств. Подразумевалось также переустройство каторги, упорядочение участи ссыльных в Сибири, учреждение в качестве замены ссылки принудительных общественных работ.
На заседании Комитета Министров 11 мая Горемыкин докладывал, что представленный в цензурный комитет №4 марксистского журнала «Начало» вместе с предыдущими выпусками добивается потрясения государственного, общественного и семейного строя, а также христианского учения о бессмертии души. Фактическим, неофициальным руководителем журнала был П. Струве вместе с М. Туган-Барановским. Приятели сосланных Ленина и Крупской в этом журнале предлагали передавать детей от родителей в государственные педагогические учреждения. А.Н. Потресов там писал о преемственности марксистов с террористами «Народной воли». 3 июня журнал постановили закрыть постановлением 4-х министров [«Из архива А.Н. Потресова» М.: Памятники исторической мысли, 2007, Вып.2, с.95, 127, 133].
При Русском астрономическом обществе создали комиссию по пересмотру календаря под председательством Д.И. Менделеева. За скорейший пересмотр высказались министерства, включая ведомство Горемыкина, и направили в комиссию профессоров своих университетов. 21 мая МВД вновь разрешило печатание частных объявлений в газете «Народ».
21 мая 1899 г. К.П. Победоносцев написал Царю, что при рассмотрении использования армянским духовенством церковного имущества он не может быть беспристрастным судьёй. «Пострадает нравственное воздействие предполагаемой меры и останется на ней подозрение», чего следует избегать «в виду продолжающейся армянской смуты». Председателем особого комитета Победоносцев предложил Сольского, Муравьёва или Горемыкина, ведающего делами иностранных исповеданий. Ввиду занятости Сольского Победоносцев рекомендовал Царю обсудить с Горемыкиным и кандидатуру М.Н. Островского [РГИА Ф.1574 Оп.2 Д.243 Л.7].
По результатам расследования Ванновского и донесениям других министров, сообщал «Правительственный Вестник» 24 мая, Государь повелел выразить неудовольствие начальникам учебных заведений и преподавателям, что они не смогли приобрести авторитета, достаточного для удержания студентов, и не приступали с самого начала беспорядков к сущности выбранного ими призвания и следующих из него прав и обязанностей. Министрам, в ведении которых состоят учебные заведения, поручалось внушить своим подчинённым нравственное сознание их долга. Чинам Петербургской полиции были поставлены в вину неумелые распоряжение, сделанные 8 февраля. Также Государь напомнил, что студентов их честь должна обязывать быть первыми защитниками порядка, без которого становится невозможно их обучение.
Академик П.В. Никитин в письме барону В.Р. Розену из Москвы 25 мая назвал заявление Николая II: «Всероссийский выговор». «Кошмар печальной памяти февральских и мартовских происшествий здесь давит как-то ещё тягостнее, чем в Петербурге». Среди ошибок, допущенных университетской инспекцией при определении виновных, в этом письме перечисляется: «у нас попадали в списки студенты, сидевшие во время обструкции на лекции, и подвергались аресту убеждённые противники всяких беспорядков» [СПФ АРАН Ф.777 Оп.2 Д.311 Л.6об., 9].
Такие заблуждения дискредитировали задачу И.Л. Горемыкина по устранению из университетов носителей революционных настроений и вызывали требования вернуть всех исключённых бунтовщиков, что отменило бы достигнутые результаты борьбы с левым студенчеством.
В.К. Сергей Александрович оказался очень доволен твёрдостью правительственного сообщения о расследовании Ванновского, которого он напрасно боялся, впадая в панику из недоверия к выбранной Императором Николаем II тактике.
И.И. Янжул в письме жене прокомментировал это же сообщение, считая взятый упор на критику студентов слишком умеренным сравнительно с определением исходных вредных влияний интеллигенции и недостаточной борьбы с ними преподавателей: «финал комиссии Ванновского по поводу студенческ. беспорядков: делается внушение профессорам, всему русскому обществу и частью (!?) студентам» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.566 Л.58об.].
Виленский губернатор И.И. Чепелевский, переведённый в Витебск, 6 июня благодарил И.Л. Горемыкина за назначенное денежное пособие.
Финны собрали 1050 подписей под петицией в защиту финского конституционализма от царского манифеста 3 февраля. Горемыкин принял их делегацию 18 июня, но отклонил прошение, переправив их к Николаю II [«Le Siecle» (Paris), 1899, 23 juillet, p.2].
Н.П. Боголепов по повелению Царя 20 июня пригласил И.Л. Горемыкина на совещание 23 июня в 12 ч. в Петергофе, с обсуждением мер против студенческих беспорядков.
25 июня из Царского Села обер-прокурор писал И.Л. Горемыкину про 15-е издание книги, выпускаемой Нотовичем, которая становится «настольною» «у штундистов и толстовцев».
Хотя проблемами печати приходилось заниматься МВД, в берлинском издании 1898 г. под редакцией С.А. Венгерова вовсе не упоминалось имя Горемыкина, но объявлялось, будто Витте «более чем кто-либо из министров ненавидит независимое печатное слово» [«Самодержавие и печать в России» СПб.: Тип. А.Э. Винеке, 1906, с.15]. За 1898-1900 МВД Горемыкина 12 раз не разрешало открыть новый журнал для либеральных земцев, но отказывало также и в создании консервативной общественной организации до Русского Собрания [С.Б. Павлов «Опыт первой революции: Россия. 1900-1907» М.: Академический Проект, 2008, с.59].
Ограничениям подвергались и славянофилы. Ввиду «крайне» бестактных выступлений на политические темы в Праге полковника В. Комарова, редактора-издателя «Света», в качестве председателя Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества на апрель-июнь 1899 г., общество по прошению министра иностранных дел И.Л. Горемыкин закрыл. Последующие ходатайства побудили Императора повелеть Горемыкину отменить результаты выборов В.В. Комарова, а затем А.В. Васильева и восстановить смещённого председателя графа Н.П. Игнатьева, а с ним вернуть и членов Совета общества. 8 июля 1899 г. Горемыкин написал об этом в МИД Муравьёву [Е.П. Серапионова «Карел Крамарж и Россия» М.: Наука, 2006, с.75].
В.В. Комаров, против которого ранее подкапывался Ухтомский, в 1863 г. приезжал участвовать в русской борьбе с польским восстанием [А.Н. Мосолов «Виленские очерки. 1863-1865» СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1898, с.15].
Горемыкину часто приходилось заниматься различными вопросами выпуска периодических изданий. Редакторы обращались к нему при возникновении затруднений с цензурой. В феврале 1898 г. к Горемыкину ездил редактор «Нижегородского Листка», когда возникла путаница с разрешением статьи о земских прениях. Летом 1898 г. выход газеты «Русские Ведомости» был приостановлен на два месяца за напечатание сообщений о крупном пожертвовании в пользу духоборов через Л.Н. Толстого, «Чупров виделся потом с Горемыкиным, но тот отвечал уклончиво». [«Цензура в России в конце XIX – начале XX века». Сборник воспоминаний. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003, с.267-269].
Приходилось заботиться и о нуждах самих цензоров. По личному ходатайству Варшавского генерал-губернатора, ввиду переутомления сотрудников, в ноябре 1899 г. был пополнен штат цензурного комитета в Варшаве должностью младшего инспектора типографий [«Цензура в России» М.: РНБ, 2008, Вып.4, с.408].
Проблема цензурных стеснений может адекватно пониматься только при представлении, от чего должны были спасать Россию ограничения свободы печати. Проект о введении единомыслия Козьмы Пруткова, как и все его произведения, остался остроумной шуткой, пародией, скорее относимой к революционерам. Алексей Жемчужников писал в дневнике: нигилист «дерзок и деспотичен», «несимпатичен именно потому, что он деспот» [А.Е. Смирнов «Козьма Прутков» М.: Молодая гвардия, 2011, с.209].
Аркадий Аверченко после 1917 г. сделал своим выигрышным приёмом постоянное сравнение монархических и революционных порядков. Досталось и введённому Третьим Интернационалом демократическому рабочему контролю над производством фельетонов: «всё должно делаться открыто на виду и под контролем». Датировал начало революционных ужасов писатель отнюдь не 25-м октября, а днём свержения Николая II [А.Т. Аверченко, Н.А. Тэффи «Рассказы» М.: Молодая гвардия, 1990, с.128, 206].
В поэме «Медный всадник» Пушкина можно угадать вынуждение преклониться перед вездесущей деспотией только как пророчество и предостережение. «Ревизор» Гоголя нагляднее всего показывает чрезмерное даже отсутствие всякого принуждения и контроля в жизни подданных Империи. С частыми в биографиях поэтов неумелыми сравнениям Николая I со Сталиным разобралась даже Валерия Новодворская, расставив всех по местам. Про планы декабристов истребить Династию она пишет: «это было начало большевизма». В то время как Царская Россия была антиподом тоталитарного обмана и террора: «представьте, что К. Симонов говорит даже не Сталину, а Брежневу, что он мог бы вступить в РОА, в армию Власова», как Пушкин сказал Царю что вышел бы на площадь с декабристами [В.И. Новодворская «Поэты и цари» М.: АСТ, 2010, с.9, 354]. В СССР такое будет невозможно. А в Империи весьма благополучно могли жить те кто вступал и взаправду воевал за такие армии. Знаменитый Фаддей Булгарин до 1814 г. служил в армии Наполеона [С.С. Беляков «Тень Мазепы» М.: АСТ, 2016, с.288].
Как замечал в феврале 1895 г. предшествовавший Горемыкину министр Дурново, Императорское правительство совершенно не вело пропаганды среди населения в свою пользу. Только Святейший Синод занимался печатными изданиями духовного направления. Дурново желал учредить издательский комитет, который бы занялся изданием литературы монархического направления, но Империя и в дальнейшем в самой малой степени заботилась о саморекламе [Ч. Рууд «Русский предприниматель московский издатель Иван Сытин» М.: Терра, 1996, с.48].
Опыт СССР показал, как далека Российская Империя от тоталитарного вдалбливания своей идеологии. В Российской Империи цензура, ограничивая свободу печати, позволяла ей существовать и высказываться на все мыслимые темы. Монархисты находили, что цензурные условия ставили пределы безопасности в довольно широком пространстве позволения действия.
Василий Розанов утверждал в 1911 г., что в Российской Империи существовала чрезмерная религиозная свобода. «Вся русская литература XVIII и XIX веков могла вырасти только при условии этой страшной, хочется сказать, – дикой свободы. Тургенев как-то ответил, когда ему в споре привели одно изречение Христа, что он этого не знал, потому что «никогда не читал Евангелия». Есть такие и в католичестве, но отщепенцы от веры, враги церкви. Между тем, Тургенев ни с кем во «вражде» не состоял и ни от кого не «отщеплялся». «Жил православным и умер православным». Он «отщепился» было от молодёжи, – от гуманной, свободолюбивой и великодушной молодёжи. И какою мукою прошло по нему это «отщепление», чего оно ему стоило!! Вот синагога строгая, взыскательная». Самый популярный журнал «Вестник Европы» ни одной строки за 43 года не напечатал о православии и церкви. «Журнал имел вид издававшегося в царстве полного, уже осуществившегося атеизма» [В.В. Розанов «Террор против русского национализма» М.: Республика, 2011, с.158-159].
Страшная дикость свободы – это несомненный публицистический перегиб, вызванный чрезмерными обвинениями монархистов в притеснениях. Если выражаться более точно, права выражать свои мысли и придерживаться личных взглядов были предоставлены подданным Империи в должных размерах. Дикой беспредельности требовали революционеры для последующего принудительного внедрения своих утопических верований. Ограничения в Империи были – и только они могли спасти всех её подданных от установления социалистической тирании.
Частично её пытались начинать выстраивать уже в Империи с другой стороны, на что регулярно указывали монархисты: «большая часть печати» подвержена одной «из гнуснейших форм террора». «Писатель работает, ёжится, вступает в различные компромиссы. Пуще огня он боится “передовых” студентов» [В.Л. Величко «Русские речи» М.: Институт русской цивилизации, 2008, с.59]. Информационный террор со стороны студентов и их идейных вдохновителей явно вёл к установлению тоталитарного СССР. Все монархисты предупреждали об этом: «вот к чему ведут толпу поборники свободы на словах и на деле трусливые враги всякой свободной мысли» [А.С. Вязигин «Манифест созидательного национализма» М.: Институт русской цивилизации, 2008, с.303]. Студент Горного института в С.-Петербурге Калинин, свидетель по делу Пуришкевича в 1909 г. говорил в суде: «засилье левых организаций было ужасно, всякая свободная мысль, всякое свободное слово гнались и преследовались как черносотенные мысли» [Г.Г. Замысловский «В борьбе с ненавистниками России» М.: Институт русской цивилизации, 2013, с.39].
В частности, никакие положительные отзывы о царских министрах, даже самые справедливые, не могли быть опубликованы в прессе. Ф.Д. Батюшков 14 ноября 1904 г. объяснил И.И. Янжулу внутренние правила: «в этом пункте у нас расходятся настроения; конечно, факты остаются фактами». Но «я желал бы, чтобы эта глава о Плеве у нас вовсе не появлялась» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.2 Д.62 Л.18].
О следовавших таким принципам руководителях эмигрантского социалистического журнала историки пишут: «такая свобода запретительной критики, пожалуй, не снилась и царским цензорам!» [«Современные записки». Из архива редакции. М.: НЛО, 2014, Т.4, с.646].
В газете «Русь» «печатают лишь то, что может быть обращено против Правительства», сообщал сотрудничавший с нею Е. Шелькинг И.Л. Горемыкину [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1393 Л.98].
Полный запрет на честный политический анализ касался публикаций, посвящённых каждому министру. К.К. Арсеньев писал 10 июля 1899 г. о статье для энциклопедического словаря Брокгауза: «я только что прочитал статью [А.Р.] Свирщевского о финансах России, очень интересную. Сократил я в ней весьма немногое», «пришлось умерить похвальные отзывы о Витте» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.2 Д.36 Л.52].
Полноценное понимание расстановки сил в Российской Империи требует отхода от созданного революционной пропагандой жупела правого деспотизма и внимательного рассмотрения, насколько цензурные и иные ограничения были вызваны левым экстремизмом и предотвращали грядущий революционный деспотизм.
А он всё приближался: красное «цензурное иго», подготавливаемое такого типа левой интеллигенцией, окажется «гораздо более тяжким, чем его самодержавно-царский аналог-предшественник» [«Уроки Октября и практики советской системы. 1920-1950-е» М.: РОССПЭН, 2018, с.628].
Дезинформированные тоталитарной пропагандой жители СССР не могли понять монархистов, пока с доходящей до глупости слепой наивностью пребывали в уверенности, что «родители нынешних «рокеров» или «металлистов» не столько посочувствуют, сколько позавидуют тревогам московских пап и мам конца прошлого века: Писарев – это, может быть, и опасно, но всё же не СПИД, не наркотик» [В.В. Кавторин «Первый шаг к катастрофе: 9 января 1905 года» Л.: Лениздат, 1992, с.16].
Как утверждает тот же автор, на него самого Писарев производил почти наркотическое воздействие: оно осталось и по сию пору, уж коли путь С.В. Зубатова к жандармской службе – путь ограждения России от провала в кровавый хаос революции, активист демократического движения в последние годы СССР называет путём ко злу. Такие читатели Писарева потворствовали подлинному злу и претворяли его. Со злодействами врагов жандармов и близко нельзя поставить перестроечный рост числа «подростковых самодеятельных групп, в которых проповедуется культ силы и насилия, объединившихся, по сути дела, на почве нарушений общественного порядка» [Ю.И. Римаренко «По следам «снежного человека» (о причинах национализма в СССР)» М.: Молодая гвардия, 1989, с.126].
Революционно-интеллигентский культ насилия среди молодёжи приводил к убийствам Царей, министров, губернаторов, жандармов – чего и близко не творили люберы, рокеры и наркоманы Советского Союза и РФ.
Д.И. Писарев писал в 1862 г. для подпольной типографии: «низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан». Не желать революции для Писарева – значит быть подкупленным или дураком, с чем согласны советские “историки” [Б.И. Есин «История русской журналистики (1703-1917)» М.: Флинта, 2000, с.305].
Наиболее эффективным оружием нейтрализации преступной активности таких “честных” людей, как и предсказывал П.И. Рачковский, становилась внутренняя агентура.
Надо воздать должное героизму и смелости агентов охранных отделений, рисковавших жизнью ради защиты благополучия Империи при министре И.Л. Горемыкине. Крестьянин Василий Карпович Чистов начал работать на Департамент Полиции в 1894 г. в интеллигентских кружках. В 1896 г. в Кронштадте он раскрыл революционный комитет и склад нелегальной литературы, в 1898 г. сдал тайную типографию на Васильевском острове. В 1905 г. вошёл в боевую дружины и раскрыл 2 склада бомб и оружия в разных районах Петербурга и склад оболочек для бомб. По его указанию был задержан убийца помощника Путиловского завода, в Туле был арестован террорист с «транспортом револьверов», потом – ещё один большой склад бомб в столице, и только после этого Чистова раскрыли в качестве осведомителя полиции [П.Е. Щеголев «Охранники и авантюристы. Секретные сотрудники и провокаторы» М.: ГПИБ, 2004, с.194-195].
Придуманная революционерами абсурдная бранная кличка “провокатор” создавала ложное представление, будто агенты полиции инициируют отвратительные явления революционной борьбы, а не предотвращают человеческие потери и ограничивают наркотический эффект революционной литературы, толкающей на повторение политических преступлений.
Среди множества несостоятельных причин увольнения Горемыкина из МВД часто используют легенду, будто Витте победил его в битве документов по ведению земства и трактовках самоуправления. Это далеко не так.
Смешно, но левый историк Кирилл Соловьёв записал Горемыкина в противники «настоящего бюрократического режима управления», ибо «по его мнению, российская государственность, как и прежде, должна иметь в своём основании органы местного самоуправления» [К.А. Соловьёв «Кружок «Беседа» в поисках новой политической реальности» М.: РОССПЭН, 2009, с.24].
Поразительно, как до такого вздора можно додуматься: хочет сохранить существующий строй – значит враг режима. Логичнее думать наоборот, как поступал П.Б. Струве, отождествляя не Витте, а Горемыкина со всем русским правительством: «нас удивляет, как д. т. с. Горемыкин не назначил после этих речей полицейского надзора над статс-секретарём Витте и не распорядился арестовать». Витте «гораздо более, чем г. Горемыкина, следует лишить портфеля ради охраны самодержавия».
Струве считал мечту Горемыкина примирить Самодержавие и земство более реалистичной, чем у Витте, но не соглашался с «Аннибалами» Ленина, что земство служит укреплению Самодержавия – ведь тогда получится, что Горемыкин прав.
Насколько знал Струве, В.К. Плеве называл Шипову эту записку «средством устранить Горемыкина», а на самом деле Витте – наибольший сторонник земства в правительстве. Струве сожалел, что не может опубликовать обе записки Горемыкина – первую и ответную на записку Витте.
Через четверть века П.Б. Струве напомнил, что Витте в начале Царствования Николая II поддерживал правую политику МВД по крестьянским делам, но к 1899 г. «стал обходить слева» И.Л. Горемыкина [«Возрождение», 1926, 19 октября, с.1].
Витте, по позднейшему выражению А.М. Масленникова, «не стеснялся никакими средствами», «когда в лице И.Л. Горемыкина ему пришлось столкнуться с соперником». Симпатии монархистов клонились определённо не в пользу Витте, чья «продажная тактика» симулировала дискуссию мнимо «принципиального значения». Заказанная Витте записка в глазах монархистов не только не верна, но и заведомо нечестна [«Высший Монархический Совет. Еженедельник», 1924, 7 сентября, с.2].
Записка Витте была написана И.Я. Гурляндом, а доводы в защиту позиции Горемыкина – С.Е. Крыжановским.
В. Маклаков в эмигрантских мемуарах поддержит левый тезис Витте о несовместимости земства и Самодержавия. Заблуждаются все противники монархистов, считая учреждение земства продуктом либерализма, а не Самодержавия. В самоуправлении нет ничего либерального, когда оно решает сугубо хозяйственные задачи. Заниматься благоустройством своего дома не значит быть либералом. Никакого отношения к утверждению конституционализма или демократии земство иметь не может. Борьба Самодержавия велась с либералами в земстве, когда они извне вносили вредную пропаганду в работу самоуправления. Но не было борьбы с самим земством.
В сумбурно невразумительных записях Ключевского усматривается мнение, что записка Витте игнорирует потребности общества в удобном для него управлении: «нет, вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами» [В.О. Ключевский «Сочинения. Материалы разных лет» М.: Мысль, 1990, Т.9, с.426].
В письме Победоносцеву Витте комментировал свою записку, что не идёт разговора об уничтожении земства, а только о пагубных последствиях его распространения. «Для этого нужно ничего не делать», – предлагал Витте, бурную активность которого ложная политическая мифология противопоставляла якобы бездеятельности Горемыкина. Интриган Витте обвинил Горемыкина, будто МВД «не сумело держать организационно своей администрации на высоте» из-за чего и решило искать «спасения в земстве» [РГИА Ф.1574 Оп.2 Д.145 Л.31 об.].
Проект Горемыкина заботился о более результативной постановке дел, а не вопил о грядущей погибели. Помеченная февралём 1899 г. записка МВД в пользу введения земского самоуправления указывает, что городские и земские учреждения, волости, гмины и сельские общества, казачьи станицы «и разнообразные сословные союзы» образуют сплошную сеть, являя «устои, на которых зиждется вся система государственной администрации». В записке говорится что местные хозяйственные интересы, которыми занимается самоуправление, являются государственными интересами, попытки разделения которых исходят из ложных понятий. Так совпадают частные и государственные интересы.
Во имя общего хозяйственного благополучия бюрократия заинтересована в децентрализации управления, повышающей эффективность работы. Бюрократия и самоуправление одинаково являются органами государственной власти и имеют общий источник Самодержавной Верховной власти.
В вину Петру I ставится ослабление местного самоуправления и чрезмерность контроля из какого материала строить дома и печи, из какого дерева – гробы, чем возделывать землю, из чего делать обувь, какого покроя платье носить; запрещались бороды, предписывалось, сколько лошадей какому чину полагается.
Абсолютистские заимствования Петра I нарушали принципы русского национализма и Самодержавия. После отмены крепостного права земство заменило его, объединив разрозненное население (помимо сословной корпоративности в структуре неравенства).
В качестве авторитета, записка МВД ссылается на мнение К.П. Победоносцева 30 октября 1898 г.: «при крайней сложности задач управления, лежащих на государственной власти, не может не быть желательно устройство местного самоуправления».
Переходя в наступление, записка обвиняет С.Ю. Витте, помимо ошибочных трактовок самоуправления, в недостаточном финансировании надзора над земским и городским самоуправлением, которое должно устранить его недостатки.
«Витавшая в некоторых полуобразованных слоях общества революционная мысль» пыталась найти себе союзников даже в казачьем самоуправлении, которое тем не менее, следует поддерживать, а не переходить на позиции левой пропаганды.
Записка, излагающая позицию МВД, в земском деле опиралась на преемственность с предшествующими министрами – П. Валуевым и Д. Толстым против социалистического ведения чиновниками хозяйственных дел. Государственное управление экономикой монархисты отвергают как общее правило. Что только подтверждают специфические исключения, как пример казённой виноторговли ввиду негативных сторон алкоголя сравнительно с товарами безвредными.
Для преобразования Хозяйственного Департамента в Главное Управление у министерства Горемыкина были те же основания, что использовал Витте для образования Гл. Упр. неокладных сборов и казённой продажи питей.
Прежде введения земства в Западном крае МВД опросило губернаторов. Генерал-губернатор Игнатьев и Троцкий высказались против новых учреждений. Генерал-губернатор Юго-Западного края Драгомиров – за. 9 губернаторов поддержало Драгомирова.
МВД не видело революционной активности в крестьянских слоях населения Польши, и политическими последствиями новых учреждений в министерстве видели только укрепление русского единства с Польшей.
«Основой действительной силы всякого государства, какова бы ни была его форма, есть развитая и окрепшая в самодеятельности личность».
«Чем более развита личность, чем прочнее укрепились в ней привычки самостоятельно, без посторонней помощи, устраивать своё благосостояние, тем более устойчивости имеет весь общественный, а за ним и государственный строй».
Горемыкин продвигал самые правые, противоположные социалистическим принципам идеи. Для предотвращения революционной смуты России нужны были сплочённые силы, слитые «в одно целое долгой привычкой к устройству своих земских и общественных дел, а обезличенные и бессвязные толпы населения – людская пыль…» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.247 Л.40-78].
Горемыкин предлагал смешанную систему выбора гласных при назначении от правительства в исполнительных органах. Систему нашли неподходящей из-за введения контроля выборных собраний над правительственными органами. Проект Горемыкина затрагивал 13 неземских губерний [П.А. Столыпин «Избранное. Речи. Записки. Письма» М.: РОССПЭН, 2010, с.47, 436].
Вводить земства Горемыкин планировал начиная с Архангельской губернии, а Витте отвечал что не видит положительных экономических последствий.
Сотрудники Витте нашли одну из резолюций Императора за 1897 г.: «по-моему, введение земских учреждений в западных губерниях несвоевременно». К такому мнению Царь пришёл к концу 1897 г., хотя прежде поддерживал проект Горемыкина, высказывался за него и в дальнейшем.
24 февраля 1899 г., вернув И.Л. Горемыкину записку МВД о земстве, К.П. Победоносцев откомментировал: «в сущности она не против записки Витте. Я думаю не стоило опровергать так пространно его мысли о сопоставлении земства с конституцией – а этому посвящено едва ли не больше половины записки».
Д.С. Сипягин на совещаниях весной 1901 г. утверждал, что Государь поручил ему скорейшим образом разработать окончательный проект ведения земств на окраинах. Получается, что Николай II стоял на точке зрения И.Л. Горемыкина, а значит, его увольнение не является победой Витте в битве документов.
Введение всё же затянулось. Дмитрий Сипягин назвал преждевременным введение земств и подготовил проект ведения земских дел чиновниками МВД.
Среди интеллигенции записки активно обсуждались прежде заграничного издания. 5-6 января 1899 г. Горькому пришла по нраву позиция Витте: «как смело залез в чужое министерство и дело», – главное что назло Горемыкину. А в 1901 г. В.Г. Короленко в дневнике отметил решительную победу Витте [М. Горький «Письма» М.: Наука, 1997, Т.1, с.303, 563].
А.А. Половцов, видимо, в ожидании перемены в МВД, зачастил подбивать итоги. 11 июня 1899 г.: «Горемыкина не защищают более самые горячие его приверженцы. Он думает только о сохранении казённой квартиры и от всех сотоварищей получает пощёчины. Главным врагом его является Витте, в особенности за отказ созвать крестьянскую комиссию, а также за университетское дело. Следствие, произведённое Ванновским, служило тяжким обвинением для градоначальника Клейгельса, а между тем Горемыкин представил государю о его награждении. Ванновский объявил, что, если Клейгельс получит просимую награду, то он, Ванновский, снимет военный мундир и никогда более в Петербург не покажется».
Разбор событий февраля 1899 г. не дал никаких тяжких обвинений в адрес Клейгельса. Полиция получила критические замечания от Государя за некоторые действия, т.к. не была неприкасаемой и её действия не признавались абсолютно неподсудными.
Так будет и чуть позже при Сипягине, когда Клейгельс призывал потерпевших от действий полиции обращаться к нему с жалобами [Н.Ф. Финдейзен «Дневники. 1892-1901» СПб.: Дмитрий Буланин, 2004, с.272].
Должность настолько приросла к его имени, что С.П. Дягилев шутил: никто не скажет просто Клейгельс, говорят «градоначальник Клейгельс», как его зовут всегда «декадент Дягилев».
17 июня 1899 г. Половцов продолжает: «Горемыкин. Образованный юрист, долго служащий в администрации и преимущественно по крестьянскому делу, человек умный, честный, но… беспредельно ленивый, равнодушный, влюблённый в выгоды и удобства высокого положения, о коем не смел и мечтать». Половцов сам не переставал мечтать о положении министров Ермолова, Боголепова и других, о ком писал в дневнике завистливо и мелочно. Именование Горемыкина честным указывает на незнание или опровержение Половцовым легенды о злоупотреблении служебным положением. При наличии оснований Половцов, как пишет М.Л. Казем-Бек в дневнике за 1891 г., «вопил» об обвиняемых в воровстве и мошенничестве
Обвинение во взяточничестве или использовании служебного положения в личных целях, насколько известно, не предъявлялось Горемыкину при жизни печатно. Советские историки десятилетия спустя с трудом нарыли намёки от оголтелых сторонников Витте, будто министр внутренних дел Горемыкин и петербургский градоначальник Клейгельс «обеспечивали» по повышенным ценам пожарные команды С.-Петербурга сеном и овсом из своих имений. Дрова для отопления полицейских учреждений также поставлялись из их поместий. С единственной ссылкой на записки фон Валя наряду с этим сообщалось и о миллионных будто бы взятках, которые обещало строительство окружной железной дороги вокруг С.-Петербурга [П.А. Зайончковский «Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в.» М.: Мысль, 1978, с.104-105].
Относительно фон Валя можно припомнить, что тот не был сторонником министра. «А, Горемыкинские распоряжения», — вспоминают такие пренебрежительные отзывы фон Валя о принятых мерах улучшения быта заключённых. Сплетни, собираемые фон Валем, какие с удовольствием публиковал и Р.Ш. Ганелин, не находят никаких подтверждений. На ненадёжность их указывает и возможность легко установить бесспорные ошибки, допущенные в таких сплетнях относительно причин замены Горемыкина Сипягиным. Владимир Гурко, недолюбливавший И.Л. Горемыкина, признал несостоятельность надуманных обвинений в коррупции: «Свои личные дела Горемыкин вёл превосходно. Будучи безусловно честным человеком, он, однако, составил себе к концу жизни прекрасное состояние исключительно бережливостью и хозяйственностью».
Забавная зарисовка на этот счёт есть в письме юной родственницы И.Л. Горемыкина за 1905-6 г., с упоминанием революционных беспорядков в Псковской губернии: «Дорогой дедушка», «все мои предположения разрушились, у тебя нет ни белых лебедей, ни оленей, ни чудесного дворца и вообще всего что я себе думала. Даже нет удобного дома чтобы принимать гостей и из-за этого я не могу приехать к тебе» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.205].
Писатель, склонный демонизировать Витте, считает: «Сергей Юльевич деньгами не брезговал, какими бы они ни были. Например, Иван Логинович Горемыкин, министр внутренних дел, а позже председатель Совета министров никогда не брал пятидесяти тысяч, которые полагались министрам для бесконтрольного пользования» [В.А. Бахревский «Савва Мамонтов» М.: Молодая гвардия, 2000].
В.К. Саблер 3 июля 1899 г. писал И.Л. Горемыкину: «только что виделся с гр. Н.П. Игнатьевым. Он будет очень рад переговорить с Вами о делах Славянского Общества в Петербурге».
15 июля Николай II подписал в Петергофе рескрипт на имя Горемыкина, в котором поручалось передать всем сословиям Империи признательность за выраженные соболезнования о кончине Цесаревича Георгия Александровича. Его прежде некоторые французские роялисты желали видеть Королём Франции. По воспоминаниям С.В. Завадского, редакции манифеста о провозглашении Наследником Михаила Александровича обсуждали К.П. Победоносцев, отец Завадского и Б.В. Фредерикс. Считалась проблемной необходимость дачи присяги, которая потом будет отменена при рождении сына Царя.
В.К. Саблер 23 июля прислал ещё одно ходатайство, на этот раз за назначение инженера Валинского.
24 июля в МИДе состоялся состоялся парадный обед в честь французского министра иностранных дел Делькассе. По правую руку от него сидели И.Л. Горемыкин и П.П. Гессе, по левую – Витте и вице-адмирал Авелан. Присутствовали граф М.Н. Муравьёв, его заместитель В.Н. Ламздорф, генерал А.Н. Куропаткин. 25 июля состоялся обед у французского посла графа Монтебелло, также с участием Горемыкина и других министров.
С.Г. Щегловитов 24 июля написал И.Л. Горемыкину, что узнал об учреждении в МВД чиновников особых поручений по дорожным делам. Этого удалось добиться от Витте. С.Г. Щегловитов просил назначить одного из этих чиновников делопроизводителем по дорожной части.
Император 29 июля утвердил временные правила, выработанные на совещании министров Горемыкина, Боголепова, Ермолова, Витте, Куропаткина и Муравьёва. «За учинение скопом беспорядков» и за возбуждение к ним, за сговор к массовому уклонение от занятий студенты подлежали отчислению из учебных заведений и мобилизации на военную службу на 1, 2 или 3 года, независимо от возраста, семейного положения и образования. По состоянию здоровья при неспособности к службе допускалось определение на нестроевые должности. Решение о таком отчислении принимало совещание из попечителя учебного округа, преподавателей и представителей от министерства внутренних дел, юстиции и военного. Министр, в ведомстве которого находится учебное заведение, принимает окончательное решение, которое исполняется немедленно и не подлежит обжалованию. После прохождения службы предоставляется право поступить на государственную службу или в учебные заведения.
Комментируя этот закон, революционная печать обозвала Царя слабым и несведущим, которого министры отрезали от правды и «подсунули» правила, которые будут иметь роковые последствия. «Жандармерия и во главе её Горемыкин специально хлопотали о том, чтобы провоцировать волнения и оправдать этим не только свои гнусности, но и своё существование».
Недовольство этим законом некоторые пытались связать с последующей отставкой Горемыкина. Но все эти россказни были далеки от действительности.
С.В. Завадский вспоминал, что его отец, временно заменявший Н.В. Муравьёва в управлении министерством юстиции, летом 1899 г. участвовал в совещаниях, подгототавливавших временные правила 25 июля. Они проходили у Горемыкина на Аптекарском острове, с Витте, Боголеповым, Ермоловым и Куропаткиным. Докладывал вице-директор Департамента Полиции Семякин. Против сдачи в солдаты участников беспорядков возражали В.Р. Завадский и А.Н. Куропаткин, отстаивая честь Армии и не желая видеть в ней врагов Империи. Однако Горемыкин, выдвигая задачи борьбы с революционерами, сослался на одобрение такой меры Царём. Ермолов был не согласен с отдельными статьями, а Победоносцев выражал недовольство, что его вообще не позвали на это совещание, хотя у Синода в попечении много студентов. Следует иметь ввиду, что В.Р. Завадский (1840-1910), на мнение которого ссылается его сын, не сам излагает эту историю, а мемуарист с чужих слов пересказывает события более чем 20-летней давности. По его версии, опубликованные правила были смягчены благодаря сторонникам В.Р. Завадского, который не имел права личного доклада Государю без его вызова.
В общих чертах всё так и могло происходить, в чём нет никаких оснований для укоров И.Л. Горемыкину. Но С.В. Завадский почему-то решил что это хоть как-то компрометирует министра. Абсурдные основания для недовольства Горемыкиным оппозиционно настроенный мемуарист приводит и в несколько других примерах: «завёл себе артистически исполненный гриф, и я сомневаюсь, чтобы он сам ставил его под бумагами вместо собственноручной подписи». Можно только похвалить Горемыкина за рационализацию труда и избавление от лишних механистических формальностей. Этот факт подтверждается другими свидетельствами, как и ссылка на позднейшее разочарование Победоносцева в Горемыкине. В другом издании утверждается что в 1917 г. при освобождении из-под ареста, И.Л. Горемыкин напомнил С.В. Заводскому, что имел отличные взаимоотношения с его отцом.
Следующие примеры продолжают свидетельствовать за Горемыкина и против Завадского. Он называет сенатора Окулова товарищем Горемыкина по Училищу Правоведения. Следует уточнить, что Н.М. Окулов (1835-1899), будучи несколько старше, относится к 16-му выпуску Училища, за пять лет до Горемыкина. Окулов рассказывал, что на просьбу разрешить основать в Киеве частное музыкальное училище Горемыкин дал согласие. Но к Окулову обратились с просьбой отменить для этого учебного заведения еврейскую процентную норму. Горемыкин согласился с Окуловым, что «главным контингентом учеников будут, конечно, евреи». Но процентную норму, тем не менее, оставил. С.В. Завадский почему-то увидел тут невнимательность Горемыкина, который якобы утвердил дело, не вникая в него [С.В. Завадский «На пути к революции» // «Руль» (Берлин), 1921, 9 декабря, с.2].
Но если знать Горемыкина, то скорее тут можно увидеть сознательную поддержку русских интересов в намеренной принципиальности отстаивания справедливой еврейской нормы. Нужно иметь не русскую, а еврейскую оптику мышления, чтобы увидеть какой-то иной смысл в данном примере. Русские национальные принципы Горемыкин не променял на удовлетворение чьих-то личных просьб, панибратство и блат. Снова действия министра заслуживают полной поддержки.
Совсем несерьёзен ещё один эпизод, переданный через В.Р. Завадского от Великого Князя Михаила Николаевича: об отсутствии И.Л. Горемыкина при рассмотрении одного законопроекта МВД. По словам его заместителя, князя Оболенского, из-за неотложной работы. А председатель Г. Совета по пути на собрание видел что Горемыкин на Морской выгуливал болонку. Такой чисто бюрократический анекдот является просто забавной историей, в нём невозможно увидеть какую-либо политическую характеристику.
Статья С.В. Завадского в грубо-антимонархическом «Руле», издании идеологов к.-д. партии, включает и одну зарисовку, будто бы свидетельствующую, о “преступном” безразличии И.Л. Горемыкина, хотя при здравом рассмотрении в ней обнаруживаются совершенно иные качества министра: честная неподкупность, принципиальная законность и всё в том же духе. Сын иркутского губернатора, А.А. Горемыкин оказался в длинном перечне разочарованных. Подобно К.П. Победоносцеву, племянник министра решил, что в силу личных близких отношений, И.Л. Горемыкиным можно манипулировать и добиваться от него желаемого. «Во время завтрака у министра на даче племянник стал просить за одну курсистку, неправильно, по мнению его, привлечённую и арестованную жандармами; дядя сначала отмалчивался, а затем сказал равнодушно: “Что же, мне, по-твоему, всю систему из-за паршивой девчонки менять?”». С поправкой что мемуарист, конечно, исказил подлинные слова Горемыкина, перелагая чужой пересказ, неуступчивость министра в борьбе с революционерами заслуживает восхищения. Пережив неудачу в попытке коррумпировать И.Л. Горемыкина, племянник перестал посещать его.
По воспоминаниям Витте, Горемыкин в августе 1899 г. выехал в Англию с инженером Балинским, агентом тайной полиции Ляшенко. В Париже к ним присоединился Рачковский. Масон В.П. Обнинский явно не выдумал сам, а просто повторил сплетню, будто Горемыкина уволили из-за отношений с английским капиталистом Джексоном, якобы дававшим взятки на строительство метро в СПб.
Доверять можно только тому, к чему лично В.П. Обнинский имел прямое отношение, к примеру, М. Косинская писала 12 декабря 1911 г. из Франции: «мне пришлось раньше ещё слышать от Обнинского, когда ему приходилось отсиживать, как депутату 1-й Госуд. Думы, что в Тверской тюрьме условия гораздо лучше, чем в Московской напр.» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.238 Л.48об.].
Решение о назначении Д.С. Сипягина Император Николай II принял до поездки И.Л. Горемыкина к Джексону, Обнинский поверил в не существующую логическую связь между последовательностью событий. Находившийся в стороне Обнинский не мог ничего достоверного знать и о взятках, зато полученный им опыт тюремных отсидок после провальной борьбы 1-й Г. Думы с И.Л. Горемыкиным показывает его мотивацию в распространении дезинформации.
Поэтому надо как следует рассмотреть содержание писем П.И. Балинского для выяснение действительного характера его отношений с И.Л. Горемыкиным.
Первое сохранившееся письмо инженера П.И. Балинского датировано 9 марта 1899 г.: «присылаю Вам, согласно Вашему желанию, весьма интересный труд о прорытии Морского канала между Ригой и Херсоном, который я получил в бытность мою в Париже, и, пользуясь случаем, я считаю долгом довести до сведения Вашего Высокопревосходительства, что после свидания моего с Вами я получил одну за другою несколько телеграмм от Zaharoff’а из Парижа, в которых он меня настойчиво спрашивает, в каком положении наше дело? В последней же телеграмме он пишет мне, что теперь единственное свободное для него время приехать в Россию, а потому он требует от меня категорического ответа, в каком положении наше дело – и тогда он немедленно же выезжает в С.-Петербург вместе с Sir’ом John’ом Jackson’ом». «Я счёл своим долгом немедленно сообщить об этом Вашему Высокопревосходительству, так как для меня, побывавшего в Лондоне и наслышавшегося о богатствах, энергии и силе Sir’а John’а Jackson’а, приезд последнего вместе с Zaharoff’ым в Петербург является фактом весьма знаменательным и подтверждающим их более чем серьёзное намерение в отношении осуществления предприятия Круговой железной дороги. Кроме того, приезд их указывает мне на то обстоятельство, что, по всем вероятиям, они пойдут в этом деле на большие уступки в отношении Правительства, лишь бы дело это окончить в возможно скорейший срок.
Ваше Высокопревосходительство! Я создал идею проекта Круговой железной дороги в той форме в какой она выражена в поданном мною Вам прошении; я объездил почти всю Европу для того, чтобы найти тот страшный капитал, который необходим на осуществление этого грандиозного предприятия. Я всё это сделал с потерею массы времени, труда, здоровья и денег. Мне пришлось выносить страшные щелчки самолюбию от всевозможных лиц, даже за границею, где надсмехались надо мною, уверяя меня при этом, что вряд ли когда-либо я найду людей, желающих рисковать такою страшною суммою и взять на себя ответственность по осуществлению этого грандиозного предприятия. Я далёк от мысли, чтобы мой проект представлял собою совершенство, но с Божьей Милостью и при большой настойчивости, не жалея ни труда, ни времени, я добился-таки своего и нашёл людей, не только решившихся взяться за его осуществление, но – людей с громадным именем, безукоризненной репутацией, а главное – обладающих несметными богатствами, одно имя коих заставило бы всякого капиталиста, смотревшего раньше на это дело скептически, сильно удивиться» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.389 Л.2-7].
Подробное письмо Балинского позволяет опровергнуть посторонние вымыслы о коррупционных мотивах И.Л. Горемыкина. Балинский не добивался каких-либо уступок от правительства в пользу Захарова и Джексона, а обещал обратное с их стороны. Балинский утверждал, что действует исключительно из патриотических соображений, ради которых даже жертвовал собственными финансовыми интересами. И действительно, общее экономическое благополучие подданных Императора Николая II в значительной мере зависело и от привлечения иностранного капитала, его вклада в развитие России. Создание положительного инвестиционного климата – весьма важная политическая задача. Традиционно в этом направлении прилагает старания любое правое правительство, а левые социалисты действуют в противоположном разрушительном направлении.
Балинский далее писал что осуществление проекта теперь зависит «главным образом от Вас и Ваших Высоких Товарищей», полагая что плюсы замысла имеют «значительный перевес над его слабыми сторонами», обещая «громадные выгоды С.-Петербургу», «великую службу и всей России». Однако к марту 1899 г. в правительстве группа противников И.Л. Горемыкина во главе с Витте использовала любой повод для нападения на министра внутренних дел. Поэтому дело зависло.
16 апреля 1899 г. П.И. Балинский написал новое письмо И.Л. Горемыкину, напоминая о его обещании уведомить о решении правительства письменно через градоначальника Клейгельса. «До сих пор я вышеозначенного уведомления не получал, и потому не мог уведомить о состоявшемся постановлении моих компаньонов B. Zaharoff’а и Sir’а John’а Jackson’а. Между тем, как обстоятельства дела вызывают необходимость в принятии решительных и энергичных мер по поводу некоторых приобретений для этого, как-то: немедленной покупки водопада и закупка некоторых необходимых земель, так как при современном положении дела, главным образом, успех всего предприятия зависит только от своевременной покупки всех вышеуказанных мест. В настоящее время вопрос о покупке водопада поставлен владельцами его прямо-таки ребром, между тем как B. Zaharoff и Sir John Jackson заявили мне категорически, что всякого рода приобретения для Круговой железной дороги будут совершаться ими не иначе, как после официального письменного уведомления со стороны Вашего Высокопревосходительства о том, что Государю Императору благоугодно было выразить своё согласие на выдачу концессии».
Такого согласия получено не было, и следующее письменное сношение касается уже совместной поездки в Лондон. 14 сентября 1899 г. П.И. Балинский пишет: «при последнем моём посещении Вы изволили высказать мне, что Вы не имеете ничего против моей поездки с Вашим Высокопревосходительством в Париж и Лондон, причём, Вы изволили высказать мне, чтобы я числа 10-го сентября позвонил бы Вам в телефоне, так как Вы в этот день изволите прибыть в Петербург. Исполнив Ваше приказание – я узнал, что Вы изволили уехать на два дня в Псков и только сегодня вернётесь оттуда после чего изволите поехать за границу во вторник или среду». Балинский спрашивал точное время отъезда и на какой поезд ему взять билет. В следующих письмах виновником срыва предприятия Балинский прямо будет называть С.Ю. Витте.
В недатированном письме, написанном уже по возвращении Горемыкина в С.-Петербург Балинский благодарил за «невероятное добро, которое Вы мне оказали в моём деле – Вашим посещением Англии». «Это безусловно лучшие дни в моей жизни». «Состоится моё дело или нет, это знает только один Бог», но оно «находится в руках серьёзных людей» «благодаря Вашему огромному такту, Вашему необъятному кругозору и чисто патриотическому сочувствию». «Высказанное Вами сочувствие дороже всего мне в жизни».
Владимир Гурко видел в проекте Балинского «значительные достоинства» и вспоминал о его поддержке Императором Николаем II, Д.С. Сипягиным, М.Ф. Кшесинской. По воспоминаниям Гурко, огромный размер иностранных капиталовложений в строительство должен был составлять заоблачную сумму в 380 млн. руб. Взамен требовалось согласиться только на беспошлинный провоз строительных материалов, на что Витте дал отказ, хотя не понятно что он выигрывал для России, не получая в результате такого упорства ровно ничего.
Компетентное специализированное издание биографий предпринимателей излагает историю Балинского таким образом: «огромный проект» метрополитена в СПб. в 1898 г. был представлен Клейгельсу, который его поддержал и передал Горемыкину, предложившему его Николаю II. Комиссия Сольского нашла что проект полезен городу, «в особенности в вопросе об удешевлении жизни среднего и беднейшего классов населения города». Балинский сумел найти в Англии капитал в 290 млн. руб. на устройство метро, «это целая эпопея». Приехав в Россию, эти англичане (т.е. Захаров) предложили 25 млн. руб. в качестве первого залога. Но «по странной случайности» их условия были отклонены, «когда Министр Финансов был в весьма затруднительном положении найти 120 миллионов рублей для внешнего Государственного займа». Утверждения Балинского о трате им крупных сумм подтверждаются на примере проекта московского метро, который обошёлся в 210 тыс. руб. [«Русский торгово-промышленный мир» Б.м., 191?].
О замене Горемыкина стало известно, когда министр всё ещё находился в заграничном отпуске, «он прислал своим родным телеграмму, не знаю искреннюю ли, но, думаю, что да, судя по характеру Горемыкина — «Поздравьте, наконец меня освободили». У нас в отделе все, за исключением двух-трёх непримиримых правых, были искренно огорчены предстоящей заменой; образованный и корректный во всех отношениях Горемыкин был уважаем и любим. Прощался он с чинами министерства в Большой зале его близ Александринского театра; зал был переполнен чиновниками; некоторые, в том числе особенно Савич, плакали» Сотрудник Земского отдела МВД называл Горемыкина человеком высоких умственных и нравственных качеств, а Д.С. Сипягина – не подготовленным к деловой работе ретроградом [В.Ф. Романов «Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний» СПб.: Нестор-История, 2019, с.114, 151].
Недооценка достоинств Сипягина опрометчива. Зато вполне достоверно, что Горемыкин в полном соответствии с представляемой им монархической идеей не добивался власти, не держался за неё и был рад передать её человеку, более востребованному Царём, чем он. В частности, способному к налаживанию отношений с Витте. Ивану Горемыкину повезло, что он ушёл из МВД прямо перед возобновлением террора. В противном случае убийца мог настигнуть его в том же 1902 г.
Согласно ещё одной глупой версии, увольнение И.Л. Горемыкина в 1899 г. определило его «упрямое стремление во имя принципа «всё обстоит благополучно, когда я, Горемыкин, состою министром внутренних дел», затушевать постигший Россию неурожай» [А. Островцов «Последние могикане старого строя» М.: Воля, 1917, с.72].
Это пересказ мифических сообщений иностранных газет о вражде Горемыкина с Витте: Императору был представлен доклад МВД, опровергавший сообщения о голоде в провинциях, а Витте изготовил подтверждающие документы. Согласно газетной клевете, когда это выяснилось, Горемыкин упал на колени перед Царём и просил простить его. «Министр был так разбит, что Император сам протянул ему стакан воды» [«Victoria Daily Times» (Canada), 1906, May 3]. Дословно одни и те же легенды о Горемыкине повторялись во всех газетах: вымышленный стародавний либерализм, несуществующая протекция Императрицы Марии Фёдоровны, сказочная версия о голоде и борьбе с Витте. Кроме его официальных должностей, ни слова правды о Горемыкине выудить из новостных известий западной прессы невозможно. Очень экзотично выглядит даже сообщение о его Новгородском поместье: «Горемыкин практически снабжает столицу молоком». «Отправляемые им молочные продукты славятся отличным качеством» [«The New York Daily Tribune», 1906, May 3, P.4].
В начале 1900 г. сообщение В.И. Ковалевского об отставке Горемыкина записывали следующим образом: «до отъезда царя за границу он [Горемыкин] выразил ему желание ограничить права земских начальников. Царь пожелал отложить реформу до своего возвращения, а из-за границы неожиданно уволили его от службы». Надуманные мотивы увольнения различаются в разных версиях, но легенда о неожиданном увольнении остаётся неизменна [М.М. Ковалевский «Моя жизнь. Воспоминания» М.: РОССПЭН, 2005, с.494].
Среди чиновников ходило мнение, будто Император увольнял министров по телеграфу, дабы избегнуть тяжёлых объяснений. Так, Е.Н. Шелькинг писал, что Горемыкин узнал об отставке в Вержболово от начальника станции, возвращаясь из путешествия за границей [«Историк и современник» Берлин, 1922, Вып.3, с.204].
Это совершенно неверно. В самом деле, сперва 6 августа Император предложил МВД Сипягину: «считаю для себя решение этого назначения чрезвычайно важным». 12 августа 1899 г. в дневнике Императора записано: «разговор с Горемыкиным о его уходе прошёл легко и просто!». Витте потом не поверит рассказу Горемыкина об этом дне, и ошибётся.
Дневник опровергает все ложные версии увольнения, включая мелодраматические колепреклоненные падения. Не редкий случай, когда правда о Царской России, Николае II и Горемыкине диаметральна противоположна злонамеренной лжи.
Владимир Гурко, высокомерно раздавая И.Л. Горемыкину пренебрежительные характеристики, показал наивнейший самоуверенный апломб своих мемуаров, рассчитанных на иностранцев: «увольнение было для него страшным ударом и притом совершенной неожиданностью». Зная про несостоятельность обвинений в коррупции, Вл. Гурко вообразил, будто Горемыкин совершил ошибку, покинув С.-Петербург. Мемуарист в данном случае, как и во многих других, несомненно недооценил уровень его политического искусства, решив, будто Горемыкин допустил какой-то просчёт.
Зная что его ждёт, Горемыкин ничего не терял, уезжая за границу.
Горемыкин отсутствовал довольно долго. 13 августа 1899 г. из Киева Милюков по телеграфу отправил министру прошение о дозволении приехать в Петербург и дать объяснение в МВД. 27 августа Милюкова принял директор Департамента Полиции С.Э. Зволянский, который объяснил, что ему запрещено появляться в Москве, но насчёт Петербурга может решить Горемыкин по возвращении из Западной Европы. 4 ноября уже от Сипягина Милюков получил разрешение на постоянное проживание, до того пользовался временным.
А. Мосолов 16 августа обращался к И.Л. Горемыкину с рекомендацией в пользу цензора, д.с.с. И.М. Литвинова. Получив согласие министра, Мосолов от имени Горемыкина сделал предложение Ивану Литвинову. В этот день Горемыкин ещё оставался на даче министра на Аптекарском острове.
31 августа 1899 г. В.А. Грингмут послал И.Л. Горемыкину соображения «об организации послепраздничных изданий». «При нашем последнем свидании мы говорили об этом задуманном Вашим Высокопревосходительством благом деле и я обещал Вам тогда дать о нём подробный отзыв, что в настоящее время и исполняю».
18 сентября 1899 г. рядом с устроенном А.И. Горемыкиной в с. Белое школой ею была открыта новая, двухэтажная школа, рассчитанная на 2 церковно-приходских класса с учительскими и ремесленными курсами. Торжественное открытие сопровождалось крестным ходом, литургией и речью Иоанна Доброхотова. Ввиду отсутствия Ивана Логгиновича, как сообщает публикация Л.Е. Барабохиной, помимо его супруги, попечительницы школы, присутствовал их сын Михаил Иванович.
Находясь в Париже, И.Л. Горемыкин посетил метрополитен вместе с префектом Сены [«L’Evenement», 1899, 6 oktobre, p.2].
В одном зарубежном издании приведён текст письма государственного контролёра Т.И. Филиппова И.Л. Горемыкину от 1 октября 1899 г., согласно которому министр оказывается находящимся при делах, хотя он продолжал пребывать вне России. Тертий Филиппов жаловался на «дерзкие и прямо уголовные» обвинения со стороны С.Ф. Шарапова по адресу Витте. «Ища защиты от такого лукавого подвоха, я имею честь препроводить к Вашему Высокопревосходительству письмо г. редактора «Русского Труда», и о распоряжениях, которые Вам будет угодно сделать по содержанию этого недостойного акта, покорнейше прошу почтить меня уведомлением» [«Две записки Сергея Шарапова о русских финансах» Берлин, 1901, с.7].
Клевета со стороны Шарапова порождалось серьёзными изъянами его теории бумажного рубля и требованиями утолить т.н. денежный голод. Это очень поверхностное и популистское мнение необычайно опасно, всегда способно только усугубить экономическую ситуацию, поскольку включить печатный станок значит подорвать финансовую устойчивость отечественной валюты, девальвировать её ценность.
Сторонники Витте типа В.В. Валя распространяли сплетни, что за атакой Шарапова на Витте с обвинениями во взятках и преступных сделках стоит Горемыкин, будто бы старающийся от Витте избавиться. Приводя эту ложную спекуляцию, советский историк Р.Ш. Ганелин ничем её не опроверг, хотя Шарапов на протяжении всех лет своей работы в печати никак не был связан с Горемыкиным и являлся его постоянным оппонентом [Р.Ш. Ганелин «В России двадцатого века. Статьи разных лет» М.: Новый хронограф, 2014, с.80].
5 октября в Париже Делькассе дал обед в честь И.Л. Горемыкина и сопровождавшего его начальника Главного управления почт и телеграфов Петрова.
14 октября П.П. Гессе из Дармштадта уведомлял И.Л. Горемыкина: «в церкви мне лично было сказано, передать желание [Государя] что бы Вы, по окончании срока Вашего отпуска, прибыли в Петербург и вступили в управление министерством обыкновенным порядком». «Я уже писал на Ваше имя в Министерство. Очень радуюсь Вас скоро увидеть».
Это письмо без обозначения года, но более всего оно подходит именно к 1899 г. Просьба Царя вернуться в МВД по сути и является предупреждением о моменте увольнения для возможности напрямую передать все дела Д.С. Сипягину, что было бы не удобно делать в отсутствие заменяемого министра. Тогда же Гессе пишет ему и о возвращении Государя в Россию, что соответствует октябрю 1899-го.
В деле с неразобранными подписями лежит также предупреждение Горемыкину от 17 октября, похоже, от П. Гессе: «Спешу Вас известить конфиденциально, что я случайно, совершенно, узнал что приказ о назначении Вас членом Государственного Совета может состояться на этих днях т.е. ещё до Вашего возвращения в Петербург. Полагая, что Вам приятнее всё-таки заблаговременно знать это обстоятельство, я решился Вас о том предупредить. Отправляя Вам последнее письмо мне и в голову не приходило что бы это могло состояться до нашего возвращения. По всей вероятности новым министром будет Сипягин. Вчера приехал граф Муравьёв. Наше возвращение возможно состоится 4 ноября. Надеюсь до скорого свидания» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.162].
Во Франции неточно писали, что «Горемыкин был в отпуске в Париже и готовился вернуться в Санкт-Петербург, чтобы возобновить направление его политики, когда внезапно императорский указ назвал его преемника» [«Le Figaro», 1899, 16 novembre. P.2].
Императрица Мария Фёдоровна, более настроенная в пользу Витте, злорадствовала: «я была очень довольна отставкой Горемыкина. Выражаю своё самое горячее одобрение, выбор Сипягина был правильным, и он окажется на высоте на этом посту, столь же трудном, сколь важном. В любом случае он джентльмен, который очень хорошо помогал министру [заместителем И.Н. Дурново] и был великолепным губернатором, уже это – хорошая рекомендация. А другой – лгун, и я нахожу, что ты слишком подсластил ему пилюлю, он этого недостоин» [«Переписка Императора Николая II с матерью-императрицей Марией Фёдоровной. 1894-1917» М.: Индрик, 2017, с.268].
Мать Николая II в данном случае сама распространяла ложь о Горемыкине, подразумевая всю ту же студенческую февральскую историю, относительно которой она как минимум, была введена в заблуждение противниками Горемыкина. В переписке нет ни малейшей критики от Царя в адрес И.Л. Горемыкина. Взгляды Николая II с матерью тут крайне расходились, как будет потом с её критикой Н.И. Бобрикова и многими другими вопросами.
20 октября в замке Вольфсгартен Государь подписал рескрипт И.Л. Горемыкину: «Иван Логгинович! Приобретённая долголетней службою в местных административных учреждениях и в Правительствующем Сенате разносторонняя опытность ваша, последовательное исполнение ответственных обязанностей товарища министров юстиции и внутренних дел и ваши природные дарования побудили Меня в 1895 году возложить на вас заведывание министерством внутренних дел. На этом многотрудном посту вы, со свойственною вам спокойною рассудительностью, стремились к устроению разнообразных предметов управления, сосредоточенных в вашем ведении. Сложное дело первой всеобщей переписи населения всецело обязано своим отличным успехом вашему просвещённому руководительству. Будучи одним из лучших у нас знатоков обширной отрасли законодательства, касающейся крестьянского сословия, вы, среди множества текущих дел, приложили особенное рвение для достижения близкого Моему сердцу усовершенствования его быта упорядочением переселенческого дела и созданием в Сибири правительственных органов в видах попечения о благосостоянии сельского населения края; наряду с этим вы неуклонно заботились о возвышении образовательного уровня земских участковых начальников и о закономерном направлении их служебной деятельности. Ныне, в уважение ваших специальных познаний, признаю за благо призвать вас к постоянному участию в законодательных трудах Государственного Совета в качестве члена сего высшего установления. Я считаю приятным для Себя долгом выразить вам за таковые существенные заслуги Моё признательное душевное благоволение».
В «Новом Времени» увидели в этом рескрипте программу для нового министра, общую с Горемыкиным. А.С. Суворин в полемике с В.П. Мещерским вспоминал про «мягкую и добрую личность» И.Н. Дурново, которая накладывала свой отпечаток на работу МВД. «В управлении И.Л. Горемыкина являлась тоже его личность, его взгляды, а вовсе не программа». Свойствам личности публицист предавал решающее значение сравнительно с планами.
21 октября Горемыкину, Витте и Хилкову комитет передвижной пожарной выставки под покровительство Великой Княгини Марии Павловны решил поднести золотые жетоны в благодарность за содействие её успеху.
С.Э. Зволянский 29 октября предупредил что не сможет присутствовать завтра на прощании с чинами МВД. «Позволяю себе надеяться, что моё отсутствие не будет истолковано в нежелательном для меня смысле и что напротив, это будет признаком того, что я действительно с Вами не прощаюсь» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.765 Л.2].
И.Л. Горемыкин в речи на прощальном приёме 30 октября в 14 ч. произнёс: «четыре года тому назад, когда я вступил в управление министерством внутренних дел, мне не представилось достаточного в моих глазах повода принимать всех чинов министерства потому, что знакомиться нам было не нужно, так как я перед тем занимал должность товарища министра и притом единственного в то время товарища, что ставило меня в непосредственные отношения со всеми чинами министерства, а также и потому, что не хотелось говорить с вами о неизвестном будущем и выражать лишь надежды и пожелания относительно предстоявшей нам совместной работы. Теперь же, оставляя должность министра внутренних дел, мне весьма дорого видеть чинов министерства на прощальном моём приёме, дорого потому, что это даёт мне возможность исполнить моё сердечное желание – выразить всем вам мою столь же искреннюю, сколько глубокую, благодарность за вашу отличную трудовую служебную деятельность и за ваши добрые отношения ко мне лично. Перебирая в своей памяти все четыре года, в течение которых мне пришлось стоять во главе министерства внутренних дел, едва ли не самого обширного и самого многолюдного из центральных учреждений всех наших ведомств, я не могу, к великому своему душевному удовольствию, найти в ней следов какого бы то ни было прискорбного случая или неприятного столкновения с кем бы то ни было из лиц, с которыми мне пришлось работать. В течение этих лет, кроме независящих от воли людской утрат нескольких доблестных сотоварищей (Н.А. Неклюдов, Н.Н. Сабуров, барон Н.А. Гревениц), в среде министерства ничего не произошло такого, что могло бы дать повод к неприятному воспоминанию. Это сознание для меня лично необыкновенно отрадно потому что оно сохранит во мне на остаток моих дней воспоминание о министерстве внутренних дел и о людях, с которыми я в нём работал, ничем не омрачённым. Полученными мною, по окончании службы в министерстве, высокомилостивыми словами благоволения, которыми осчастливил меня Государь Император, я обязан вам. Я рад, что могу это вам сегодня выразить и прошу вас принять мою сердечную благодарность столь же тепло, как то чувство, с которым я её приношу» [«Приазовский Край» (Ростов-на-Дону), 1899, 5 ноября, №290].
По воспоминаниям В.П. Семёнова-Тян-Шанского, эта прощальная речь Горемыкина была похожа на «сладкую идиллию» и «лилась ровным, тихеньким, вкрадчивым голоском лисицы из басни “Ворона и лисица”». Не уразуметь, причём тут басня и ворона, но ироническая заметка советского мемуариста хорошо укладывается в известный нам образ милого и доброго служителя Короны. К его облику В.П. Семёнов добавлял ещё немного забавных очаровательных деталей вроде, того как, будучи ещё министром, Горемыкин читал царский рескрипт на юбилее Географического общества. У него «поминутно валилось пенсне с носа и в конце концов сломалось во время невнятного чтения».
На прощальном приёме заместитель министра, Икскуль фон Гильденбрандт выразил от имени чинов МВД благодарность за приветливые слова и выразил радость от общего служения государственному делу и выразил надежду, что Горемыкин сохранит сочувственный интерес к МВД и после кратковременного отдыха будет результативно содействовать делам МВД в Г. Совете, продолжать вместе с ними служить интересам Государя и России.
А.С. Ермолов 1 ноября 1899 г. пригласил Горемыкина зайти к себе. «У меня будет мой старый знакомый по Стокгольму барон Крузенштерн, шведский министр внутренних дел. Он приехал в Петербург на 2 дня и завтра уезжает в Сибирь».
Московский городской голова В.М. Голицын звал И.Л. Горемыкина добрым и жалел о замене на Сипягина, считая его более враждебным обществу.
Варшавский вице-губернатор К.К. Пален 1 ноября написал Г.Г. Савичу из Варшавы: «Я очень рад был видеть нового твоего Министра при проезде здесь на днях. Ты знаешь, что я его очень полюбил, когда служил под его начальством в Курляндской губернии и я уверен что ты, поработав с ним, также увидишь насколько приятна служба под его начальством и как быстро и успешно подвигается у него всякое дело и каждый вопрос; но при этом он очень взыскательный и справедливый начальник» [РГИА Ф.1045 Оп.1 Д.17 Л.3].
Как показывает моё отдельное подробное биографическое исследование, посвящённое Дмитрию Сипягину, вопреки всем разноречивым слухам, замена Горемыкина в МВД была вызвана давним и неизменным желанием Императора Николая II видеть на этом посту именно Дмитрия Сергеевича [С.В. Зверев «Революция и заговор (В окружении последнего Императора)» М.: Традиция, 2019, с.29-36].
М.М. Ляшенко из Берлина написал 2 ноября, что ему удалось «переговорить» с П.И. Рачковским. «Ранее вторника он не будет в Потсдаме и настоятельно просит повидаться с ним в Дармштадте. С Вашего позволения завтра, в пятницу, я буду у Вас в 2 часа». О перемене в руководстве МВД Ляшенко выразил самое сильное сожаление, «что и сказать нет сил» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.938 Л.4].
Этим летом сын Ивана Логгиновича Михаил закончил Александровский Лицей и теперь отправился в Каир. 6 ноября 1899 г. А.И. Горемыкина писала ему, что ждёт когда Михаил доберётся до Константинополя, чтобы начать получать от него весточки. Из письма следует что в отличие от невозмутимо-довольного И.Л. Горемыкина, его супругу огорчала потеря весьма престижного в Империи министерского статуса. А достоинство Ивана Логгиновича ничуть не страдало, будучи независимым от бюрократических должностей.
«Живём мы теперь не особенно весело, хотя Папа и я стараемся всеми силами не предаваться тяжёлым впечатлениям. Настроение Папа даже хорошее – он очень спокоен, даже весел, и всё переживает, по своему обыкновению, с олимпийским хладнокровием. Я не отношусь ко всему так свысока, и потому часто на душе не легко и не спокойно. Не буду передавать тебе всего, потому что это не удобно, скажу только, что всеми силами души стремлюсь пережить грозу, тяжёлый период жизни. После Твоего отъезда состоялся наш прощальный обед». Ещё один обед в честь И.Л. Горемыкина был дан в Новом Клубе – «прелестный, с цветами, речами». У себя принимали также несколько депутаций, подносивших почётные звания. «Наш отъезд зависит от приёма у Государя, рассчитываем, что это будет скоро» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1730 Л.76-77].
П.П. Гессе уведомил И.Л. Горемыкина 9 ноября: «Государь желает Вас принять в пятницу 12 ноября в 12 часов». Гессе также добавлял, что давно хочет его навестить, если позволит палец, расшибленный на охоте. Гессе приглашал Горемыкина к себе в Царское Село, где он служит «совсем один».
10 ноября председатель Г. Совета подписал распоряжение Царя об удовлетворении прошения Горемыкина о 6 месяцах отпуска с 20 ноября для лечения за границей [РГИА Ф.1161 Оп.1 Д.141 Л.40].
Сам И.Л. Горемыкин написал сыну 25 ноября 1899 г.: «Милый друг Мика, адресую тебе это письмо в Каир, в расчёте, что ты найдёшь его там». «Планы наши уже достаточно определились: 12 декабря собираемся выехать отсюда и рассчитываем быть в Каире около 10-го января старого стиля». Поездка в с. Белое у него задержалась, поскольку сделался «с ногами нарыв». «Мне лучше и я уеду на Белую после». «Не знаю как ты устроишься, но также знаю что там есть пансионы не дорогие», английский и швейцарский, с оплатой 8-10 франков. И.Л. Горемыкин просил сына посмотреть для него загородный отель, на другом берегу Нила, где они планировали остановиться.
Затем 1 декабря И.Л. Горемыкин написал следующую весточку в Каир, что они остаются в с. Белое до 5 декабря. Скорость приезда в Каир «зависит от Маман, которой очень хочется заехать в Иерусалим. Если это не будет приведено в исполнение – то будет дней 6-7 раньше» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1733 Л.2-3].
3 декабря А.И. Горемыкина писала Михаилу: «Папа продал, за 400 р. бывшему поставщику, своих лошадей, пока мы здесь, ещё ими пользуемся, а потом, прощай навсегда!».
Политические враги Горемыкина создали ему репутацию человека ленивого и бездеятельного. Будь это так, ему не удалось бы достичь министерского кресла. Но и вне государственной службы Горемыкин вёл весьма активную жизнь. Помимо первого заграничного путешествия в 1899 г., возвращаясь из которого, он получил известие об отставке, сдав должность, Горемыкин отправился путешествовать дальше. Константинополь в то же самое время юмористически изобразил Николай Лейкин в книге «В гостях у турок» (1900), одном из продолжений «Наших за границей».
Талантливый романист-белоэмигрант описывал виденное им самим примерно тогда же: «Константинополь внизу как на ладони… Он лепится по кручам перламутровою россыпью домов, золотых куполов, иглами минаретов, прихотливо прорезанный морскими заливами. Море за ним, подальше в глубь, такого синего цвета, что просто не верится, что вода прозрачная» [П.Н. Краснов «Цареубийцы» Красноярск: ПИК Офсет, 1995, с.180].
В Константинополе на пароходе встретился московский купец Николай Варенцов. Горемыкин и его супруга обедали за одним столом со всеми пассажирами, ни от кого не прячась. «Они были весьма любезны и обходительны с сидящими с ними рядом. У меня лично установились с ними хорошие отношения, и на палубе и во время обеда пришлось с ними много беседовать. Узнал: министр, оставив должность, поехал отдыхать для поправления своих нервов в Константинополь по железной дороге, где гостил у своего друга, русского посла в Константинополе [И.А. Зиновьева], некоторое время, а теперь от него едет в Каир, где думает провести несколько месяцев до начала жары. Его жена меня несколько раз приглашала к себе в гости и дала свой адрес, где они предполагали остановиться; то же самое было и в Каире, когда я с ними встретился на улице» [Н.А. Варенцов «Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое» М.: Новое литературное обозрение, 2011, с.478].
К сожалению, несмотря на самое доброжелательное отношение к себе, Варенцов постеснялся заводить знакомства со столь сиятельной персоной, что не даёт обогатить коллекцию редких наблюдений за жизнью нашего героя.
Про бывшего с 1897 по 1909 г. послом в Константинополе Ивана Зиновьева мемуарист справедливо пишет: «умный, зоркий и опытный знаток Востока» [А.М. Кумани «Воспоминания» М.: Новый Хронограф, 2015, с.211]. По воспоминаниям другой путешественницы, посещавшей Константинополь примерно в те же годы, «все посольства, консульства, банки, отели и театры» располагались в части города Пера-Галата, отдельной от мусульманского Скутари на азиатском берегу и от Стамбула в южной части Золотого Рога. Та же повествовательница, по маршруту И.Л. Горемыкина, посещала и Каир, указывая что английские корреспонденты допытывались до цели пребывания в Египте её мужа-генерала, подозревая в его приезде тайную политическую миссию [В.Ф. Духовская «Из моих воспоминаний» М.: Захаров, 2019, с.346, 363].
Многих русских в то время влекло в Африку. Совсем недавно её посетил П.Н. Краснов, начальник конвоя Императорской миссии в Абиссинии. Его брат также наведывался в Египет. «Если не считать наших русских городов с их многочисленными златоглавыми церквами и колокольнями, вряд ли найдётся на свете город, вид которого с птичьего полёта был бы столь своеобразен и столь красив, как вид Каира» из-за великого множества минаретов, построек мечетей и мэдрэссов, которых также много, как церквей в Москве. Эта красота особенно контрастировала с пустыней вокруг. «Каир – рай для туристов», пёстрая толпа, базары и лавки, кубические постройки [А.Н. Краснов «Из колыбели цивилизаций» С.-Петербург, 1898, с.45, 68].
В Александрии другой путешественник написал: «мне, как русскому, колол глаза вид английских мундиров: англичане здесь как господа, как властители» [Д.А. Милютин «Дневник 1882-1890» М.: РОССПЭН, 2010, с.259].
Не помешает отметить, что приятель Горемыкина, русский консул Зиновьев (1835 г.р.) приблизительно перед тем получал донесения об усилиях Британии к дальнейшему укреплению в Персидском заливе и подготовке англичан к схватке с Российской Империей, которая воздерживалась от противодействия, опасаясь крупных осложнений. Непосредственно в течение 1899 г. ходили слухи о захвате Россией портов Персидского залива, вызвавшие официальный запрос английского посла [И.П. Сенченко «Персидский залив: взгляд сквозь столетие» М.: Международные отношения, 1991, с.25, 28, 41].
Учитывая сведения о предварительной поездке Горемыкина в Лондон в качестве министра внутренних дел для ведения своего рода мирных переговоров, к ним можно добавить в дальнейшем другие зарубежные поездки, сопровождаемые неформальными, но важными встречами и переговорами. Последующие 10 лет будут не утихать слухи о том, что Горемыкин возглавит МИД,
11 декабря Сенат рассмотрел иск издателя М.Н. Семёнова о нарушении 148-й статьи Устава о цензуре и печати при закрытии его журнала без положенных трёх предостережений. Как выяснилось, Горемыкин представил постановление особого совещания по закрытию «Нового Слова» в декабре 1897 г., и Государь надписал: «Согласен». Издателю пришлось снять требование к возмещению Горемыкиным, Муравьёвым, наследниками Делянова и Победоносцевым 80000 рублей. Отныне он стал настаивать на возмещении судебных издержек.
В газетах Империи появились новостные телеграммы от 16 декабря: «И.Л. Горемыкин предпринял большое путешествие. Он уехал в Канн, а затем посетит Иерусалим. Путешествие продлится около 5 месяцев». Открыток из Иерусалима в личном фонде мне встречать не приводилось и нет полной уверенности, что Горемыкину удалось там побывать.
По возвращении из путешествия И.Л. Горемыкин приобрёл каменный двухэтажный дом №30 по 1-й линии Васильевского острова, считавшейся аристократической частью острова, его Невским проспектом. Соседним домом №28 с 1915 г. владел Н.П. Раев – директор Высших женских историко-литературных и юридических курсов. Есть ошибочное утверждение, будто Горемыкин проживал там с 1900-х по 1913 г. [Г.Ю. Никитенко, В.Д. Соболь «Дома и люди Васильевского острова» М.: Центрполиграф, 2007, с.196, 219].
Однако в сохранившейся переписке И.Л. Горемыкина такой адрес не встречается. Весьма возможно, что этот дом Иван Горемыкин приобретал для своего сына, а сам им не пользовался. Во всяком случае, в письме М.И. Горемыкина за 10 октября 1912 г. можно найти упоминание: «за дом на В.О. предлагают 45 000 р. наличными деньгами – я сказал Ефимову что это чепуха».
К 10 января 1900 г. в газетах появилось сообщение, что И.Л. Горемыкин внёс в Г. Совет проект нового устава обеспечения народного продовольствия. Министерство финансов, писали в «Новом Времени», во всём не согласилось с Горемыкиным и внесло свой проект. По проекту Витте продовольственные запасы должны быть государственными и денежными, а не натуральными, а по Горемыкину – общественными. Витте не согласился с предложенным возвратом крестьянами ссуд со следующего урожая, сочтя один год недостаточным для восстановления хозяйства, предпочитая 2-3 года. Единственное, Витте соглашался с порядком выдачи ссуд зерном, а возврата их деньгами.
По сообщениям столичной печати, рассмотренный в следующие месяцы до летних отпусков Г. Совета проект Горемыкина предусматривал сохранение прежнего сословного характера взаимопомощи между самими крестьянами, вводил непременное хранение запасов в натуральной форме, а в денежной – только с особого разрешения МВД. Как можно сообразить, Горемыкин считал натуральную форму хранения гарантией ближайшей доступности запасов для крестьян. Продовольственные фонды должны не просто составлять собственность крестьянских обществ, как прежде, но и допускать взаимообразное пользование запасами, что устранит потребность в масштабной государственной поддержке, допущенной в 1891 г., когда правительство закупило 100 млн. пудов хлеба. Новые правила продовольственного устава предполагают на 46 губерний европейской России запас хлебных магазинов в 264 млн. пудов. При необходимости новый устав сохранял и безвозвратные имперские и губернские ссуды, но крестьянские только заимообразные. Ссуды эти гарантировались круговой порукой.
В 1900 г. Горемыкин также привлекался к работе комиссии по отмене ссылки в Сибирь, об этом можно судить, поскольку в его архиве остался очерк истории ссылки, подготовленный для участников комиссии.
14 января 1900 г. Половцов нанёс визит Победоносцеву, который выражал сожаление, что когда-то рекомендовал Горемыкина поставить во главу МВД: «хватается за голову и отчаивается», обещает больше никого не рекомендовать. Сразу при назначении министром Сипягин просил Победоносцева не выказывать публично антипатию к нему, о которой имел представление.
И.И. Колышко в первых эмигрантских мемуарах, силясь обсмеять всех царских министров, пропустил эпоху И.Л. Горемыкина и не привёл о нём ни одного анекдота, используя ложную увёртку, будто министерство 1895-99 г. было очень коротким. Зато он охарактеризовал Д.С. Сипягина: «как милое упитанное дитя, Сипягин всех любил, а главное – позволял себя любить. Казалось, у него и забот других в жизни не было, как – чтобы его любили» [Баян «Обломки. Дурново и Сипягин» // «Время» (Берлин), 1922, 14 августа, с.2].
23 апреля 1900 г. И.Л. Горемыкин из Одессы писал сыну Михаилу о предоставлении ему надёжного проводника до Москвы, надёжного и «отважного человека из полицейской команды», и о перевозке лошади за 100 руб.: «мне также обещали что вагон с лошадью прицепят к товарно-пассажирскому поезду, что даст тебе возможность ехать с нею». «Отправляю тебе ценным письмом 700 франков, т.е. 262 руб. 80 коп. что полагаю будет достаточно. Если же тебе не хватит денег – то телеграфируй мне в Петербург – я переведу». «Я уеду из Петербурга вероятно 2-го мая и 3-го буду на Белой. Доехали мы совершенно хорошо». В Одессе И.Л. Горемыкин останавливался у доме градоначальника графа Шувалова и был там более одной недели. Сам Шувалов 10 апреля выразил ему из Баварии огорчение от невозможности лично приветствовать и показать благодарность за «внимание и доверие».
26 апреля С.Э. Зволянский, узнав о возвращении И.Л. Горемыкина, сразу пожелал навестить его.
Уже из с. Белое Иван Логгинович снова писал Михаилу 9 мая: «сейчас иду осмотреть лошадь, которую ещё не видел». 12 мая уверял: «чувствую себя хорошо».
17 мая исполнилось сорок лет государственной службы Ивана Логгиновича. Как сообщали газеты, чествование юбиляра не состоялось из-за его отъезда из Петербурга (Горемыкин специально всегда прятался из скромности). Но его отметили друзья-правоведы за трапезой, о чём сообщал И.Я. Голубев 24 мая: «нам всем дорога сохранившаяся с юных лет дружеская связь, которой мы можем гордиться. Все сожалели о твоём отсутствии, благодарят тебя за привет». «Надеюсь что твоё здоровье теперь вполне восстановилось и искренне желаю скорейшего укрепления сил после перенесённой болезни», из-за которой он пропустил и собрание Г. Совета 22 мая, где И.Л. Горемыкина надеялись увидеть.
3 июня настало последнее перед летними каникулами общее собрание Г. Совета.
Как следует из переписки с министром Земледелия, Горемыкин начал ходатайствовать о приобретении участка земли возле Сочи, который станет местом его упокоения. А.С. Ермолов отвечал ему 2 июля: «я был бы очень рад исполнить Ваше желание относительно отвода Вами участка на Черноморском берегу, но к сожалению едва ли буду в состоянии». «В отношении Верещагинской дачи это прямо невозможно», т.к. она разбита на участки, подлежащие распродаже. Ермолов рассматривал другой сочинский участок рядом с Куропаткинским, ещё один рядом с участком Витте, но не приморский. Ещё участки между Туапсе и Сочи. Предлагал и около Батума. «Вы сами сельский хозяин и садовод», обронил А.С. Ермолов в одном из недатированных писем Горемыкину.
29 июля 1900 г. П.Н. Дурново телеграфировал И.Л. Горемыкину на Лиговку 55: «сегодня завершена закладка здания электротехнического института, созидаемого благодаря Вашим неустанным заботам. Чины, министры, начальство, учебный персонал института и инженеры-электрики просят принять выражение одушевляющих их чувств благодарности к Вашему Высокопревосходительству и пьют за Ваше здоровье. Управляющий министерством внутренних дел П. Дурново» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.741 Л.1].
П.Н. Дурново, недавно ставший заместителем Сипягина, исполнял его обязанности во время пребывания Дмитрия Сергеевича на курорте Экс-ле-Бен для поправления от опасной болезни.
Будучи в прошлом директором Департамента Полиции, Дурново завоевал одобрение даже родственников революционеров, считающих, что он завёл образцовые порядки, вёл себя благородно, снисходительно и был «врагом ненужной жестокости» [Е.Н. Водовозова «На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты» М.: ХЛ, 1987, Т.2, с.399]. Даже советские писатели, сопоставляя с чекистами, потом восхищались, как Вересаев: «само самодержавие, с вами сравнить, было гуманно и благородно. Как жандармы были вежливы, какими гарантиями тогда обставлялись даже административные расправы, как стыдились они сами смертных казней! Какой простор давали мысли, критике» [Сергей Поварцов «Причина смерти – расстрел» М.: Терра, 1996, с.16].
Лев Тихомиров тоже вспоминал о рыцарски щепительной, благородной полиции. Лично П.Н. Дурново Тихомиров приписывал даже гениальные способности и проницательность.
12 октября 1900 г. инженер П.И. Балинский написал И.Л. Горемыкину: «Посылаю Вам с писанием Вашего Сына, – весь, только что, переписанный разговор С.Ю. [Витте] со мною в Париже. Я не решился его печатать на машинке, так как не нашёл для этого подходящего человека, и я очень боялся дать этот разговор в руки ненадёжные, тем более теперь, после некоторых новостей, которые я узнал в Петербурге и которые передал Вам лично при свидании. Я посылаю Вам, так же, письмо которое я только что получил от Захарова из Парижа (копию). Письмо это весьма характерно и очевидно г-н [С.С.] Татищев получил уже инструкции от С.Ю. после нашего разговора с ним в Париже. Меня этот разговор страшно возмутил и из письма видно что и Захаров им весьма недоволен, так как Вы сами Ваше Высокопревосходительство видели что это за люди. Это люди чисто коммерческие, непривыкшие к различного рода грязным интригам, и в особенности к такого рода некрасивым и неумелым допросам. Делается и больно как-то и совестно за самого С.Ю.В. Зачем ему понадобилось так некрасиво портить начатое так чисто и так честно великое дело! Я присылаю Вам также статью о С.Ю. в «Libre Parole» присланную мне из Парижа. Не знаю насколько она права, но несомненно она характерна и верно будет иметь для Вас известный интерес. Я боялся посылать всё это к Вам и хотел даже сам ехать на днях к Вам, но мне было совестно Вам надоедать. С нетерпением жду Вашего приезда в Петербург» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.389 Л.13-14].
П.И. Балинский ссылается на правую французскую антимасонскую газету «Либр Пароль» Эдуарда Дрюмона, выражавшую симпатии Горемыкину. Письмо Балинского замечательно тем, что полностью разрушает мифологию мемуаров Витте, будто результаты произведённых С.С. Татищевым допросов могли бы уничтожить политическое будущее И.Л. Горемыкина, но дело якобы потерялось. Балинский не выражает ни малейшего беспокойства насчёт расследования Татищева и полагает что в невыгодном свете оно выставляет самого Витте. Записки С.С. Татищева никуда не пропадали, Р.Ш. Ганелин ссылается на их расположение в том же архиве министерства финансов, откуда их брал Витте показать Сипягину.
Однако недоверие С.Ю. Витте к Б. Захарову нельзя считать безосновательным. Совсем наоборот, хотя П. Балинский на тот момент искренне считал Б. Захарова аполитичным финансистом с безупречной репутацией и пока не имел оснований считать иначе, но европейские коррупционные демократические скандалы последующих лет выявили что это далеко не безобидная, а опасная фигура.
Используя подкуп, Захаров старался втереться в английские, немецкие, французские, турецкие правящие круги. Не были исключением и русские. Внимание Захарова к И.Л. Горемыкину, безусловно, вызвано его осведомлённостью о сохраняющемся влиянии бывшего министра на Императора Николая II и о его весьма вероятном возвращении в правительство в будущем.
Историк пишет, что Б. Захаров пытался втереться как в левые, так и в правые круги. Наиболее явно он вошёл в британскую элиту. Крайне сомнительны сообщения, будто Б. Захаров к 1914 г. «имел самые тесные связи с Русской Императорской Фамилией». По утверждению, восходящему к людям Ллойд Джорджа, Б. Захарова английские элиты «использовали как супершпиона в высшем обществе и влиятельных кругах». В Греции Захаров тратил много денег на пропаганду в пользу Антанты [Donald McCormick «The Mask of Merlin. A Critical Biography of Lloyd George» New York, 1964. P.202-203]. Когда 77-летний Захаров уже уходил на покой, его звали самым таинственным деятелем финансового мира [«Возрождение» (Париж), 1927, 29 октября, с.5].
Тем не менее, полная убеждённость Балинского в исключительной чистоте его дела, показывает что Б. Захаров, пытаясь добиться расположения И.Л. Горемыкина, маскировался под его единомышленника.
Рождение в Греции позволяло Захарову числиться православным, что должно было располагать к нему русских, он хорошо говорил на их языке. Согласно доброжелательно настроенному биографу, к 1899 г. Захаров уже имел респектабельную репутацию и сделал состояние на заключении сделок по продаже английского оружия в разных странах, в т.ч. в Испании. Но компания «Виккерс», которую он представлял с 1877 г., занималась и железными дорогами. Во время Японской войны Захаров заработал миллионы комиссионных за счёт поставок оружия в Россию, чем должен был укрепить репутацию союзника [Richard Lewinsohn «Der mann im dunkel. Die lebensgeschichte Sir Basil Zaharoffs, des “mysteriösen Europäers”» Berlin, 1929, s.110].
Согласно другому, враждебному биографу, Б. Захаров был евреем из Одессы, что будто бы выяснили интересовавшиеся им английские агенты. «Его финансировали Ротшильды», «из-за необъяснимой власти над Русской Императрицей династические фонды Романовых в различных частях мира были в его распоряжении». В 1904 г. Захаров будто бы продавал пулемёты обеим воюющим сторонам, т.е. Японии тоже [Guiles Davenport «Zaharoff. High Priest of War» Boston, 1934, p.61,136].
Всё написанное о деятельности Захарова в России и о его связи с Царской Семьёй – вымысел, попавший затем в другие биографии. Что заставляет скептически отнестись и ко всем прочим претензиям к Захарову.
Современная биография сообщает о повсеместных взятках Захарова в связи с торговлей оружием, что никак не касается более раннего проекта метро. Достоверным представляется подтверждаемое сторонними данными свидетельство о помощи Захарову от М.Ф. Кшесинской. Однако писатель не понимает типичную для Николая II практику назначения расследований для разоблачения ложных обвинений в случае с В.А. Сухомлиновым. Захаров также действовал через А.Г. Рафаловича. В 1897 г. Захаров вошёл в совет директоров «Виккерс», в 1898-м получил французское гражданство [T. Gaston-Breton «Basil Zaharoff» Paris, 2019].
1 декабря 1900 г. С.Э. Зволянский, всю свою карьеру с молодых лет сделавший в Департаменте Полиции, отвечал на ходатайство И.Л. Горемыкина: «Многоуважаемый Иван Логгинович! Так как все еврейские дела находятся теперь в Департаменте Духовных Дел, то об исполнении Вашего желания в отношении Шапиро я сообщил кому следует и по получении ответа не замедлю поставить Вас в известность об его судьбе. У меня никакой переписки о нём не производилось. Нехорошо, что Вы всё хвораете», «у нас слава Богу всё благополучно; ожидаем выезда г.г. министров из Ялты в конце будущей недели. Государь же вероятно останется в Ялте до конца месяца. Так по крайней мере пишут мне».
П.И. Балинский далее писал 10 декабря И.Л. Горемыкину, что по его просьбе рассмотрел возможность приобретения дома Базилевского на Захарьевской улице: «за него не стоит браться – продаёт этот дом компания евреев. Дело вообще не выгодное. О других продающихся домах я навожу справки и надеюсь к Вашему возвращению из деревни я что-нибудь приготовлю выгодное. Во всяком случае постараюсь сделать всё зависящее от меня, дабы устроить Вам эту покупку».
На протяжении следующих 15 лет Горемыкин продолжал состоять во Временной Комиссии по разработке местного законодательства польских губерний. Она преемственна вела дело, взятое русской администрацией в 1864 г.
30 декабря 1900 г. министр Н.П. Боголепов уведомил И.Л. Горемыкина, что его ходатайство за вдову коллежского ассесора Иванова, Лидию, удовлетворено и ей назначена усиленная пенсия в размере полного оклада её мужа, 400 руб. в год.
«С.-Петербургские Ведомости» в январе 1901 г. сообщили, что работавшая под председательством И.Л. Горемыкина комиссия по пересмотру законоположений о крестьянах не будет более собираться, но министерство Сипягина воспользуется её трудами для частичных изменений, касающихся общественного призрения, опеки и землепользования. В июне, однако ж, работа этой комиссии возобновилась под председательством Д.С. Сипягина и началось рассмотрение проекта реформы мирского обложения.
С.А. Озеров 7 января сожалел, что не получится увидеть у себя И.Л. Горемыкина, но вновь приглашал на обед на завтра. В с. Белое он вёл финансовые дела и давал Ивану Логгиновичу расписываться в книге учёта прихода и расхода [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1050 Л.5-14].
14 февраля 1901 г. стало известно, что выработанный при И.Л. Горемыкине проект упразднения коробочного и свечного сбора с евреев отложен до преобразования уездных распорядительных комиссий в неземских губерниях.
После покушения на Н.П. Боголепова, 20 февраля 1901 г. академик В.Р. Розен, пылкий монархист, писал: «положение Боголепова очень тяжёлое. Едва ли он выживет. Одна только надежда – то, что это дело наконец-то откроет глаза баранам (из профессоров и студентов) на то, куда их ведут их командиры-мерзавцы (из профессоров и студентов). Правда, это идиотство так велико, что эта надежда, пожалуй, покоится на весьма слабом основании» [«Неизвестные страницы отечественного востоковедения» М.: Восточная литература, 2004, Вып.II, с.260-261].
26 февраля И.Л. Горемыкин приезжал справляться о здоровье смертельно раненого министра, температура которого держалась около 39 градусов. Началось воспаление простреленной террористом гортани. Возникла проблема загноения раны, и доктора всё ещё не могли вытащить застрявшую в шейных мышцах пулю. Те же доктора и хирурги, которые позднее займутся ранами Сипягина, не смогли справиться со столь сильным уроном организму.
Революционная интеллигенция жаждала террора. Пока Боголепов медленно умирал, В. Брюсов, которому предстоит восславить Ленина в стихах, сказал, по воспоминаниям И.Н. Розанова: «люди, к сожалению, совершенно разучились убивать друг друга».
Но 2 марта Боголепов умер. 5 марта, перед отправлением тела в Москву, И.Л. Горемыкин был на отпевании в Сергиевском всей артиллерии соборе.
Убийца министра совершил теракт по заданию ПСР, что не афишировалось, дабы представить дело личной местью. Савинков, однако, признавался в связях с Карповичем в Берлине в 1900 г., их отношения позднее возобновились.
Сразу после неудачного покушения на К.П. Победоносцева 9 марта, И.Л. Горемыкин посетил его среди множества других выдающихся государственных деятелей, дабы почтить его избавление от опасности.
Из Иркутска вернулся в С.-Петербург А.Д. Горемыкин и получил назначение в Г. Совет. В его доме на Сергиевской можно было встретить Ивана Логгиновича. А.А. Корнилов вспоминает, что там И.Л. Горемыкин не проявил интереса к знакомству с ним.
2 апреля 1901 г. Горемыкин оставлял проживание в Петербурге.
В Г. Совете весной 1901 г. Горемыкин оказался на стороне Куломзина, Герарда, Голубева, Гончарова, Семёнова и др. против традиционно считающихся более правыми П.Н. Дурново и А.С. Стишинского. Тем не менее, 28 мая большинство поддержало проект Сипягина и Стишинского [Ю.Б. Соловьёв «Самодержавие и дворянство и конце XIX века» Л.: Наука, 1973].
В мае 1901 г. портрет Горемыкина напечатали в иллюстрированном приложении газеты «Новое Время» в честь столетия Государственного Совета.
Осенью 1901 г. подготовленный Сипягиным проект введения земских учреждений в северо-западном, западном, юго-западном крае поступил в Г. Совет. Сообщалось что он будет рассматриваться там до нового года.
11 октября 1901 г. М.М. Ляшенко обратился к И.Л. Горемыкину: «только в мае месяце текущего года я возвратился из заграницы. Целых четыре месяца я должен был употребить на то, чтобы узнать правду и ту игру, в которую вовлекли моё имя, чтобы причинить мне возможно больше зла. Я знаю и то что говорено было и Вам, Ваше Высокопревосходительство, желая возможно лучше очернить меня». Ляшенко просил не верить этим обвинениям, а сперва выслушать его устные объяснения. «Сегодня мне ничего не надо, никакою просьбою я не буду утруждать Вас – мне очень надо только, чтобы Вы знали истину. Смею надеяться, что прошлое, когда Вы меня дарили Вашим расположением и доверием, которое мною никогда нарушено не было, подскажут Вашему сердцу принять меня» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.938 Л.6-6об.].
Будучи в очередном заграничном путешествии, насчёт состояния здоровья 31 октября 1901 г. из отеля Vendome в Париже И.Л. Горемыкин отсчитывался в письме перед сыном Михаилом: «я здоров, много хожу даже под дождями». «Если тебе что-нибудь нужно, напиши, время есть».
М.И. Горемыкин поступил на работу в Канцелярию Комитета Министров. С 1901 г. там же устроился поэт Иван Тхоржевский, вспоминавший что Михаил держался на службе очень уверенно. «Нас сближала общая страсть к поэзии» и светские увлечения. Когда Михаил женился на баронессе Черкасовой, И.И. Тхоржевский был старшим шафером.
Поэтические дарования Тхоржевского остались в памяти следующих поколений среди сознающих разницу между русским и советским. Замечательны религиозные мотивы его стихотворений: «Вот уже кончается дорога, С каждым годом тоньше жизни нить – Лёгкой жизни я просил у Бога, Лёгкой смерти надо бы просить» [М. Аронов «Александр Галич. Полная биография» М.: НЛО, 2012, с.538].
18 ноября 1901 г. М.И. Горемыкин спрашивал отца: «Когда ты думаешь уехать из Парижа и куда? Не знаю известно ли тебе, что умер Вл.М. Маркус, где-то за границей. Я поеду на похороны. Здесь начались обычные, зимние удовольствия: электротехники забастовали, в ун. сходки и волнение. Ждут общего шабаша. Всё это без причины. Собственно, придрались к пустяку, который даже предлогом называться не может» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.637 Л.11а].
21 ноября И.Л. Горемыкин отвечал: «с железнодорожным жду Маман», «погода здесь всё ещё довольно мягкая».
22 ноября Горемыкин писал, что планировал ехать в Ниццу, но это не удалось, т.к. 1 декабря заканчивался дополнительный отпуск, испрошенный сверх вакантного времени. 28 ноября Иван Логгинович сообщал, что «не хочется отпускать Маман одну в Ниццу и ей этого очень не хочется и потому я решился её туда отвезти и её там оставить. Это решение замедлит моё возвращение на неделю». Приезд в Россию планировался теперь на 15-17 декабря.
Графиня Е. Комаровская из Берлина писала 3 декабря: «по вас соскучилась – когда вашу комнату приготовить? Вам нечего делать ни в Ницце, ни в Париже – вам нужно отдохнуть в Берлине» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.849 Л.52].
4 декабря 1901 г. П.Н. Дурново передал Горемыкину проект сведений о нём для исторического обзора деятельности МВД за 100 лет, с возможностью изменять и дополнять материал под портретом.
Из с. Белое И.Л. Горемыкин писал сыну 3 января 1902 г.: «дел довольно, не веселюсь и не скучаю. Да хранит тебя Господь».
В №1 журнала «Право» за 1902 г. В.Д. Спасович, отличавшийся, по воспоминаниям Стратонова, отъявленной польской русофобией, упомянул о проекте Горемыкина в связи с рассмотрением теперь в Г. Совете иного проекта о введении земства в 13 губерниях. Проект Горемыкина Спасович нашёл неудовлетворительным из-за отсутствия уездного земства – предполагалось только губернское. Горемыкин также планировал назначение в губернскую управу вместо выборов и сбор управы раз в год осенью, без постоянных исполнительных органов. В.Д. Спасович, во всяком случае в 1872 г., в печати держался примирительного отношения к Российской Империи, призывая поляков, сохраняя свой язык, не чуждаться русских и во всём с ними сотрудничать.
В начале января 1902 г., закрыв Особое совещание по делам дворянства, Император распорядился выразить его участникам благодарность за ревностные и полезные труды. Среди лиц, заслуживших признательность Императора, был назван И.Л. Горемыкин.
Директор 1-го департамента министерства юстиции А.А. Хвостов 17 января 1902 г. уведомил И.Л. Горемыкина, что из 1700 экз. его издания у судебного исполнителя А.А. Горохова осталось 800 после выдач магазину Чичинадзе и по распискам. В более позднем не датированном письме упоминается, что из них осталось всего 74 экз. Горохов при этом выражал горячую «преданность» И.Л. Горемыкину и просил написать ему несколько слов в ответ.
Витебский губернатор Чепелевский 7 февраля писал И.Л. Горемыкину насчёт продажи «интересующего Вас имения» Крестьянскому банку, что его владелец оставляет за собой центральную часть с усадьбой, и банк дал оценку только краям. «В следующий приезд мой в Петербург не премину явиться к Вам».
М.И. Горемыкин 10 февраля сообщал из Ниццы: «маме заграница уже основательно надоела». Его беспокоила необходимость быть вне России: «не проживу ли я всю жизнь только для того, чтобы поправлять своё здоровье». «Меня очень интересуют Бельские новости». 14 февраля: «читать нечего или мало что, так как в библиотеку абонироваться нельзя – мы боимся заразы через книги. Меня очень тянет домой». Возвращение планировалось через Берлин, чтобы повидать доктора Лассара. «Теперь кожа моя лучше».
Из С.-Петербурга 15 февраля 1902 г. Иван Логгинович отвечал: «на Белой всё идёт своим порядком», «лесной материал я уже заготовляю, пользуюсь подходящими условиями». 3 марта Михаил Иванович писал, что «кончина Мих. Ник. её очень расстроила» (его маму). 9 марта они получили депешу И.Л. Горемыкина с просьбой не спешить с отъездом. Отпуск Михаила в Канцелярии заканчивался 19 марта «и я бы не хотел его просрачивать – да что же делать. Я ничего не писал в Канцелярию т.к. не знаю на сколько опоздаю». «Очень буду сожалеть если меня отставят от истории, но это будет почти наверно благодаря моему долгому отсутствию».
Назначение Сипягина А.А. Половцов ошибочно приписывал протекции Витте и разделял самое несправедливое мнение о бездарности нового министра. В дневнике Половцова за январь 1902 г. говорится о злоупотреблениях градоначальника Клейгельса, которые не стали раскрывать из-за расположения к нему Государя и риска потери Муравьёвым министерства юстиции. Если так, то прямо не подтверждается ни связь Горемыкина с делами Клейгельса, ни обусловленность увольнения Горемыкина теми же делами. Половцов продолжал и позднее называть Горемыкина честным человеком.
Насколько справедливы обвинения в адрес Клейгельса, следует установить отдельно. В.А. Сухомлинов в воспоминаниях назвал небезупречными взгляды Клейгельса на обогащение.
Его финансовое положение являлось непрочным. В мае 1902 г. при виленском государственном дворянском земельном банке состоялась публичная продажа имений за невзнос требуемых платежей банку. Среди крупнейших таких проданных имений одно прежде принадлежало градоначальнику Н.В. Клейгельсу, размером в 4374 дес. земли [«Киевлянин», 1902, №95].
В дневниках Богданович А.С. Стишинский впервые в феврале 1906 г. называет Клейгельса вором – когда тот уехал в Киев, но ни разу за все годы в Петербурге в салоне об этом не слышали или не желали говорить.
За 15 ноября 1909 г. появилась запись, что Клейгельс издавна считается взяточником, а ревизия сенатора Турау обвинила его в бездействии в дни революции 1905 г. в Киеве, а также прямо в присвоении там казённого имущества [«Дневник Великого Князя Константина Константиновича 1909-1910» М.: Буки Веди, 2015, с.165].
Генерал-адъютант Клейгельс в мае 1911 г. давал в качестве свидетеля показания по делу бывшего московского градоначальника Рейнбота. В силу уважения к его статусу суд с присяжными заседателями в полном составе выезжал к нему домой. Такое же особое отношение суда заслужил заместитель Столыпина П.Г. Курлов. Дело касалось связей полиции, например, с директорами клубов азартных игр.
Как бы там ни было, коррупция в Российской Империи значительно уступала чудовищным её размерам в других странах, особенно демократических. В Нью-Йорке 1890-х «городская полиция “крышевала” и брала мзду с любого легального или нелегального бизнеса», «все платили дань – от уличного торговца папиросами до владельцев крупных предприятий» [Л. Спивак «Река Теодора» М.: Москва, 2018, с.28-29].
Как и в других цивилизованных странах, русские власти боролись с этим злом, и наблюдались определённые подвижки к лучшему. Так что основной проблемой в Империи по-прежнему оставался политический экстремизм социалистов.
Вечером к 21 ч. 2 апреля 1902 г. И.Л. Горемыкин пришёл на панихиду в доме убитого министра Сипягина на Фонтанке.
4 апреля на отпевании Дмитрия Сипягина в домовой церкви встретились Половцов и Горемыкин. Обсуждали слух о назначении Бобрикова: будет ли он взорван или просто уволен. Эту мысль Горемыкина Половцов записал так, что через 6-8 месяцев «в любом случае он полетит, но не в воздух». 5 апреля Половцов с чего-то записал, будто министром Горемыкин был в полном подчинении у дворцового коменданта Гессе, противника Витте, а Сипягин Гессе не поддавался [«Красный архив», 1923, №3, с.99, 114, 132].
Однако, по более точному дневнику Победоносцева складывается впечатление что при Горемыкине Гессе не играл заметной роли, т.к. ни разу не появлялся в поле зрения обер-прокурора Синода и возник, т.е. приобрёл соответственное значение, с мая 1900 г. при Сипягине. Хотя Половцов уверяет, что Сипягин разошёлся с Гессе. Имел отношение П.П. Гессе к группе А.М. Безобразова и А.М. Абазы, не связанной с И.Л. Горемыкиным.
В серии статей о карьере Рачковского, опубликованной в газете «Вечернее Время» весной 1912 г., сообщалось что при А.А. Лопухине П.П. Гессе продвигал Рачковского и к его советам прислушивался Д.Ф. Трепов. С.Ю. Витте был в покровительственных, а П.Н. Дурново в дружественных отношениях с Рачковским.
Называя Гессе среди противников Витте, советский историк утверждал, что с 1901 г. они стали группироваться вокруг И.Л. Горемыкина и В.К. Плеве [А.В. Игнатьев «С.Ю. Витте – дипломат» М.: Международные отношения, 1989, с.128].
А.Н. Куломзин ошибочно полагал, что сам Император мог «подстрекнуть» Витте, выдумывая, будто Царю нравилось «ссорить своих министров», считая «этот прием верхом дипломатического искусства». Причём антиземских мотивов Витте, вступившего в союз с Победоносцевым и Дурново против Горемыкина, Куломзин не понимал [С.Д. Мартынов «Государственный человек Витте» СПб.: Петрополис, 2008, с.294].
9 апреля 1902 г. Витте написал В.И. Ковалевскому: «убийства Боголепова, Сипягина показывают, что надо сплотиться на дружную работу на пользу Отечества, а выходит наоборот, кроме розни, ничего нет. Всеми руководит шкурный вопрос, о пользе дела думают мало» [«Письма великих князей Александра и Сергея Михайловичей друзьям. 1890-1891» М.: Кучково поле, 2017, с.36].
Уж кто, а Витте оставался чемпионом по мелким подколам и лишней розни среди министров. И о пользе не один Витте заботился. Письменные источники любого типа, принадлежащие ему, в обоих названных отношениях постоянно привирают.
В записках за 1903 г. Д.С. Шереметев вспоминал, что Д.С. Сипягин «скорбел об этой неуместной полемике» между Витте и Горемыкиным
Вполне в Горемыкинском правоведческом духе МВД решил назначать земскими начальниками лиц преимущественно юридического образования и условием назначения офицеров поставить наличие законченного военного училища [«Двинский Листок» 1900, 4 мая, №2, с.3].
Ещё в апреле 1895 г., будучи заместителем министра, Горемыкин выступил защитником идеи объединения земских, синодальных и министерских школ под единое управление, но в дальнейшем существующее разделение было признано Императором и Г. Советом наиболее оправданным и функциональным. Министр народного просвещения Н.П. Боголепов не поддержал проект И.Л. Горемыкина ввести земства в Западном крае. Министрам не удалось в 1899 г. и прийти к соглашению относительно создания общего училищного совета всех начальных школ [С.И. Алексеева «Святейший Синод в системе высших и центральных государственных учреждений России 1856-1904 гг.» СПб.: Наука, 2003, с.235-238].
16 апреля 1902 г. в дневнике К.П. Победоносцева появилась запись: «у Ванновского. Горемыкин И.Л.».
Автор дневника, знавший В.К. Плеве и симпатизировавший его министерской деятельности, считал, что Ванновский сперва заявил «себя излишней гуманностью, теперь, кажется, изменяет свою политику» [Митрополит Арсений (Стадницкий) «Дневник 1902-1903» М.: ПСТГУ, 2013, Т.2, с.23, с.23].
Из столицы И.Л. Горемыкин выехал 2 мая, что не осталось незамеченным.
25 мая вакантное время в Г. Совете было определено по 15 октября (1 октября для департаментов). Без особых распоряжений насчёт Горемыкина, который на этот раз не уехал в дальние страны.
6 июня 1902 г. В.Н. Коковцов отправил телеграмму для Горемыкина о делах Г. Совета: «особое приложение утверждено».
И.Л. Горемыкин 10 сентября приезжал в С.-Петербург, о чём С.М. Лукьянов получал уведомление от его супруги.
2 октября Горемыкин был в Берёзках. 17 октября он уведомлял сына в Берлине из с. Белое: «я сегодня на прогулке осматривал жеребят», нашёл лошадей в хорошем состоянии. «Пиши мне на Сергиевскую». «Я часто о тебе думаю». Через неделю И.Л. Горемыкин писал уже из Петербурга: «на Сергиевской ещё большой хаос и едва ли к твоему возвращению будет порядок». Обещал прислать Михаилу ещё 450 марок.
28 ноября 1902 г. министр юстиции Муравьёв жаловался А.Н. Куропаткину на холодность к нему Государя со времени ухода И.Л. Горемыкина. Великого Князя Александра Михайлович, по наблюдению Витте, Царь начал избегать в 1903 г. [А.Н. Куропаткин «Дневник» М.: ГПИБ, 2010, с.85-86, 112].
Программа Муравьёва – убрать Витте, улучшать положение рабочих, использовать земство для обсуждения государственных дел. Позднее, перед 9 января 1905 г. Муравьёв покажет себя решительным противником конституционных требований.
А.М. Безобразов, как и Горемыкин, был мишенью клеветнических атак С.Ю. Витте, который необоснованно пытался представить себя одного с положительной стороны и нашёл много последователей среди всех склонных к агрессивному неприятию Царской России. Когда в СССР историк Б.А. Романов, активный идеолог советского тоталитаризма, по обнаруженным им документам доказал, что нет существенной разницы в политическом направлением Императора Николая II, Витте и Безобразова, другие большевицкие историки стали обвинять его в реабилитации памяти Царя [В.М. Панеях «Творчество и судьба историка Бориса Александровича Романова» СПб.: Дмитрий Буланин, 2000, с.167].
В действительности обслуживающий красных террористов Б. Романов, заведомо ложно негативно оценивая всё содержание монархической политики, стремился совокупно изгадить окружение Русского Императора, не исключая Витте. Сравнительно с длящейся преемственностью антинаучных коммунистических спекуляций, со значением Безобразова и другими мифологическими представлениями революционной эпохи успешно разобрался эмигрантский историк С.С. Ольденбург, его выводы продолжают получать развитие.
По определению А.М. Безобразова от 31 января 1902 г., поддержка Сипягина ставила Витте в доминирующее положение среди других министров и служащих. Борьба с ним не представлялась возможной [«Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову» Пг.: Огни, 1922, с.450].
Поэтому нельзя сказать, будто Витте находился в стороне, а не в центре русской политики, и переложить ответственность за неё на кого-то ещё. С другой стороны, следуя тем же советским традициям, историк И.В. Лукоянов в своих работах о дальневосточной политике, критикуя действия не только группы Безобразова, но и Витте, регулярно придерживается ровно ни на чём не основанной ложной фантазии, будто политика умиротворения агрессора, а не полноценного ему оппонирования, способна предотвращать войны и защищать русские национальные интересы. Удивительно как часто левые историки озвучивают подобно рода произвольные широкие обобщения и вымыслы [«С.Ю. Витте – экономист, политик, дипломат» М.: Культурная революция, 2015, с.45-55].
21 декабря 1902 г. И.Л. Горемыкин ещё раз навестил К.П. Победоносцева.
В.К. Плеве в день празднования столетнего юбилея МВД, прислал И.Л. Горемыкину памятную золотую медаль, выбитую в честь его прежней министерской работы, и экземпляр истории МВД.
В связи с этим в январе 1903 г. газеты вновь напоминали о Горемыкине, в «Новом Времени» напечатали его портрет.
Губернатор Оттон Медем, ранее в декабре 1897 г. благодаривший И.Л. Горемыкина за пожалование д.с.с., просил его оказать честь пожаловать на заседание Новгородского губернского комитета о нуждах с/х промышленности 26 января, после поступления трудов уездных комитетов. Граф О.Л. Медем далее сообщил об единогласном избрании Боровичской городской думой И.Л. Горемыкина почётным гражданином.
Ходатайство И.Л. Горемыкина 11 февраля об открытии столярного отделения в дополнение к существующей кузнечно-столярной мастерской при 2-классном училище Боровичского уезда было удовлетворено Отделением Учёного комитета по техническому и профессиональному образованию, которое испросило у казны на ежегодное содержание класса сверх имеющихся 1240 р. в год ещё по 660 р., и единовременно на устройство помещения и оборудования, около 6600 р.
12 февраля 1903 г. Горемыкин со своей подписью предоставил И.И. Шамшину экземпляр записки о Земстве на 77 стр.
А.Н. Куропаткин записывал, что проект метро обсуждался министрами под председательством В.К. Плеве 12 февраля 1903 г. «Кроме Витте, все мы дружно проваливали это иностранное (американское) предприятие, в котором обходились и нарушались права народа. Ходили слухи о сильных взятках» [А.Н. Куропаткин «Дневник» М.: ГПИБ, 2010, с.113].
Затем в 1905 г. Куропаткин неодобрительно отзывался о советах Царю И.Л. Горемыкина, Д.С. Сипягина, В.К. Плеве и других сторонников самодержавного принципа. Не понятно какое подразумевалось нарушение прав и кому на этот раз приписывали получение взяток за лоббизм.
Продвижение нового строительного проекта, похоже, уже никак не затрагивало И.Л. Горемыкина, поэтому С.Ю. Витте выступил в его поддержку, хотя это предприятие продвигалось тем же Джоном Джексоном, участие которого в Круговой ж/д Витте провалил. Проект метро в Москве составил инженер П.И. Балинский. Помимо американцев, вложить свои деньги собирался А.И. Гучков [Я. Голованов «Заметки вашего современника (1970-1983)» М.: Доброе слово, 2001, Т.2, с.208].
Весьма результативно взаимодействовали с Хилковым американские компании Вестингаузов и Ч. Крейна, которые с 1898 г. вкладывали существенные суммы в организацию в России производства деталей для поездов, с/х техники, проведение электрификации. Крейн встречался в 1900 г. с Николаем II и К.П. Победоносцевым, но начал поддерживать противников Российской Империи – П. Милюкова, М. Ковалевского, Т. Масарика. С Витте Крейн виделся всего раз в 1902 г. Крейн, однако, не одобрял финансирование Шиффом войны Японии против России, а компания «Вестингауз» пожертвует 10 тыс. руб. на поддержку Царицей Александрой жертв войны. Такая позиция вызывала постоянное недовольство Я. Шиффа. В дальнейшем Крейна обвиняли в связи с Л. Троцким, что опровергается биографом [Norman E. Saul «The Life and Times of Charles R. Crane 1858-1939» Lexington Books, 2013]. Тем самым не подтверждается конспирологическая конструкция Петра Мультатули, у которого Ч. Крейн в числе «главных финансистов Троцкого», представитель «иллюминатов и ИМКИ». Фантазия, будто Крейн получал информацию о расследовании убийства Царской Семьи – непозволительный вымысел, ничем не подкреплённый, как и сумасбродное объявление Зиновия Пешкова информатором Крейна [П.В. Мультатули «Николай II. Дорога на Голгофу» М.: АСТ, 2010, с.277].
С.Ф. Ольденбург 15 февраля 1903 г. написал своему 14-летнему сыну, будущему историку и правому политическому публицисту: «утром в 9 отправился к Джексону в отель; очень приятно было видеть его, такой он славный, он много спрашивал про бабушку и тебя. Мы с ним провели большую часть дня вместе, попали даже к полковнику Верещагину, который показывал свои коллекции» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.10 Л.86].
Согласно материалам особой комиссии по пересмотру законоположения по судебной части 1890-1905 Горемыкин и Куломзин выступали на заседаниях соединённых департаментов Г. Совета 18 декабря 1902 г., 3 февраля, 3, 10, 14 марта 1903 г. по теме разработки новых судебных уставов.
С.М. Лукьянов 4 марта послал И.Л. Горемыкину том Н.П. Барсукова о Михаиле Погодине со знаменитым письмом Белинского Гоголю, которое отметил закладкой.
17 марта по просьбе Горемыкина, Витте прислал ему экземпляр исторического обзора деятельности министерства финансов за столетие. В остальном присланные от Витте записки не датированы. Можно предположить, что обращение Витте «позвольте Вам рекомендовать Петра Александровича Бадмаева» относится ближе к началу работы Горемыкина в МВД. Есть и несколько приглашений на обед со стороны Матильды Витте.
Отец С.С. Ольденбурга писал ему, что 17 марта ездил обедать к баронессе Икскуль, были её сыновья, «Султанова, Вейнберг, Михайловский, М-ме Горемыкина с дочерью бар. Медем, Вельяминов. Много было разговоров о Медицинском институте» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.10 Л.105].
В апреле 1903 г. супруга Горемыкина писала ему в излюбленное родное село Белое.
23 мая Горемыкин взял отпуск от работ в Г. Совете на обычное вакантное время по 15 октября плюс ещё 2 месяца. 6 июня он выехал из Петербурга.
В отличие от обычной неофициальной переписки, А.С. Ермолов на бланке министерства земледелия уведомил Горемыкина 21 июня, что указом на имя министра финансов Царь повелел продолжить в прежнем объёме пожалованное арендное производство по 4 тыс. руб. в год с 30 августа 1903 г. на 4 года.
21 июля 1903 г. Э.Ю. Нольде, благодаря за присланный авторский свод узаконений, назвал его превосходным трудом, ставшим «настольною книгою для всех занимающихся крестьянскими законами, а при разнообразии Комитетских дел нам и с ними приходится справляться» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1040 Л.2].
22 июля 1903 г. В.Н. Коковцов на бланке государственного секретаря прислал И.Л. Горемыкину такую же благодарность.
Врач А. Гершенсон, очень занятый при Великом Князе Михаиле Николаевиче, 17 августа едва нашёл время чтобы прочесть письмо И.Л. Горемыкина и выразить уверенность, что его супруга поправится и «беспокоиться не следует. Заочно давать советы мудрено и зазорно», однако он рекомендовал при бронхите принимать дёготь или скипидар.
13 декабря 1903 г. под председательством Голубова образовалась подготовительная комиссия на разработку проекта правил о пенсиях мастеровым и рабочим технических заведений артиллерийского ведомства, утратившим трудоспособность.
Чрезвычайное заседание Сената открылось 28 января 1904 г. в 14.30 в присутствии И.Л. Горемыкина и ещё 85 сенаторов. Н.В. Муравьёв в качестве генерал-прокурора прочёл манифест Николая II о начале сражений с Японией.
17 февраля 1904 г. на панихиду в доме генерала П.С. Ванновского на Большой Садовой собрались Великие Князья, министры, члены Г. Совета. Прибыл и Государь Император. Похороны состоялись 20 февраля.
Супруга убитого министра Д.С. Сипягина взялась за помощь участникам войны. 25 февраля 1904 г. при отправлении по Московско-Казанской железной дороге 875 рабочих и мастеров Балтийского судостроительного завода на Дальний Восток она передавала каждому из них табак, чай, сахар, тёплые вещи, иголки с нитками и другие предметы. Вместе с супругой московского губернатора она же раздавала то же и солдатам 37-й артиллерийской бригады.
8 марта Государь принимал несколько губернаторов, в том числе П.А. Столыпина и А.Н. Хвостова – будущих министров внутренних дел. 4 марта Столыпин отдельно представлялся Царице Александре. В данном случае можно довериться Вл. Гурко, что назначение Столыпина в 1906 г. состоится по личному выбору Николая II, хотя Царь предложит Горемыкину на выбор ещё одну фамилию.
И.И. Шамшин приглашал И.Л. Горемыкина на обед 20 марта к 18.30, пользуясь его предложением выбрать день.
9 июня 1904 г. И.Л. Горемыкин был назначен председателем Особого Совещания при Г. Совете для обсуждения новой редакции судебных уставов, выработанной комиссией министерства юстиции. Совещание работало до сентября 1904 г.
М.И. Горемыкин 27 июня сообщал матери, что приехал на службу в Витебск «и шумно был принят сынами израиля». «Ты знаешь что я душе старая дева или старый холостяк – что хочешь, на выбор, одиночество меня не тяготит». «Стал читать дела, боюсь завраться, но, кажется, справляюсь». «Первое моё заседание будет не ранее 15 июля по уголовным делам. Затем думаю уехать на 4 дня во Псков».
14 июля 1904 г. Горемыкин был назначен председателем Особого в составе Г. Совета совещания для подробного рассмотрения внесённых министерством юстиции проектов преобразования судебной части.
М.И. Горемыкин из Пскова отправил телеграмму отцу 15 июля в 17.58 в с. Белое: «Сегодня [в] 11 утра бомбой [у] Варшавского вокзала убит Плеве. Оторвало голову» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.638 Л.17].
В 1918 г. связанный с мировой закулисой и А. Мильнером Т. Масарик записал со слов Б. Савинкова, что убийство Великого Князя Сергея Александровича стоило 7 тыс. руб, а убийство Вячеслава Плеве – 30 тысяч [Э. Ротштейн «Когда Англия вторглась в Советскую Россию…» М.: Прогресс, 1982, с.72].
17 июля 1904 г. А.М. Абаза писал из С.-Петербурга о том, кто мог заменить убитого министра Плеве. Князь Святополк-Мирский, бывший заместитель Д.С. Сипягина, назван хорошим человеком и не красным. Вторым кандидатом он назвал князя Воронцова-Дашкова, а третьим – И.Л. Горемыкина. Все были чем-то нехороши, Горемыкин – тем что для экономии времени заставлял курьеров ставить печати с подписью, не желая заниматься механическими формальностями [«Красный Архив», 1926, Т.17, с.80].
М.И. Горемыкин был поражён тем как среди либеральной интеллигенции совершённое террористами убийство вызывало радость и считалось чем-то оправданным и политически необходимым. 18 июля из Витебска он написал отцу: «здесь страшное и скажу странное впечатление произвело убийство П. Изумлён тем что слышу, начиная с речи преосвящённого на торжеств. панихиде. Да об этом лучше на словах». Насаждение левыми силами столь вопиющих антихристианских настроений не могло не вызывать страх за то, во что они старались превратить Россию (т.е. переработать его в богоборческий СССР или откровенно псевдохристианское фарисейство предугаданного И.Л. Солоневичем нового партийного рабства РФ). Опору Империи Михаил увидел на обеде со старыми заслуженными генералами, где произносились демонстративные речи в честь его отца: «Ключарев встаёт и начинает говорить: «Ив. Лог. Гор.» и поехал».
Левый историк К.А. Соловьёв несколько невнятно упоминает в книге «Кружок Беседа», что после убийства Плеве в каком-то далеко не едином мифическом «обществе» (?) Горемыкина звали желательной персоной для МВД из-за его проземской позиции.
Но можно встретить и претензии что именно Горемыкин изобрёл систему контрреволюционной «децентрализации», вмешательств в автономию местных земских учреждений [«L’Aurore» (Paris), 1905, 17 avril. p.1].
А.Г. Небольсин писал 22 июля 1904 г.: «Воображаю как известие о Плеве потрясло Ив. Ив. [Янжула]; но кто его заменит вот вопрос. Пожалуй этим обстоятельством сумеет воспользоваться Витте, чтобы сделаться “премьером”. Это мне кажется возможным, если он не очень опротивел Государю, а то могут пожалуй назначить какого-нибудь храброго генерала, от которого ждут водворения законного порядка в России». Витте считали умным и энергичным, но опасались как «в высшей степени тщеславного, самодовольного и властолюбивого» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.334 Л.66].
П.Д. Святополк-Мирский, новый министр внутренних дел, получил права «почти диктатора», как делалось прежде для борьбы с покушениями «Народной воли» [Н.С. Таганцев «Пережитое» Пг.: 18-я гос. тип., 1919, с.73]. Новый министр продолжал политику В.К. Плеве, одобряя работу контрольной комиссии, занимавшейся ревизией дел С.-Петербургской городской думы: «честные общественные деятели не бояться должны контроля, не препятствовать ему, а желать его и идти на встречу» [В.А. Скрипицын «Один из редких в наше время (посвящается памяти Н.П. Аксакова)» СПб.: Городская типография, 1909, с.18].
Подвергая князя Святополк-Мирского чрезмерной, неуместной критике, консервативная печать подрывала авторитет правительства и подыгрывала разрушительным силам, по сути, присоединяясь к ударам по Николаю II. Подъём революционного движения ставился в вину МВД, а не социалистам и либералам, что является абсурдом.
И.Я. Голубев 2 августа ждал Горемыкина у себя к обеду.
8 августа 1904 г. В.И. Икскуль фон Гильденбандт по прозвищу баронесса Выхухоль писала о последствиях рождения Наследника: «важные дни переживаем – и я, несмотря на все пессимистические разговоры, – надеюсь. Ничего не дали из того, что многие ожидали, но мне всё-таки кажется, что получено много: будет зависеть от умения дальше добиваться большего. Надо слышать негодование Горемыкиных, Игнатьевых, Стишинских и т.п. Все шипят и предсказывают полный провал «революционной партии» [левых в Г. Совете]. Я боюсь бестактности и раскола» [«Лица. Биографический альманах», 1994, Т.4, с.115].
Когда умерла баронесса Варвара Ивановна Икскуль, Е. Кускова в газете Керенского «Дни» выпустила воспоминание, как в 1899 г., во время ареста её мужа Прокоповича, баронесса сказала ей что любит народников и считает относительно бомб и убийств, «что моральней отстранить человека с его поста, если он идёт против народа, чем поднимать класс на класс». Сведения о деле Прокоповича баронесса получила от директора Департамента Полиции Зволянского [«Двуглавый Орёл» (Париж), 1928, 7 марта, №16, с.35].
С августа по ноябрь 1904 г. И.Л. Горемыкин оставался в С.-Петербурге и получал на Сергиевской, 55 корреспонденцию от уезжавшей супруги, славшей ему открытки и письма из почтового вагона и Витебска. Жена писала ему из Белого про урожай: «овёс чуть-чуть зреет», и про устроенный ею «спектакль в пользу оставшихся семейств солдат. Устраивала всё это торжество – местная интеллигенция, был гимн, гитары, песни и 2 пьесы, очень не дурно сыгранные, народу было – много, приглашали от моего имени. В общем, очень прилично и хорошо» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.609 Л.1-9].
М.И. Горемыкин 20 сентября рассказал отцу, как его принимал новый глава МВД: «спрашивал о тебе и времени твоего возвращения в город».
17 октября сам И.Л.Горемыкин был у П.Д. Святополк-Мирского. Это посещение дало основание жене министра приписывать Горемыкину высказывания против Николая II. Точность воспроизведения выражений при двойном пересказе и записи через три дня весьма сомнительна и не заслуживает столь частого цитирования. Критики Императора Николая II, как всегда, хватаются за фразы, приятные им по звучанию, но не заботятся доказать достоверность приписываемых И.Л. Горемыкину выражений. В свете его полной биографии следует заключить, что совокупности бесспорно принадлежащих ему суждений Горемыкина обвинение Николая II в фальшивости не соответствует. Постоянно общавшиеся с Горемыкиным близкие знакомые, как Шелькинг, записали совсем другие высказывания его о Царе.
Поскольку все прежние способы цензурного сдерживания левой печати себя исчерпали, принесли положительные результаты, но не смогли переломить ход ведения идеологической войны в пользу Самодержавия, политический опыт показал необходимость смены тактики.
В Одессе сторонник Самодержавия, известный правый монархист П.Е. Казанский проявил политическую чуткость в понимании причин использования Императором Николаем II новых методов борьбы именно когда потребность к этому достаточно назрела. 30 октября 1904 г. П.Е. Казанский писал: «общее сочувствие вызывает большая свобода для печати говорить, высказывать всякие пожелания и обсуждать всякого рода события. По-видимому это – единственный путь выбраться благополучно из всех наших замешательств» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.2 Д.418 Л.12об.].
Логика царской политики заключается в пользе устранения части претензий к Самодержавной Монархии за её стеснения печати. Новая ставка делалась, помимо ослабления революционной мотивации, на предоставление возможности правым монархистам в обществе, вне власти, начать более активную борьбу с левыми силами. Это снижало постепенно становившуюся чрезмерной нагрузку на власть. При постепенном неуклонном увеличении численности населения, приближении к всеобщей грамотности, становилось ясно что предварительная цензура перестаёт действовать как эффективное охранительное средство при огромном числе печатных органов.
Отказ от прежней тактики настал, когда её результативность перестала быть достаточно велика сравнительно с издержками. Преждевременная смена курса была бы ошибкой, поскольку принципам власти не соответствовало переложение на общество тяжести ведения политической борьбы. Устранение прежнего контроля над печатью неизбежно разжигало опасные бурные страсти, предоставляло революционному лагерю дополнительные возможности. Доколе этих недостатков можно было избежать, монархическая политика вредные последствия смены курса старалась не допустить. Важное достоинство Императора Николая II и его сотрудников заключалось в умении держаться наиболее адекватной и актуальной политики. Элита Царской России не застревала в прошлом, а умела находить адекватные происходящим объективным изменениям обстоятельств ответы на вызовы времени, не отказываясь от правых монархических принципов, а укрепляя их. Не капитулируя перед либерализмом и демократией, а проводя активное наступление на левые идеологические системы не испробованными прежде приёмами.
Многие крайне правые монархисты поняли эту логику действий Николая II: «ежедневно появляется в печати такое число листов, какого самый прилежный читатель не мог бы одолеть за целый год», «сохранение предварительной цензуры в громадном большинстве случаев было бы бесполезно и нежелательно». Без помощи цензора, сам читатель теперь должен отвергнуть подавляющую часть этой печатной продукции, когда «чтение – только бесполезная трата времени. Чем больше появляющееся ежедневно число книг и статей, тем менее у читателей шансов напасть на нужную им книгу». «Периодическая пресса, гоняясь за подписчиками, понизила уровень публики до крайних пределов» [Д.Н. Цертелев «Свобода печати и право обмана» М.: Университетская типография, 1906, с.15-16].
В свою очередь, либералы не спешили праздновать. А.Л. Погодин, информатором которого о политическом раскладе сил был министр А.С. Ермолов, писал 31 октября 1904 г. о позиции Николая II: «Известия из Петербурга довольно унылые. Говорят, реакционная партия ещё очень сильная и «реформа» [конституция], которую предсказывают газеты, ещё далеко» [СПФ АРАН Ф.176 Оп.2 Д.351 Л.168об.].
Новую ситуацию с печатью отразил стишок, присланный М.И. Горемыкиным 13 ноября 1904 г.:
Старушка дряхлая – цензура
Держала Русь под колпаком…
«Мы?» – мы умны; старушка дура!
Кричали яростно кругом.
И криком диким утомясь
Старушка отошла слегка…
И Русь, немного удивясь,
Болвана зрит без колпака!
В ноябре 1904 г. родственник Горемыкина С.И. Капгер через швейцара передал ему ходатайство о восстановлении прав, утраченных после осуждения и ссылки. МВД запросило его характеристику по месту службы агрономом в Новороссийске и вернуло ему права потомственного дворянина.
14 ноября 1904 г. А.А. Хвостов писал, что хотел навестить И.Л. Горемыкина, но по телефону узнал о его отсутствии дома. В связи с этим Хвостов послал письмо прокурора Новгородского окружного суда Завадского. «Завадский человек серьёзный и на его рекомендацию, подкреплённую к тому же отзывом всех судей гражданского отделения суда, думаю, можно вполне положиться» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1351 Л.5].
Владимир Гурко 21 ноября писал: «Милостивый государь Иван Логгинович. Прежде всего крайне извиняюсь, что не представил Вам до сих пор краткого резюме происходившего на Совещании, бывшем под Вашим председательством у Министра Внутренних Дел. Дело в том, некоторые предположения, намеченные на этом Совещании, затем подверглись изменению. При таких обстоятельствах мне казалось более осторожным сообщить Вам намерения Министерства, когда они выльются во вполне определённую форму. Ныне это состоялось. Отзывом от 18-го ноября Министр Внутренних Дел сообщил свои предположения Министру Юстиции. Копию с сего отзыва при сём имею честь приложить. Отзыв этот хотя и составляет вполне верное отражение намерений Министра, но однако не вполне полное. Не разрешите ли мне устно Вам доложить то, что в отзыве этом не помещено? В утвердительном случае благоволите сообщить мне по телефону когда Вам возможно меня с этой целью принять» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.702 Л.1-2].
Согласно журналу №29, И.Л. Горемыкин присутствовал на всех заседаниях Особого Совещания о нуждах с/х промышленности под председательством Витте 8, 11, 15 декабря 1904 г., будучи приглашён на правах члена ОС с разрешения Императора Николая II. По отмеченной в журнале группировке мнений можно встретить отдельную позицию графа Шереметева, князя Щербатова, Стишинского, Хвостова – когда Горемыкин оказывался на стороне Витте, Куломзина, Ермолова, Кутлера, Манухина, Шванебаха, Герарда, Тернера, Евреинова, Чихачёва, Воронцова-Дашкова, Сабурова, Вяземского, Калачова, Оболенского, Кочубея, Семёнова.
Другой пример показывает, что Шванебах, Оболенский, Сабуров считали что государство не должно регулировать порядок владения общинной собственностью. 15 членов ОС – кроме этих 3-х из перечисленных ранее, указывали, что правительство должно разрешать вопросы организации межевания, выделения из общины «подворных участков, устройства хуторского хозяйства и т.п.». Горемыкин с Витте оказывались и тут заодно. Подписывая журнал совещаний, И.Л. Горемыкин добавил: «Считаю долгом оговорить, что состоявшая под моим председательством комиссия участия в составлении этого журнала не принимала» [РГИА Ф.1212 Оп.1 Д.1 Л.144, 150, 164, 180].
Далее в журнале №30 указано что И.Л. Горемыкин присутствовал на заседаниях ОС 18, 22, 29 декабря 1904 г., 5, 8, 12 января 1905 г. За эти дни встречается отдельное мнение Лобко, Шереметева, Стишинского, Хвостова – против 19 чл. ОС, считавших, как Горемыкин, Витте, Коковцов, что реформа крестьянского суда должна быть проведена «в точном соответствии» с указом Царя 12 декабря 1904 г. Вскоре, когда ОС возглавит Горемыкин, Стишинский признается что не доверял Витте и только поэтому выступал против него. Император Николай II тоже не пожелал оставить крестьянское дело в руках Витте и предпочёл ему Горемыкина.
Обращение же к воспоминаниям Владимира Гурко «Черты и силуэты прошлого» позволяет в очередной раз убедиться, что ими невозможно пользоваться из-за склонности автора к определённым мифологическим сюжетам. Выдумываемая Гурко фигура И.Л. Горемыкина всякий раз полностью не соответствует тому кем он был в действительности. Вл. Гурко, следуя задачам своей идейной борьбы с правыми монархистами, не в состоянии изобразить их достоверно, иначе левая мифология рассыпется. Хотя во всех протоколах безусловно указано что Горемыкин и Витте придерживались одних суждений, однако Вл. Гурко ложно заявляет, будто И.Л. Горемыкин, посещая все заседания, «определенно выражал своё несочувствие тому направлению, которое стремился дать разрешению этого вопроса Витте», дабы «достигнуть своей цели, т.е. свалить Витте».
В 1905 г. с портретом И.Л. Горемыкина вышло издание в пользу попечительного общества о доме трудолюбия для калек и увечных воинов: «Галерея государственных, общественных и торгово-промышленных деятелей России». Помимо самых достойных министров и членов Г. Совета в этот альбом попали портреты и таких подлецов, как финансировавший террористов М. Горький и укрывавший их И. Петрункевич.
В своё время не утвердили М.И. Петрункевича в должности заведующего Врачебно-Санитарной частью города Москвы, т.к. его брат, по словам Горемыкина, «не давал покоя бюрократии» [Н.И. Астров «Воспоминания» Париж, 1941, Т.1, с.258]. И.Л. Горемыкину приписывали фразу насчёт земского Ильича, И.И. Петрункевича: «пускай он перестанет заниматься нами и займётся своими личными делами, тогда и мы оставим его в покое» [В.И. Назанский «Крушение Великой России и Дома Романовых» Париж, 1930, с.300].
И.И. Петрункевич называл войну, объявленную России – русским преступлением, попыткой придворных авантюристов ценою русской крови захватить богатство чужого края. Поскольку не Россия начала войну с Японией, то естественно, что именно последовательная захватническая японская политика должна называться преступлением. Такие лица как Петрункевич потворствовали внешним, японским врагам России и внутренним террористам. В 1906 г. Петрункевич отказался осудить убийство тверского губернатора, после чего появились некоторые заявления о выходе из партии к.-д., потворствующей убийствам. В связи с этим всем предельно неуместно было соседство его с Горемыкиным в таком фотоальбоме.
Интеллигентские соорганизаторы преступной провокации 9 января за день до того, не ходили по революционным организациям и отменяли их планы, чего следовало ожидать, если бы они опасались за жизнь рабочих. Ради возложения на правительство ответственности за планируемые ими столкновения с полицией, они ходили к министрам. Участники депутации к Витте 8 января, включая М. Горького, все были потом арестованы властями как виновные в произведённой операции.
Как потом рассказывал Гапон, план стрелять в Царя 9 января был не его, а напарника – Рутенберга, но в любом случае эти события являются не мирной демонстрацией, а террористической провокацией [«Вопросы истории», 2015, №11, с.41]. Сам Гапон ожидал что в результате акции 9 января он захватит всю власть как «фактический правитель России» [В.А. Поссе «Мой жизненный путь» М.-Л.: Земля и Фабрика, 1929, с.381].
Вскоре не царские власти, а сам Рутенберг, прятавшийся из-за еврейской фамилии и партийной принадлежности за спиной Гапона 9 января, “мирно” и демонстративно повесит его за отступление от эсеровской линии насильственной борьбы.
Рутенберг и Горький будут долго поддерживать отношения и 6 июля 1935 г. из Лондона Рутенберг напишет ему о своей дружбе с английскими министрами [«Время Горького и проблемы истории» М.: ИМЛИ РАН, 2018, с.43].
9 января 1905 г. Горький писал бывшей жене: «началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренне и серьёзно поздравляю. Убитые – да не смущают – история перекрашивается в новые цвета только кровью» Убийства были для революционеров праздником и горючим для разжигания всех последующих смертоубийств [«Екатерина Павловна Пешкова. Биография» М.: Восточная книга, 2012, с.156].
Таким был их предварительный план. По воспоминаниям приближённого к Гапону Н.М. Варнашева, ещё за 3 дня до провокации Гапон предупредил его: «будут стрелять. Расстреляют идею царя! А жертвы – так и этак неизбежны!». 7 января, как пишет французский журналист, Гапон призывал «сражаться за свободу на смерть». Т.е. левые распространители мифологии о мирной демонстрации откровенно сами себя разоблачают. Как и все революционные акции, эта была организована интеллигенцией через студентов. В полицейской записке А.А. Лопухина говорится, что «в рабочей среде, понявшей, что она сделалась жертвой обмана, появилось недружелюбное отношение к студенчеству, и 11-го января на Васильевском острове значительною толпою рабочих была избита кучка студентов. Побоище было прекращено разъездом казаков». Руководящая роль студентов подтверждается множеством свидетельств. Тот же левый французский журналист, который дружил с большевиками, сообщает что при расстреле 8 пуль попало в студента Савинкина. «Савинкин находился около Александровского сада во главе рабочих» [Э. Авенар «Кровавое воскресенье кровавого императора» М.: Т8, 2022, с.37, 74, 101, 167].
Как сообщал в донесении Австро-Венгерский посол, 9 января власти были спровоцированы революционными грабежами и попытками разоружить солдат [«Рабочий класс в период первой российской революции 1905-1907 гг.» М.: Наука, 1981, с.98].
В декабре 1905 г. на московской квартире Горького будет храниться оружие, деньги и бомбы террористов. Ответственности за организацию революционного штаба Горький избежал, ускользнув от полиции за границу, собирая там деньги для новых убийств в России [М. Горький «Письма» М.: Наука, 1999, Т.5, с.252].
Потом Горький приветствовал и массовые социалистические насилия, которые привели к истреблению миллионов русских крестьян: «кулака разделали – отлично! 29.1.29» [И.С. Шкапа «Семь лет с Горьким» М.: Советский писатель, 1966, с.308]. 8 января 1930 г. Горький в письме своему единомышленнику Сталину приветствовал уничтожение всего строя жизни русской нации, «разрушение самой глубочайшей основы их многовековой жизни» [Б. Сарнов «Сталин и писатели» М.: Эксмо, 2008, Т.1, с.12].
Это единственно возможный исторический контекст драмы революционного пренесения жертв 9 января ради раскручивания легенды о кровавом режиме и дальнейшего революционного истребления нации.
Тем важнее рассмотреть, кто противостоял развороту судеб России в кровавый тупик революции. Как утверждает советский историк С.В. Тюкавкин, «современники видели в начале 1905 г. весьма влиятельное трио: Д. Трепов, Горемыкин и Кривошеин». По-видимому, он использовал лишь недавно опубликованные воспоминания П.П. Менделеева, который со слов Витте писал в эмиграции, будто И.Л. Горемыкин, В.Ф. Трепов и А.В. Кривошеин вели ловкую закулисную интригу через Д.Ф. Трепова. Но это относится не к началу 1905 г., а к премьерству Витте. После увольнения Витте много говорил о закулисной травле и коварном отношении Горемыкина, Трепова и Дурново. Однако удостоверить сочинения Витте нередко не удаётся и какие именно действия якобы предпринимал Горемыкин против Витте – неведомо. Другим таким якобы много чего видемшим современником был Владимир Гурко.
Следует отметить, что Владимир Фёдорович Трепов запомнился как очень умный, гордый, властный и преданный России крайне правый монархист, сочетавший бурный неукротимый темперамент со здравым смыслом. Умеренный Кривошеин, знавший В.Ф. Трепова, «не очень-то» его любил, но звал за сильные черты характера барсом и леопардом. В 1918 г. В.Ф. Трепов героически возглавил петроградское отделение контрреволюционного Национального Центра и был расстрелян большевиками [Ив. Тхоржевский «Бурбоны и Орлеаны. Из заметок русского монархиста» // «Возрождение» (Париж), 1936, 14 января, с.2].
Кривошеин находился под непосредственным начальством Горемыкина до 1895 г. и затем пользовался покровительством министра: по его рекомендации Император назначил Кривошеина помощником начальника Переселенческого управления, а затем и начальником. Николай II как и с Горемыкиным, с Кривошеиным познакомился впервые в Комитете по железным дорогам, будучи Наследником [К.А. Кривошеин «Александр Васильевич Кривошеин» М.: Московский рабочий, 1993, с.7-11].
19 января 1905 г. И.Л. Горемыкин подал Императору записку с проектом улучшения положения крестьян через изменение общинного землевладения, продолжение переселенческой политики и увеличения содействия Крестьянского банка.
А.А. Завьялов, прокурор Московской синодальной конторы, 10 февраля 1905 г. писал К.П. Победоносцеву об ощущениях после ужасного убийства Великого Князя Сергея Александровича. Супруга покойного навещала в Яузской больнице раненого кучера и провожала его тело пешком до вокзала, когда он умер от последствий взрыва бомбы. «Самые равнодушные люди, скептики, болтуны, а особенно толпа исполнена искреннего восхищения такими действиями Её Высочества. Москвичи совершенно сконфужены и не могут не сознавать своего преступного малодушия и попустительства» [РГИА Ф.1574 Оп.2 Д.269 Л.1-2].
Пытаясь вызволить Горького из Петропавловской крепости, 13 февраля его любовница М.Ф. Андреева обещала издателю К.П. Пятницкому: «я поеду к И.Л. Горемыкину и буду просить его повлиять на Дурново (министерство внутренних дел), с которым он в отличных отношениях, в свою очередь просить принять меры против [Д.Ф.] Трепова» [М.Ф. Андреева «Переписка. Воспоминания» М.: Искусство, 1963, с.75-76].
Близость Горемыкина к театральному миру актриса планировала использовать в случае, если бы Горького не освободили. Насколько ей было известно, Булыгин ненавидел Трепова. Существование же союза Горемыкина и Трепова здесь не подтверждается. Скорее напротив.
Все сословия страдали от разворачивающегося массового террора. Отец В.В. Маяковского в феврале 1905 г. писал из Нергетов: «у нас время проходит очень буйно, и не знаем, в чём дело, так как во всех рядах все разбойники и люди, старающиеся захватить твоё. Я по целым ночам настороже, чтобы наши не подожгли караулку. А полиция спит». Только и оставалось, что надеяться на спасение полицией. В марте он же писал, что сожгли канцелярию лесничего, много церквей и сельских канцелярий. Мать Маяковского не отставала в описании революционных ужасов в начале марта 1905 г.: «большие грабежи средь бела дня». Сестра Маяковского Ольга из Кутаиса, тоже в феврале, писала про бунт около бульвара с несколькими убитыми. А в её гимназии в окна бросали камни, разбивая окна и перепугав детей: «с некоторыми сделалось дурно, и многие плакали» [«Семья Маяковского в письмах. 1892-1906» М.: Московский рабочий, 1978, с.290-296]. В советских публикациях, едва предоставлялась лазейка, пытались переложить вину за повсеместные насилия, в т.ч. против детей, на каких-то посторонних хулиганов. В начале 1905 г. камнями забрасывали не только школы, но и музеи. Покрываемая коммунистами ответственность революционеров прямо записана в парижском издании мемуаров М.К. Тенишевой про террор в Смоленске [«Прометей», 1987, Т.14, с.77].
Организация забастовок производилась в начале 1905 г. по одной схеме сторонних насилий, запугиваний и обманов рабочих: «к местному революционному движению примкнули русские революционеры с неизбежными их сотрудниками, подчас вдохновителями, – евреями и появились беспрерывные забастовки на промыслах, в железнодорожных мастерских, служащих на конно-железной дороге, пекарей, торговцев-приказчиков», оставляя население страдать без хлеба и воды. Рабочим, которые отказывались подчиняться революционерам «угрожала смерть за измену стачке» [А.М. Кузминский «Всеподданнейшая записка, содержащая главнейшие выводы отчёта о произведённой в 1905 году, по Высочайшему повелению ревизии города Баку и Бакинской губернии» СПб: Сенатская типография, 1913, с.7].
По официальным данным, всего за 1905 г. рабочие из-за революционеров лишились 17,5 млн. руб. недополученной зарплаты, потерянной из-за массовых стачек [В.И. Ленин «Полное собрание сочинений» М.: Политиздат, 1980, Т.19, с.391]. Священномученик протоиерей Иоанн Восторгов в 1905 г. справедливо писал «Против социалистов всех партий», что именно социалистическое учение «обездолило рабочий народ, принесло нищету и разорение тысячам трудящихся людей, разорило многих хозяев», оставило рабочих без заработка [Прот. И.И. Восторгов «Социализм при свете Христианства» СПб.: Царское Дело, 1998, Т.5, с.12].
В Новгородской губернии почти не было крестьянских бунтов, вызываемых на селе, как правило, приезжими студентами-провокаторами. Однако губернское земское собрание находилось в руках конституционалистов. Боровичский гласный И.А. Корсаков, богатый владелец винокуренного завода, продвигал конституционные идеи в Новгороде и на его квартире проходили собрания с той же целью в С.-Петербурге на Фонтанке, 52.
В понедельник 28 марта Император принял И.Л. Горемыкина до обеда. Состоялись переговоры о будущем важном политическом назначении. Рескриптом 30 марта 1905 г. И.Л. Горемыкин был назначен председателем нового Особого Совещания о мерах к укреплению и расширению крестьянского землевладения. Горемыкину предписывалось охранять землевладение и неприкосновенность частной собственности. Воплощение выдающейся аграрной реформы Царя получило своё предрешение, и для этого эпохального дела Николай II избрал И.Л. Горемыкина. Распространённая терминология “столыпинской” реформы поэтому несостоятельна.
Совещание составили П.П. Семёнов, А.С. Брянчанинов, А.С. Стишинский, барон Ю.А. Икскуль-Гильденбандт, В.Ф. Трепов, П.Х. Шванебах, Н.Н. Кутлер, граф А.А. Голенищев-Кутузов, Н.Ф. Сухомлинов, князь А.Г. Щербатов, В.В. Меллер-Закомельский, А.Д. Самарин, Д.А. Хомяков, князь А.Д. Оболенский, А.В. Кривошеин, Вл. Гурко. Делопроизводитель Н.В. Плеве.
Сын убитого министра Плеве изучал переселенческое дело по Томской и Енисейской губерниям. В сентябре 1905 г. Н.В. Плеве получит назначение управляющим отделом сельской экономии и статистики и в последующие годы станет постоянным сотрудником И.Л. Горемыкина. Стишинский и Шванебах вскоре войдут в его правительство.
Д. Оболенский 4 апреля 1905 г. уведомлял: «передача дел И.Л. Горемыкину произвела в купеческом и биржевом мире хорошее впечатление». В письме В. Майкову от 8 апреля снижение революционной активности связывали с назначением И.Л. Горемыкина против Витте, «да и полиция стала работать» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1978 Л.87, 112].
9 апреля Б.В. Никольский написал в дневнике, что состав комиссии Горемыкина хорош по принципу, т.е. по правомонархической политической убеждённости.
Черниговский губернатор А.А. Хвостов сообщал 13 апреля 1905 г. в МВД, что под злонамеренным влиянием газет «Новости», «Русь», «Биржевые Ведомости», «Сын Отечества» крестьяне понимают указ 18 февраля и программу занятий комиссии И.Л. Горемыкина в пользу принудительного отъёма земель помещиков [«Красный Архив», 1936, Т.78, с.101].
В.Ф. Трепов 16 апреля в Симферополе написал И.Л. Горемыкину благодарность за назначение и выразил желание не пропустить первое заседание, «им я чрезвычайно дорожу», по «моему давнишнему желанию послужить крестьянскому делу». «Ваш широкий государственный взгляд на задачи управления, Ваш всеми признанный авторитет великого знатока крестьянского дела, Ваше всегда доброжелательное отношение к подчинённым даёт мне полное основание надеяться, что я у Вас многому ещё научусь» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1270 Л.1-2].
22 апреля датирован доклад И.Л. Горемыкина Государю «О существе и направлении работ» нового Особого Совещания. «Обдумав очерченную таким образом задачу совещания и стремясь выполнить её в возможно непродолжительном, согласно Высочайшему указанию, времени», И.Л. Горемыкин приходит к выводу: «Принятое Вашим Императорским Величеством по настоящему важному делу решение знаменует собою твёрдое намерение направить правительственную деятельность к практическому разрешению насущных нужд сельского населения в видах поднятия его хозяйственного благосостояния и вящщего укрепления той неразрывной связи» «между Престолом Царским и многомиллионным нашим крестьянством». «Я прихожу к заключению, что одних законодательных мер, могущих быть результатом работ учреждённого под моим председательством Совещания, для сего недостаточно». «К разрешению её, независимо от законодательных мер, будет приложена обширная и постоянная распорядительная деятельность в порядке управления». «Необходимо прежде всего образование такого центрального ведомства, которое приняло бы на себя исполнение всей распорядительной работы по улучшению крестьянского землевладения и для которого это дело являлось бы главным предметом его забот и попечений».
Для чего И.Л. Горемыкин предлагал преобразование Министерства Земледелия и Государственных Имуществ в Главное Управление Землеустройства и Земледелия с передачей ему из МВД Переселенческого Управления и некоторых дел Земского Отдела МВД, осуществив это в форме Царского Указа. Передачу Крестьянского банка из Министерства Финансов Горемыкин счёл излишней, т.к. было бы опасно «изъять эти Банки» (считая и Дворянский) из МФ, «ответственного за него в финансовом отношении».
«Наше законодательство всегда особенно бережно относилось к вопросам крестьянского землевладения, воздерживаясь от резкого вмешательства в прочно сложившийся земельный быт». «Соответственно сему и основной в этом деле вопрос об общинном и личном владении крестьян надельными землями не был разрешён Положением 19 февраля 1861 года законодательным путём, а был представлен в своём дальнейшем развитии естественному ходу вещей. Такое отношение к делу должно по моему убеждению, служить руководящим началом и для будущих работ в области крестьянского землевладения». «Существенною в сём отношении мерою должно быть облегчение выдела крестьянам в частную собственность участков надельной земли. Мера это вполне согласовалась бы с предуказанным в Высочайшем Манифесте 26 февраля 1903 года облегчением крестьянам выхода из общины и с коренными воззрениями составителей Положения 19 февраля 1861 года, видевших в общине не принудительный, а добровольный хозяйственный союз».
Показывая тем самым правильную преемственность и последовательность правой монархической политики, И.Л. Горемыкин писал: «выдел крестьян в частную собственность участков надельной земли» уже «узаконен, но практическое применение этой меры затруднялось до последнего времени существованием у крестьян круговой поруки и продолжающеюся выплатою выкупных платежей. Ныне, за отменою по закону 12 марта 1903 года круговой ответственности крестьян» «более предприимчивым и нуждающимся в хозяйственной независимости членам сельских обществ, желающим улучшить своё землепользование, будет открыт к освобождению от тяготеющей над ними хозяйственной власти мира и к переходу к более совершенным приёмам землевладельческой культуры».
25 апреля Государь записал: «принял три доклада – последний Горемыкина». Император одобрил намерения Горемыкина, и 6 мая 1905 г. вышел указ об учреждении Земледельческого комитета и Главного Управления Землеустройства и Земледелия. [И.И. Воронов «Министерство земледелия Российской империи». Дисс. д.и.н. СПбГУ, 2016, с.261].
Горемыкин 26 апреля отправил Витте просьбу прислать печатные протоколы предыдущего совещания о сельской промышленности, и все иные журналы и материалы. Витте отправил ему по 25 экз. протоколов.
Д.Ф. Трепов 30 апреля рекомендовал Горемыкину включить в Совещание елисаветградского уездного предводителя дворянства М.Н. Малаева, кому будет затем отправлено приглашение.
Н.В. Клейгельс, с которым прежде И.Л. Горемыкин тесно сотрудничал, 4 мая прислал ему из Киева приветствие. «Несколько лет тому назад я говорил Петру Павловичу Гессе, что как жаль, что крестьянский вопрос не был вверен Вам, как единственному человеку, знающему его не только многосторонне, но также и как хороший хозяин, который не мало лет прожил в деревне и знает действительную обстановку этой жизни». Клейгельс сожалел что не успел побывать у И.Л. Горемыкина когда в последний раз ездил в Петербург на похороны матери. Клейгельс сообщал что хотел бы присоединиться к Особому Совещанию И.Л. Горемыкина в качестве сотрудника и просил доложить об этом Императору Николаю II. Клейгельс не держался за свою должность генерал-губернатора и, рассчитывая на политическое влияние И.Л. Горемыкина на Царя, изложил свой взгляд на положение в Киеве. Клейгельс считал необходимым дать генерал-губернатору должность командующего войсками, особенно теперь, «когда так часто приходится прибегать к содействию военной силы». В противном случае Клейгельс считал уместным упразднить пост генерал-губернатора и усилить власти отдельных губерний, указывая на отсутствие у губернаторов огромного многонаселённого края «необходимых средств», без которых «решительно нет возможности управиться с делом и эти средства, конечно, много помогли бы. Да Вам, впрочем, хорошо известно истинное положение всех условий жизни Края». Особо Клейгельс жаловался на «недостаток личных средств» для ведения дел согласно своему пониманию. «Если бы Вы признали нужным меня повидать, я немедленно приеду. Посылаю при этом некоторые мои циркуляры» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.830 Л.2-3].
6 мая состоялось посещение П.Х. Шванебахом И.Л. Горемыкина с обсуждением дальнейшей общей работы. 8 мая Шванебах передал записку о порядке проведения в исполнение Указа об учреждении ГУЗиЗ на первых порах и планировал навестить Горемыкина для предоставления соображений перед первым заседанием Особого Совещания [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1390 Л.1-4].
В переписке, перлюстрированной полицией, не предназначавшейся для какой-либо рекламной агитации, встречаются одобрительные мнения о личности И.Л. Горемыкина. Столпаков, 11 мая: «имею смелость возлагать большие надежды на Горемыкина, человека умного и опытного. Можно поручиться, что он не повторит ошибок ни своих, ни Плеве, ни тем менее Мирского» (вероятно, А.Н. Столпаков, до 1895 г. директор департамента шоссейных сообщений, близкий знакомый М.Л. Казем-Бек). Н.А. Хвостов, 13 мая: «Вместо Ермолова на новое ведомство, кажется, сажают Стишинского, чему я очень доволен. Рескрипт Горемыкину был единственный акт за последнее время, которым я остался доволен» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1979 Л.183,193].
По просьбе Горемыкина Коковцов 13 мая открыл ему кредит в 5000 р. на делопроизводственные расходы. Переписку по делам Совещания для Горемыкина вёл Яхонтов, получавший 50 р. в месяц.
А.С. Суворин 16 мая прислал И.Л. Горемыкину записку с просьбой оказать содействие сотруднику «Нового Времени» по подаче сведений о заседании крестьянского Совещания.
17 мая Горемыкин открыл работу Совещания, обратив внимание на выдающееся значение предстоящей работы, рассматриваемой как «великую службу» Государю в заботе о народных нуждах, которые «постоянно занимают Державные мысли Царя». Основными задачами Горемыкин поставил: выработку наказа ГУЗиЗ по вопросам землевладения, составление инструкций Крестьянскому банку, ведение законодательного труда в сторону улучшения условий крестьян. Цель — «облегчение выдела крестьянам в частную собственность причитающихся на их долю участков надельной земли». Дополнительно следовало приготовить итоговый законопроект по межеванию, рассмотреть способы устранения чересполосицы и прекращение сервитутов в Западных губерниях.
Донесение подольского губернатора в МВД, 19 мая пересланное им же для Горемыкина, сообщало что при требованиях толпами крестьян помещикам и арендодателям повышения зарплаты и «об изгнании евреев из экономий», в целях успокоения губернатор повелел мировым посредникам зачитывать крестьянам рескрипт Царя Горемыкину и раздавать его текст. Беспорядки разжигались «извне путём распространения прокламаций» и агитацией приезжих. Недовольство крестьян также порождалось «хищническими еврейскими арендами».
На заседании совещания 20 мая Горемыкин, отстаивал приглашение крестьян для прямого выслушивания их суждения без посторонних влияний на них, но начисто отвергал всякие избирательные голосования: «ни о какой баллотировке, подсчёте голосов и т.п. не может быть и речи». При обсуждении Горемыкин затронул вопрос, продают ли банки преимущественно крестьянам имения, получаемые от помещиков: «насколько мне известно, банки обязаны реализовать эти земли в определённый срок». П.П. Семёнов заверил его, что именно продажа крестьянам преобладает в текущей практике, т.е. этот источник пополнения крестьянских фондов уже работал и не требовал политического вмешательства [РГИА Ф.1212 Оп.1 Д.2 Л.254-275].
Д.А. Хомяков 22 мая отправил И.Л. Горемыкину своё суждение на представленный ему проект «объявления от лица Вашего о созыве представителей (выборных) от крестьян», выразив желание о замене выражения «регламентация землепользования», которое «не удовлетворит крестьян». Также Дмитрий Хомяков писал, что нет смысла возвещать о свободе выборов, что возбудит только сомнения в свободе, и что вопрос о возмещении расходов депутатов на проезд в С.-Петербург не стоит упоминания [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1360 Л.2-3].
В качестве специалистов дополнительные приглашения в состав Совещания получил межевой инженер С.Д. Рудин, М.Н. Малаев – за знание крестьянского землевладения, а также заместитель управляющего Крестьянским банком И.А. Сосновский и князь Ф.С. Голицын.
На 3-м заседании 24 мая князь А.Г. Щербатов предложил дополнительно проводить частные совещания без протоколов для обмена мнениями. Горемыкин: «готов сам, по мере возможности, принимать участие в таких частных совещаниях», считая полезным «обмен мыслей» для разгрузки официальных заседаний. За высказались Шванебах, Кривошеин, Кутлер. В ответ на сформулированную Горемыкиным основную задачу «открыть крестьянам возможность выхода из общины и перехода к более совершенным формам землепользования», А.С. Стишинский выразил своё сочувствие решениям «сделать выход из общины более доступным» при одновременном сохранении общинного строя. Более того, Стишинский, отрицая приписываемую ему фанатичную приверженность общине, признал что постепенное признание крестьянами несовершенства общинного строя «понемногу совершается».
На подготовленность Горемыкина к разрешению задач, поставленных перед совещанием, указывало его напоминание, что законопроект по отграничению крестьянских наделов был составлен МВД под его управлением и внесён Горемыкиным на рассмотрение Г. Совета. Однако Сипягин взял его обратно для дополнительной разработки.
24 мая Д.А. Хомяков вместе с изданием Н.М. Павлова «О значении выборных» прислал записку о порядке выбора крестьян. Телеграмму с ходатайством вологодских крестьян о прирезках сенокоса и леса 25 мая Горемыкин передал Шванебаху.
Император Николай II принимал И.Л. Горемыкина и графа В.Н. Ламздорфа 28 мая после 17 ч. чая.
Д.Ф. Трепов 30 мая 1905 г. прислал письмо: «Глубокоуважаемый Иван Логгинович. Считаю долгом совершенно конфиденциально сообщить Вам, что нач. Переселенч. Упр. Кривошеин предположен к назначению губернатором в Тверь. Если Вы деятельность Кривошеина в совещании считаете полезною и если в будущем Вы предполагаете провести его в Товарищи Главноуправляющего или же в Дир. Департ., то может быть нашли бы удобным теперь же по секрету переговорить с Кривошеиным. Я же со своей стороны счёл только долгом предупредить Вас, о готовящемся служебном перемещении его. Пользуясь случаем, прошу Вас верить моему глубокому уважению и искренней преданности» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1271 Л.2].
Редкое сохранившееся письмо свидетельствует о значительном политическом влиянии И.Л. Горемыкина на высшие министерские должности и том, что успешная министерская карьера А.В. Кривошеина напрямую, в режиме ручного контроля, обеспечивалась его поддержкой. Тем более недостойным будет предательство не только правых монархических принципов, но и лично И.Л. Горемыкина, совершённое Кривошеиным в 1915 г. в пользу противников Императора Николая II.
Д.А. Хомяков прислал И.Л. Горемыкину вырезку из газеты о том что крестьянам следует предоставить голос в Особом Совещании. «Сами крестьяне лучше всех знают, что им нужно» [«Русское Слово», 1905, 30 мая, с.1].
Указывая на безусловную несправедливость любых уравнительных систем, на заседании 9 июня Горемыкин рассказал о жалобе тамбовского крестьянина, который 35 лет выплачивал выкупные, земские и мирские платежи за 8 десятин, а община недавно произвела передел и оставила ему только 2 дес., он просит вернуть отобранную у него землю. Считая равенство откровенным злом и преступлением, Горемыкин возмущался тому, как крестьянин «лишился бы вдруг без всякого вознаграждения 3/4 своего надела». «Я нахожусь в крайнем затруднении, как можно ответить на подобное прошение». Утвердить права собственности можно только политическими решениями, поэтому Стишинский сказал что в данном случае МВД должно произвести расследование. Ранее Стишинский прямо осуждал уравнительные переделы в общине, указывая как на положительный факт развития крестьянской сознательности: «переделы становятся всё более и более редкими даже в центральных губерниях» [РГИА Ф.1212 Оп.1 Д.2 Л.283,353].
И.И. Шамшин по просьбе И.Л. Горемыкина искал, но не смог обнаружить «нашу записку по крестьянскому делу», которая затонула в бумагах. 10 июня взамен её послал «мой экземпляр ваших записок», а также записки «Данилевского, Половцова, Мартынова и ещё «Статистические материалы по волостному и сельскому управлению в тридцати четырёх губерниях комиссии Каханова». Витте отправил Горемыкину 25 экз. исследования П. Лохтина «Безземельный пролетариат в Росссии».
На заседании 10 июня относительно перехода к разделу крестьянских земель на участки Горемыкин не соглашался с передачей всех функций в ведомство земледелия: «в основании местной организации землеустроительного ведомства необходимо поставить уездное учреждение, как такое, которое наиболее близко стоит к местным условиям». – В составе уездного предводителя дворянства, податного инспектора, чина ГУЗиЗ, земского начальника, чл. уездной земской управы и уполномоченного от крестьян.
А.С. Стишинский одобрил предложенную И.Л. Горемыкиным схему местной организации. Вл. Гурко признал, что его мнение «никем» в совещании не разделяется, но выразил недоверие местным силам: «известно, что лучшие люди провинции стремятся к центру», «состав же должностных лиц в уезде не блестящий».
Горемыкин выразил уверенность, что можно будет опереться на местных дворян, не состоящих на службе: «сама жизнь, сама нужда в урегулировании земельных отношений побудит местных людей к деятельности». Ввиду перегруженности земских начальников, Горемыкин предложил снять с них судебные функции.
В итоге Император Николай II утвердит программу Горемыкина и будут созданы не только губернские, но и уездные комиссии.
13 июня Государь «принял Горемыкина и долго читал».
На совещании губернских предводителей дворянства 14 июня С.Ф. Головин (от Твери) выдвигал разительно неуместную претензию к комиссии Горемыкина, будто она потворствует общественному мнению, заигрывает с социал-революционными организациями. А.А. Миллер (от Ковны) высказал столь же необоснованное мнение, будто решения сотрудников Горемыкина не дадут желаемого «людям земли». По-видимому, собрание было дезориентировано лживыми либеральными газетами ровно как крестьяне из сообщения губернатора Хвостова. Регулярная однотипная задокументированная их болтовня о том как сочетать Самодержавие, конституцию и народное представительство не имела ни пользы, ни смысла.
Чуть информативнее оказался П.Н. Трубецкой, подавший следом реплику: «этого опасаться нечего. Я сегодня был у Горемыкина. Он ссылается на Пруссию, где поземельный вопрос разрешался 100 лет. Данные, сообщаемые им, весьма печальны. Развить деятельность Крестьянского банка в значительных размерах невозможно по соображениям финансовым: свидетельства его не котируются за границею, невозможность выдавать ссуды по полной оценке позволяет иметь дело только с зажиточными крестьянами и т.п. С другой стороны, запас казённых земель ничтожен, кроме губерний Крайнего Севера и Сибири» [«Российское дворянство в революции 1905 года» СПб.: Нестор-История, 2017, с.285-286].
То что было печально для социальных утопистов, составляло ту экономическую реальность, в пределах которых Горемыкин и принимал наиболее актуальные решения, которые не интересовали прожектёров и болтунов.
В современных исследованиях можно встретить весьма существенную цифру в 20% зажиточных средних слоёв населения Империи, при 75% рабочих и крестьян и 3% крупных собственников. Статичные цифры при этом не показывают ещё более важную положительную динамику постоянных изменений [Н.А. Иванова «Формирование среднего класса в Российской Империи» М.: ИРИ РАН, 2018, с.252].
Согласно желаниям И.Л. Горемыкина, в 1895 г. Г. Совет позволил Крестьянскому банку в течении пяти лет приобретать имения за счёт своего капитала и продавать крестьянам. До 3 ноября 1905 г. от Крестьянского банка было получено крестьянами ссуд на огромную сумму в 487 млн. руб. и приобрели 8,2 млн. десятин земли [«Современный Мир», 1908, с.50].
Присланные М.И. Горемыкиным 16 июня 1905 г. наблюдения подтверждали правильность направления Особого Совещания: «заезжали на хутора, недавно образовавшиеся (1902 г.), – экономическое положение их хозяев не может даже быть сравнимо, с односельцами, настолько оно положительно лучше. Стремление к переходу на хутора начинает сильно распространяться» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.638 Л.38].
Собиравшиеся земские и городские съезды в это время пытались содействовать революционному разрушению Российской Империи. Группа правых монархистов, Клавдий Пасхалов, Георгий Шечков, Н.М. Павлов, Ф. и А. Самарины в июле 1905 г. указали на самую гнусную роль земцев-конституционалистов в развернувшейся схватке: «высказываясь так решительно за отмену всех мероприятий, направленных к борьбе с революционной партией», либералы проигнорировали и тем самым фактически поддержали «ежедневные убийства правительственных должностных лиц, начиная от низших чинов полиции и солдат до высших представителей Власти, массовые стачки и забастовки, повсеместно и систематически устраиваемые искусною рукою, превосходящие всякую меры грабежи и погромы, творимые в деревнях и городах толпою, которую возбуждают подсылаемые к ней агитаторы» [«Возражение депутатам “съезда земских и городских деятелей”» СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1905, с.3-4].
17 июня Витте отправил Горемыкину 100 экз. проекта заключения своего прежнего совещания по вопросу общины. Горемыкин тогда же передал Булыгину ходатайство крестьян Гомельского уезда о содействии в приобретении земли, с согласия бывшего помещика, но в нарушение майоратного права.
Горемыкин сообщил 20 июня А. Сабурову, что окончательный проект о межевании наделов будет подготовлен зимой, но предположения можно обсудить уже теперь. Далее они переписывались по согласованию работ: Сабуров председательствовал в особом совещании Г. Совета по проекту межевого устава. Для отграничения частных крестьянских владений требовалось установить действующие правила. Это было общей целью Горемыкина и Сабурова.
Из Витебска 10 июля 1905 г. М.И. Горемыкин писал матери как продолжается его служба в провинции: «хочется лета, деревни, нашей общей Бельской жизни, не хочется Витебска, жидов, присутствия, крестьянских дел, губернских лиц». «Мечтаю о том, чтобы с друзьями встретиться в Петербурге». «Ох, тяжела наша чиновничья жизнь».
Д.Ф. Трепов 13 июля прислал на бланке заведующего полицией с пометкой «доверительно» И.Л. Горемыкину сведения о страдающих от малоземелья полтавских крестьянах: «менее одной десятины на душу», предлагал поставить вопрос о переселении или льготной покупке для них в первую очередь, напоминая как в 1902 г. революционеры «воспользовались для своей преступной деятельности», организуя погромы [РГИА Ф.1212 Оп.1 Д.2 Л.48].
Н. Кутлер сообщил о выдаче крестьянам Волынской губернии ссуды Крестьянского банка в 10 890 руб. по их просьбе.
С 19 по 26 июля под председательством Государя в Большом Дворце Нового Петергофа проходили заседания совещания по обсуждению намерений учредить Г. Думу. Там собрались все выдающиеся русские политики, за исключением Горемыкина, отсутствие которого можно объяснить загруженностью в Совещании по крестьянскому землевладению, которое оставалось в полном управлении Горемыкина. Отсутствовал и Витте, бывший в отъезде. Не привлекался И.Л. Горемыкин и к совещанию о реформировании Г. Совета и привлечении в него выборных.
31 июля И.Л. Горемыкин передал казначейской части Гос. Канцелярии, что из предоставленных ему 5 тыс. руб. он просил выдать на зарплату 1805 р., в т.ч. старшему делопроизводителю Лодыженскому 300 р., 45 р. трём курьерам, 35 р. камер-пажам Мариинского дворца, 20 р. 4 сторожам.
2 августа Горемыкин вновь посещал Государя в Петергофе. По всеподданнейшему докладу зам. ГУЗиЗ А.В. Кривошеин получил разрешение на присутствие в заседаниях Особого Совещания. Царь также дал согласие на совместную с Кутлером и Кривошеиным поездку для знакомства И.Л. Горемыкина с работой местных отделений Крестьянского банка по продаже имений крестьянам. Горемыкин уведомил об этом В.Н. Коковцова и П.Х. Шванебаха.
В официальном письме Д.Ф. Трепову Горемыкин обращал внимание, что и.д. Симбирского губернатора дал ход просьбе крестьян «об обязательном отчуждении от соседнего землевладельца Белякова части принадлежащей ему земли для передачи просителям». Горемыкин счёл такое нарушение прав собственности недопустимым, незаконные ходатайства усугубляют революционные настроения. Губернатору следовало дать разъяснения этого.
Важность неравнодушной неизменной идеологической бдительности И.Л. Горемыкина показывают исследования связи между экономическим неблагополучием и отсутствием политической защиты собственников от любого рода преступных поползновений, от бандитских до ещё более масштабных социалистических. Оформление собственности любого желаемого типа через систему межевания и регистрации, т.е. ровно то что организовывало совещание Горемыкина, устраняет проблему возникновения нелегальных теневых рынков, выводящих средства из экономики [Э. де Сото «Загадка капитала» М.: Олимп-Бизнес, 2001].
Поучителен тезис о важности предпочтений коллективных форм собственности, чего не понимают утописты, помешавшиеся на ненависти к общине. В зависимости от ситуации, у разных лиц имеются не одинаковые потребности и задачи. Стремление Горемыкина одновременно с облегчением желающим выхода из общины, следовать предпочтениям сторонников общины, не являлось сколько-нибудь противоречивым, напротив, самым верным путём защиты всех прав собственности в интересах владельцев.
На втором заседании своего совещания Горемыкин выразил это в формуле: «в нашем крестьянстве достаточно развито понимание своих интересов». Т.е. монархическое правительство политически оформляло имеющиеся у крестьян пожелания.
В рамках системной борьбы с социалистическими идеями, И.Л. Горемыкин также уведомил Д.М. Неклюдова, что использование «сумм из капиталов государственных сберегательных касс» для удовлетворения земельных нужд не рассматривается программой его совещания.
Манифест Императора Николая II 6 августа об учреждении Г. Думы, как понял идейно близкий П. Крушевану издатель «Русской музыкальной газеты», требуется для временного успокоения «глупой и подлой толпы» [Н.Ф. Финдейзен «Дневники. 1902-1909» СПб.: Дмитрий Буланин, 2010, с.154].
Примерно такое же, довольно верное представление о замысле Царя, изложено в письме А.Г. Небольсина 12 августа 1905 г.: «администрация надеется создать из этого представительного учреждения новую опору для самодержавия на почве невежества, а теперь воспользоваться остатком времени до созыва, чтобы собрать все силы растерявшейся власти и беспощадно разделаться не только с крамольниками, но и с обществен. движениями, вынудившими правительство сделать этот шаг к реформам. Г.г. Трепов и К. рассуждают по-видимому так, мы дали Вам долю представительного управления, ну мы посмотрим как-то Ваши избранные люди справятся с возложенной на них задачей, а пока они не выбраны не угодно ли Вам молчать и не рассуждать так как обществу это не предоставлено. Так можно заключить по тому, что 7 авг. было много арестов почтенных обществен. деятелей и писателей. Между прочим – Милюкова» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.334 Л.73].
Здесь имеется, при настрое против монархистов, понимание основных мотивов действий Императора Николая II, который несомненно стремился к укреплению Самодержавия, а не к его упразднению. Дума учреждалась с очевидной целью публично скомпрометировать парламентаристов их собственной политической некомпетентностью и неэффективностью, сравнительно с имперской бюрократией. Но если Финдейзен писал о плане умиротворить конституционалистов, то Небольсин отмечает и желание Николая II привлечь монархистов в Г. Думу для ведения в ней борьбы с левыми силами.
В газетах проект Булыгина объясняли желанием правительства сбить план революционной пропаганды, принятый съездом земств, через влияние на крестьян путём их землеустройства. «Булыгин и Горемыкин придумали эту комбинацию» [«Le Midi» (Montpellier), 1905, 26 juillet, p.3].
Верный монархист и превосходный историк, С.С. Татищев в письме А.С. Суворину в 1905 г. назвал его за направление газеты «Новое Время», из демократических и оппозиционных соображений помешавшейся на созыве бесполезных представительских собраний: «полный психопат» [А.Э. Котов «Царский путь Михаила Каткова» СПб.: Владимир Даль, 2016, с.305].
По причине усиления внутреннего врага преждевременно было заключено перемирие с Японией, несмотря на то что даже в случае дальнейшего получения урона Армией Линевича, отступления к Владивостоку или даже его оставлении, чего скорее не могло произойти, каждое такое крупное столкновение обескровливало бы Японию на 100 тыс. солдат, не приближая к победе, а отдаляя её [А.М. Волконский «Война, печать и общество» СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1905, с.43].
Избранная А.Н. Куропаткиным военная тактика, вызвавшая шквал вреднейше неадекватной критики, обеспечивала «наше, русское, спасение. Иначе японцы быстро покончили бы с нашей армией». «Натиск японцев на Харбин был задержан». «Мы, русские, жившие к Харбине, можем только благодарить генерала Куропаткина за его тактику отступления» [И.В. Кулаев «Под счастливой звездой» М.: Русский путь, 1999, с.172-173].
Опровергая вредные заблуждения Д. Хомякова, И.Л. Горемыкин писал ему 10 августа, что основные принципы положения 1861 г. не отвергли принципа частной собственности и потому отстаивание только общинного устройства недопустимо. Горемыкин здесь, как и всегда, отстаивал наилучшие правые монархические принципы, отвергая ложные либеральные спекуляции, которым склонны поддаваться наименее разборчивые консерваторы.
А.А. Киреев узнал 21 августа, что «результаты важной комиссии Горемыкина» внесут на утверждение в Г. Совет, минуя Г. Думу.
Как было раньше со Святополк-Мирским, многие консерваторы направили неуместный гнев в адрес А.Г. Булыгина и МВД за подъём бунтовщичества и учреждения Г. Думы как средства борьбы с революцией, хотя тут Император Николай II следовал плану, разработанному ещё В.К. Плеве, не делая каких-то внезапных уступок. Рассказ об этом Царя записан в дневнике князя В. Орлова за 1905 г. [«Былое», 1919, №14, с.57].
Письма супруги И.Л. Горемыкина фиксируют его нахождение 29 августа на Сергиевской, 55 в С.-Петербурге, а затем 2 сентября его уже не было в столице. Отслеживается перемещение до Казани и Екатеринослава, куда отправлялись сообщения до востребования 4 и 14 числа. Супруга передавала благодарности рабочих из с. Белое: «очень прочувственное слово, кому обязан край этой мастерской, после чего было многолетие боярину Ивану Логгиновичу», «проливали слёзы».
В иностранную прессу проникли о Горемыкине интересные детали о постепенном будто бы улучшении его отношений с С.Ю. Витте. Ходили в мае 1905 г. слухи о вероятном назначении Горемыкина министром земледелия вместо Ермолова. «Горемыкин усердно работал с комиссией и во многих инстанциях провёл персональные расследования, не полагаясь только на рапорты» [«The Evening Star» (Washington), 1906, May 2, P.1]. Прессе стало известно что И.Л. Горемыкин возглавил особую комиссию с участием А.В. Кривошеина и Н.Н. Кутлера, для выяснения характера и размеров крестьянских выступлений непосредственно на местах, вне С.-Петербурга [«Рижский Вестник», 1905, 19 августа, с.3].
Губернатор П.А. Столыпин 15 сентября 1905 г. встретил на вокзале приехавших с этими целями в Саратов Горемыкина и Кутлера [«П.А. Столыпин. Биохроника» М.: РОССПЭН, 2006, с.105].
В сентябре с началом нового нового учебного года начался очередной виток развязанных студентами беспорядков, переходящих в стачки, когда те же студенты срывали с работы на предприятиях рабочих, как они делали и с учебными заведениями (схожий метод будет использован и в феврале 1917 г.).
Офицеры Преображенского полка в 1905 г. объясняли солдатам: «внутренние враги есть студенты бунтовщики» [К.Б. Басин «Мятежный батальон» М.: Воениздат, 1965, с.20]. Студенты из «высших школ» «создали страшное движение», «действовавшие насилием, получили автономию, право ассоциаций, сходок» [«Журнал собраний совета Московской Духовной Академии за 1905 год» Сергиев Посад, 1906, с.457].
А.О. Маршак в эмиграции передал тогдашние настроения еврейской молодёжи и левого студенчества: «эти убийцы были для нас героями, конечно, они и были фактическими героями. Мы тогда, в особенности молодое поколение, перед этими социалистами преклонялись» [«Русское лихолетье. История проигравших» М.: АСТ, 2021, с.165]. Интересный факт приводит левый историк, что «значительная часть» эсеровской революционной печати финансировалась группой родственников и друзей еврейского торгового дома Высоцкого [В.Е. Кельнер «Очерки по истории издательской деятельности народнических и демократических партий» СПб.: РНБ, 2014, с.205].
Повсеместно происходили «беспорядки в университете и в средних учебных заведениях, перекинувшиеся затем в среду рабочих заводов». «Сходки, уличные скопища, тайные собрания, общественная агитация в газетах и в массе брошюр и листков возмутительного содержания разожгли общественные страсти; последовали сперва отдельные насильственные акты, нападения, грабежи и убийства, а затем и массовые разгромы оружейных магазинов и братоубийственные столкновения мятежников с верноподданными Царю защитниками порядка» [Протоиерей П. Фомин «Высокопреосвященный Арсений, Архиепископ Харьковский и Ахтырский» Харьков: Тип. «Мирный Труд», 1912, с.63].
Министр Булыгин 24 сентября отправил Горемыкину протоколы уфимского совещания от представителей волостей для обсуждения нужд башкиров.
25 сентября, по записи А.А. Половцова, на совещании Сольского Витте находил время активно добиваться упразднения комитета И.Л. Горемыкина, созданного 6 мая взамен совещания Витте. Сольский согласился представить Государю это желание Витте, но смягчил форму подачи. Судя по проявленной Витте эмоциональности, для него это был вопрос личной мести и борьбы за первые места подле Престола.
Д.Ф. Трепов 26 сентября отправил И.Л. Горемыкину записку: «я очень сожалею, что не имел возможности видеть Вас 24-го (выезжал в Петергоф) и если разрешите зайду к Вам в среду или четверг».
Д.А. Хомякову И.Л. Горемыкин писал что 24 сентября вернулся из исследовательской поездки в Пермскую и Воронежскую губернии. Стараясь переубедить Д. Хомякова, выразившего несогласие с политическим решением Императора Николая II, И.Л. Горемыкин написал что закон 14 декабря 1893 г. «неизбежное и логическое развитие» 1861 г., а не исправление 19 февраля. Закон 1893 г., напоминал Горемыкин, касается «всех видов крестьянского надельного землевладения», а не одной общины. Распоряжение об облегчении выхода из общины не делает новым «самый выход, предусмотренный положением 19 февраля». Быстрый ход событий общественной жизни, отмечал далее Горемыкин, ведёт к тому, что «трудно быть уверенным в неизменном продолжении и завершении трудов нашего Совещания. Своевременно ли при этих обстоятельствах возбуждать вопрос о личном участии в нём кого-либо из нас? Мне кажется, что это усложнение пока бесцельно» [РГИА Ф.1212 Оп.1 Д.3 Л.17].
5 октября Д. Хомяков, прочитав это письмо от 1-го числа, почувствовал, что «Совещание сходит на нет».
Н. Вуич, заведующий делами Совета Министров, 8 октября передал Горемыкину ходатайства крестьян и различные иные прошения. МВД тоже регулярно продолжало передавать такие бумаги для совещания.
Согласно дневнику Императора, Горемыкин приехал в Петергоф 12 октября. Весной 1908 г. Половцов, вероятно как всегда много напутал, когда записал рассказ Горемыкина, что в тот день получил приказание Императора явиться в Петергоф, не смог воспользоваться прерванным железнодорожным сообщением, не получил от морского министра пароход и потому нанял карету с четвёркой лошадей. При проезде по Петергофскому шоссе мимо Путиловского завода (дом 67), рабочие якобы обкидали экипаж камнями. «По прибытии в Александрию, после допроса, сделанного Горемыкину дежурным на гауптвахте офицером, он в сопровождении этого офицера добрался до домика, обитаемого императором и императрицею. Все встречавшиеся Горемыкину придворные слуги выражали ему удивление о том, как он мог добраться до Петергофа. После разговора с государем Горемыкин пошел к Трепову, который стал укорять его за то, что он уговаривает государя оказывать твёрдое сопротивление, в виду той опасности, коей государь подвергался. Свою настойчивость Горемыкин оправдывал тем, что, по его мнению, государь находился в полной безопасности, потому что хотя революционеры и объявили, что они шестидесятитысячною толпою пойдут для разгрома в Петергоф, но в Петергофе находилось два заслуживающих доверия полка, а в Петербург была по требованию Горемыкина отдана одна кавалерийская дивизия и две артиллерийские батареи, кои в случае движения толпы должны были устремиться на толпу с тылу, и, таким образом, с обоих концов пути между Петербургом и Петергофом был бы открыт смертельный для толпы огонь» [«Красный Архив», 1923, Т.4, с.126].
Это очень интересная запись, и советские историки любили без малейшего проблеска мысли пересказывать её как свидетельство кровожадности Горемыкина. Однако представляется спорным, чтобы Горемыкин мог распоряжаться воинскими частями. Каким бы авторитетом он ни обладал, даже не будучи министром, воинская субординация такую возможность исключает, да и в Русской Императорской Армии без И.Л. Горемыкина хватало кому отдать необходимые приказы. Но при наличии нужных знакомств, Горемыкин мог удостовериться, что положение контролируется военными.
Схоже описал охранительное рвение Горемыкина недоброжелательный мемуарист, говоря о 9 января. «Через некоторое время, стоя в Зимнем дворце у окна на площади рядом с покойным Горемыкиным, я высказал сожаление об этом событии и числе жертв. В то время Горемыкин возражал мне, что он, со своей стороны, сожалеет лишь о том, что число жертв было так незначительно. Чем бы их было не 1600, а 16 тыс., возразил он, что может быть беспорядкам был бы положен конец» [А.Н. Куломзин «Пережитое» М.: РОССПЭН, 2016, с.910].
В случае, если Куломзин не спутал с аналогичными суждениями Горемыкина после множественных революционных погромов октября 1905 г., 9 января погибло 130 жертв революционной провокации. Как ни старались будочники прогресса доказать свои клеветнические преувеличения, ни одного не зарегистрированного властями убитого им найти не удалось. После декабря 1917 г., когда Куломзин это записывал, он мог напутать и обмануться, но в 1905 г. такая ошибка в устах Горемыкина невозможна, и потому потолок численности революционеров, устранение которых в его глазах может привести к успокоению оказывается не 16000, а 1300. Это ближе к числу жертв военно-полевых судов Столыпина, действовавших с августа 1906 г. по апрель 1907 г., всего их насчитывается 683 человека. Уже в феврале 1907 г. Государь разослал циркуляр об ограничении применения таких судов. Военно-окружные суды казнили за 1905-1913 годы 2981 человека. Революционеры за это же время убили монархистов более чем вдвое.
При этом Горемыкин, конечно, понимал провокационный характер акции 9 января, когда революционеры специально вынудили власти стрелять в рабочих, сами попрятавшись в стороне. Зарубежные историки в качестве доказательства малочисленности и маловлиятельности социал-демократов приводили смерть 1 члена РСДРП и ранение – тоже одного, 9 января 1905 г. [П.Н. Зырянов, В.В. Шелохаев «Первая русская революция в американской и английской буржуазной историографии» М.: Наука, 1976, с.49].
Согласно записке Вуича 13 октября, Император, не желая подвергать своих советников опасности, распорядился доставить Горемыкина и Будберга на отдельном пароходе. По желанию Императора, они должны были находиться вне совещания Витте и давать независимую оценку проектам манифестов. Николай II придавал решающее значение мнению Горемыкина и намеревался назначить его главой правительства. К сожалению, пожелания Государя вызвали возражения других авторитетных советников.
15 октября Д.Ф. Трепов с беспокойством написал Императору: «Ваше Величество, я слышал, что Вы предназначаете на пост начальника своего будущего кабинета И.Л. Горемыкина, при назначении графа Витте на пост первого министра. Это невозможно, они враги, и Вам необходимо оказывать теперь гр. Витте полное доверие и, следовательно, на пост начальника кабинета должен быть избран человек, не принадлежащий к партии его открытых врагов» [«Исторический Архив», 2003, №4, с.181].
А.А. Будберг вспоминал, что И.Л. Горемыкин в споре на пароходе показал себя «непримиримым противником идеи конституции», выступал за силовой разгром революции, отстаивал Самодержавие как наилучшую форму правления. Горемыкин понимал, что Верховная власть может быть только неограниченной, следовательно, конституционный строй означает переход от монархического правления к демократическому. Горемыкин обещал не допустить этого и вполне преуспел в защите Царского Самодержавия.
15 октября Император переговорил с Горемыкиным и Будбергом, которым предложили на рассмотрение проект манифеста Витте. Записка Вуича подтверждает рассказ Будберга, что Горемыкин вообще не считал нужным выпускать такой манифест. «Ст.-секр.
Горемыкин согласился помочь в редактировании нового проекта» [«Красный Архив», 1925, Т.11-12, с.74].
По рассказу Будберга, ознакомившись с виттевским проектом манифеста, Горемыкин сказал что его не следует публиковать. В разговоре с Николаем II Горемыкин предлагал использовать войска. Но Царь не желал основывать продолжение своего правления на одних репрессиях и счёл слишком рискованным «долго» держать войска в напряжении. Это постепенно сделало бы военные силы менее надёжными в будущем. Т.е. Николай II просчитывал на несколько шагов вперёд и тем самым делал своё политическое положение более прочным. Для этого следовало использовать разные иные средства, главным образом идеологические, а войска оставить только на крайний случай, не пуская их в ход преждевременно.
По дневнику А.А. Гирса, Николай II спрашивал мнение Горемыкина и Будберга по 5 проектам манифестам. По поручению Царя Горемыкин до 4 утра принимал участие в редактировании.
16 октября Государь одобрил предложение закрыть совещание И.Л. Горемыкина в форме, на какую Витте никак не рассчитывал. Николай II предложил в освободившиеся тем самым руки Горемыкина министерство внутренних дел, не оставляя намерения вернуть Ивана Логгиновича в большую политику. Помощник Витте, А.Д. Оболенский записывал, что 16 октября представленный И.Л. Горемыкиным проект манифеста казался в глазах Императора предпочтительнее, чем проект Витте. По сведениям А.А. Мосолова, Витте в случае отказа от его проекта предлагал назначить Горемыкина премьером, т.е. использовал такого рода шантаж в свою пользу. Но Д.Ф. Трепов поддержал Витте.
16 октября, сообщает дневник Императора, «после завтрака сидел долго с Горемыкиным, Фредериксом и Будбергом над редактированием манифеста». В последние три дня перед подписанием Манифеста фамилия Горемыкина упоминается в дневнике столь же часто, сколь и Витте.
И.И. Колышко вспоминал про эти дни: «заговорили вдруг о Горемыкине». Мемуарист не даёт полезных деталей из таких обсуждений, помимо завистливых реплик Витте о приглашении Горемыкина Императором Николаем II: «без Горемыкина разве можно? Золотое перо». Царь действительно считал невозможным обойтись без помощи Горемыкина в таком важном деле.
Д.Ф. Трепов считал нужным создать Императорский кабинет министров параллельно с Советом Министров. Хотя в данном случае Трепов выступил против Горемыкина, а не Витте, уже 23 октября Трепов написал, что считает невозможным работать в правительстве с Витте и просит увольнительную. И.Л. Горемыкин и Д.Ф. Трепов совещались между собой, но фактические действия Трепова в пользу Витте совершенно не согласуются с мнением Витте, будто Горемыкин и Трепов вместе плели коварные интриги. Это похоже на очередной миф со стороны Витте, которому поверили советские и либеральные историки.
Записка А.Д. Оболенского об огорчении от победы проекта Горемыкина свидетельствует о настроении в окружении Витте. Предложенный Витте проект, усиливая значение Г. Думы, также не отменял Самодержавного монархического правления, и он больше отвечал задаче устранения среди противников Государя мотива подрывать устои Империи ради появления среди политических учреждений сборища избранных населением депутатов.
Революционная пропаганда, пытаясь представить Николая II человеком нечестным, глупым и невежественным, пускалась на самые нелепые выдумки: будто в Петергофе по утрам шли заседания с Витте, а днём «с Горемыкиным и группой реакционеров, толкавших царя как раз на противоположную дорогу» [В.В. Водовозов «Граф С.Ю. Витте и император Николай II» Петроград: Мысль, 1922, с.38].
Сейчас легко установить, что редакция Горемыкина в секрете не держалась и никак не может считаться противоположностью проекта Витте. Менялись относительно несущественные оттенки. К примеру, Горемыкин настаивал, что свобода собраний и союзов уже провозглашена недавним законом и потому нет смысла повторять это в манифесте.
Витте писал что его «взорвало», от известия о консультациях Николая II с Горемыкиным. Самым комичным образом, факт совещания Монарха с лучшими экспертами разных взглядов по крайне важным политическим вопросам, Витте обозвал византизмом и нечистыми окольными путями [С.Ю. Витте «Воспоминания» Л.: Госиздат, 1924, Т.2, с.30].
Важнее всего наблюдение Будберга, что Николай II разделял взгляды Горемыкина, а не конституционалистов, для привлечения которых на сторону Царя, манифест выпускался. Взгляды Царя на Самодержавие нисколько не менялись от решения более активно сотрудничать с конституционалистами, использовать их как вспомогательную силу против революции.
17 октября в 11 ч. Царь принимал Горемыкина, Шванебаха и Фредерикса. Будберг узнал от Горемыкина, что он первым поднял вопрос о крестьянском Совещании, а Витте продолжает требовать оставить его редакцию манифеста, на чём обсуждение и кончилось. Николай II не стал отказываться от программы действий Витте, не питая насчёт неё энтузиазма и испытывая закономерные опасения, но предоставив Витте заняться решением совокупности политических проблем. В 13.30 Горемыкин отбыл на пароходе из Петергофа [А.В. Островский «Россия. Самодержавие. Революция» М.: КМК, 2020, Т.2, с.278-284].
О 17 октября 1905 г. Великий Князь Константин Константинович писал в дневнике: «граф Игнатьев, Горемыкин и министр Двора Фредерикс пытались убедить императора не уступать» [А. Мейлунас, С. Мироненко «Николай и Александра» М.: Прогресс, 1998, с.284]. За это белоэмигранты ставили в заслугу Горемыкину его действия накануне издания Манифеста, преувеличивая негативную роль Витте: «Вместе с И.Л. Горемыкиным граф А.П. Игнатьев старался отговорить Государя Императора от следования пагубным советам графа Витте» [Н.Д. Тальберг «Рыцари Монархии» // «Двуглавый Орёл» (Париж), 1926, №2, с.18].
Есть сообщения, со ссылкой на крайне правые источники, что Горемыкин уверял Императора Николая II: «политика репрессий в стиле Плеве с отдельными умеренными послаблениями, будет очень эффективной» [«Le Grand echo du Nord de la France» (Lille), 1905, 1 novembre, p.2].
Совсем ложный вброс врага русских монархистов И.И. Колышко, будто в 1905 г. И.Л. Горемыкин и А.С. Стишинский рекомендовали Царю конституцию как путь спасения России, прежде чем поддерживать Самодержавие [«Время» (Берлин), 1922, 12 июня, с.3].
Ключ к пониманию Манифеста 17 октября в его использовании как средства контрнаступления монархистов. Но сильный просчёт Витте заключался в ложном представлении о немедленных успокоительных последствиях объявления. Убедиться в этом на практике означало отвергнуть на будущее всякую новую спекуляцию на том будто конституция несёт умиротворение.
Московский городской голова В.М. Голицын вспоминал, что из Петербурга он получил конфиденциальный комментарий к Манифесту 17 октября: следует воздерживаться от конституционных заявлений, поскольку «манифест имел исключительной целью успокоить раздражённые страсти и что применение возвещенных в нём конституционных начал будет отложено на долгий срок» [В.Я. Лаверычев «Государство и монополии в дореволюционной России» М.: Мысль, 1982, с.171].
Левый противник коррумпированной американской демократии в это время иронически рекомендовал Императору Николаю II для привлечения оппонентов на свою сторону воссоздать парламентскую «иллюзию представительной демократии» по примеру США. Реальной главной политической силой оказывался не парламент, а управляющие общественными представлениями и настроениями владельцы газет, в полной зависимости от которых находились демократические политики. Т. Рузвельт по этой причине звал медиамагнатов, занимающихся пропагандой в пользу революций, «самой мощной силой зла» [Justin Kaplan «Lincoln Steffens» Simon & Schuster, 1974].
Исходя из того же понимания явлений парламентаризма, правильно оценят манифест издания Союза Русского Народа, которые начатые годы «непонятных свобод» считывали как призыв к борьбе с конституционализмом в пользу Самодержавного Монарха, а не к капитулянтскому переходу на сторону либералов: «Царь желает, чтобы мы объединились» «мы должны тяготы Его носить» [«Сычевская газета», 1907, 12 ноября, №12].
Блестяще понял политическую задачу манифеста учёный-юрист: «при отражении натиска на на наше национальное знамя, на душу нашего народа (на Самодержавную Императорскую Власть), натиска со стороны честолюбцев и глупцов, власть могла поступить самым простым способом: перевешать коноводов смуты, но она поступила иначе». «Для успокоения зарвавшихся глупцов и нахалов, для прекращения поднятой ими смуты и издан был манифест». Графу Витте приписывали справедливую фразу о сбережении Самодержавия: «одним манифестом будет больше» [В.Д. Катков «Христианство и государственность» М.: ФИВ, 2013, с.217].
Выход Манифеста по всей России сопровождался подъёмом сопротивления охранительных сил в ответ на взрыв революционного разбоя. В эти дни в Новгороде монархисты во главе с содержателем ямской станции разгромили революционеров, среди руководителей которых был А.М. Колюбакин, председатель губернской земской управы, в дальнейшем масон. Губернатор О.Л. Медем находился в отъезде, монархистам помогал высоко чтимый горожанами градоначальник Я.И. Журавлёв. Изорванный красными юнцами портрет Императора Николая II был торжественно возвращён в городскую думу с пением гимна. Безобразия революционеров вызывали народное возмущение и негодование [А.В. Болотов «Господин Великий Новгород. Воспоминания» Париж, 1925, с.20, 32].
Невозможность не дать революции негативную оценку выразил С.П. Дягилев в письме от 16 октября, наблюдая как вокруг творится «дикая вакханалия» и говоря про «ураган», «чинящий столько уродливых бедствий» [О.П. Брезгин «Сергей Дягилев» М.: Молодая гвардия, 2016, с.219]. В среде творческой интеллигенции нередко наступало отрезвление, кто необдуманно 18 октября пошёл за красным флагом, уже в ноябре 1905 г. предпочитал социалистам сторону черносотенцев: «с каждым днём я убеждаюсь в значительности и живости идеи Царя в сердцах 120 миллионов чёрного народа. Имеем ли мы право лишать их этого, и ради чего?» [А.А. Смирнов «Письма к Соне Делонэ» М.: НЛО, 2011, с.161].
Манифест, вовремя вброшенный Николаем II в гущу разгоревшегося политического противостояния, явным образом бил по репутации и настроениям либерального лагеря, который был обескуражен наблюдаемым отсутствием каких бы то ни было благих последствий официального возвещения о призрачных умозрительных свободах. Представитель к.-д. партии Е.П. Свешникова писала Ф.Ф. Ольденбургу 25 октября: «Так ужасно везде. Отовсюду известия одно другого мрачнее. Бедная Россия» [СПФ АРАН Ф.887 Оп.2 Д.270 Л.119об.].
Подданные Императора Николая II могли в полной мере убедиться, чем являются прославляемые левыми партиями революция и свободы сравнительно с принципами охранительной монархической политики, основанной на христианском вероучении, в действительности способной отстаивать защиту правового порядка. Нет вообще ничего, с чем мог бы сосуществовать призрак свободы, реальны только ограничения свободы в той или иной форме. Для публичного разъяснения этого на практике, разоблачительной для революционной мифологии, издание Манифеста 17 октября являлось необходимым и весьма успешным шагом Царя.
М.А. Новосёлов 26 октября 1905 г. писал Ф.Д. Самарину: «“свобода” создала такой гнёт, какой переживался разве в период татарщины. А – главное – ложь так опутала Россию, что не видишь ни в чём просвета» [«Богословские труды», 2013, Вып.45, с.436].
Заседание горемыкинского совещания в Мариинском дворце, ранее назначенное на 24 октября, отменилось.
25 октября Горемыкин составил записку о том, что манифест недельной давности ничего не даёт крестьянству, и следует отменить выкупные платежи с 1907 г., сумму за 1906 г. вдвое снизить, недоимки продолжить взыскивать, но с рассрочкой. 31 октября доклад к делу, назначенному к слушанию, Горемыкин передал Ю.А. Икскуль Гильденбандту о понижении выкупных платежей для некоторых пострадавших от неурожая губерний.
Н.Н. Кутлеру 1 ноября И.Л. Горемыкин написал что для населения уральских горных заводов возможно снизить выкупные платежи с 63 до 20 коп. с десятины.
Газета «Русь» И.Л. Горемыкину, А.П. Игнатьеву и А.С. Стишинскому в эти дни приписывала стремление сменить правительство Витте. В ноябре ходили слухи, будто Царь уже решил заменить Витте на графа А.П. Игнатьева. Доверять такого рода сведениям традиционно не приходится.
И.И. Шамшин 8 ноября просил И.Л. Горемыкина приехать на обед в субботу к 18.30. Н.Н. Кутлеру Горемыкин дал ответ по прошению о башкирских землях.
9 ноября 1905 г. из С.-Петербурга И.Л. Горемыкин пророчески писал священнику Доброхотову в с. Белое: «без Бога, Царя», за обманными «сладкими речами» атеистов таится «яд жестокого будущего рабства» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1805 Л.19].
Тоталитарная революция, которая убила Императора Николая II, его семью и слуг, убьёт наряду с Горемыкиным и его родных. В июне 1927 г. Иоанн Доброхотов будет привлечён к суду Боровичским ГПУ, вместе с пятью другими священниками и епископом Никитой (Стяговым). Все они обвинялись в сохранении монархических убеждений. В декабре 1937 г. по новому делу против верующих под Боровичами было расстреляно 51 человек и 9 отправлено в советские лагеря.
Среди огромных списков жертв чекистов, где хватает расстрелов и присуждений старцам около 80 лет 20-летних сроков, в ряду священников Новгородской губернии имеется Димитрий Иоаннович Горемыкин из с. Воскресенское Белозерского уезда. Он арестовывался и ссылался в 30-е, вернувшись из ссылки активно восстанавливал разрушенную коммунистами церковную жизнь, а повторно большевики в эйфории победы присудили ему 10 лет лагерей в мае 1945 г. [М.В. Шкаровский, свящ. Илья Соловьёв «Церковь против большевизма» М.: Общество любителей церковной истории, 2013, с.311].
Как генерал Краснов в октябре 1917 г. видел, что надо во что бы то ни стало немедленно идти на Петроград свергать новое большевицкое правительство, Иван Горемыкин отчётливо видел в революционном терроре 1905 г. и стоящей за ним лживой пропаганде не райское светлое будущее, а худшие политические кошмары тоталитарного СССР – дорогу к рабству.
Претензии революционеров на агрессивный полный контроль не только политической, но и культурной, духовной жизни, откровенно просматривается в их сочинениях ещё задолго до прихода к власти. Про безмерно талантливый впечатляющий роман «У последней черты» будущий руководитель сталинской пропаганды Н. Бухарин писал в декабре 1911 г.: «не читай никакой арцыбашевской сволочи». «Арцыбашев становится прямо каким-то личным врагом для меня». Вполне последовательно, что на этом же фронте строительства тоталитаризма Бухарин в 1922 г. порадуется тому как большевикам удалось «расколоть православную черносотенную церковь!» [«Переписка Николая Бухарина и Надежды Лукиной» М.: АИРО-XXI, 2013, с.104, 282]. Произведения М.П. Арцыбашева с такой убедительной точностью показывали отталкивающий облик либералов и революционеров, что в СССР считали нужным устраивать показные суды над его романом [М.О. Чудакова «Жизнеописание Михаила Булгакова» М.: КоЛибри, 2023, с.268].
В начале ноября 1905 г. И.Л. Горемыкин поддержал инициативу Императора по окончательному сложению с крестьян остатков выкупных платежей. По обыкновению, и тут Витте оппонировал. Завершение выкупа земель открывало возможность оформления земли в частную собственность. Соответствующие законопроекты о земельных обществах и об актах на надельные земли И.Л. Горемыкин представит при открытии Г. Думы.
Всего за 1861-1906 г. крестьяне оплатили около 1,6 млрд руб. Вопреки утверждениям советских фальсификаторов, это никак нельзя назвать тягостной повинностью [«История Банка России» М.: РОССПЭН, 2010, Т.1, с.157].
В среднем на одного бывшего крепостного сумма составляет значительно меньше, чем 1 руб. оплаты в год. Растягивание выплат на длительное время позволило сделать нагрузку на крестьян невесомой.
«В Новгородском уезде в 1901 году, при ста восьмидесяти тысячах населения, платили податей двести тысяч рублей, а пропивали в год миллион», писал мемуарист, считавший что «Горемыкин был честный чиновник, но с узким кругозором» [А.В. Болотов «Святые и грешные. Воспоминания бывшего человека» Париж: Франко-русская печать, 1924, с.115, 128].
Свидетельство о честности можно учесть в копилку общих данных, но замечание о кругозоре – до бессмысленности пустая невежественная фантазия, на которой критики Царствования Николая II строили ряд последующих заблуждений, доверившись революционной пропаганде, в своей идейной беспомощности не умея ничего ей противопоставить.
Ранее отменённые подушные и остающиеся земские сборы всюду составляли с 1861 г. значительно меньшие суммы, чем выкупные платежи. Есть цифры о 6-7 руб. выкупных платежей на ревизскую душу (а её значительно превышает фактическая численность работников), которые приводили и советские историки, всеми неправдами пытаясь соорудить впечатление, будто крестьяне платили налогов больше, чем имели денег. При этом можно сопоставить с цифрами заработков, например, в Новгородской губернии: у летнего работника от 25 до 80 руб., у зимнего от 8 до 30 руб. с харчами от хозяина. Одна только подённая плата за косьбу доходила до 1 руб. [Н.М. Дружинин «Русская деревня на переломе 1861-1880 гг.» М.: Наука, 1978, с.73, 127, 182].
Исследования показывают снижение выплат крестьян после 1861 г., среди различных сумм платежей можно встретить, к примеру, 3 руб. 04 коп. с души муж. пола [С.Г. Кащенко «Экономические последствия реформы 19 февраля 1861 года» СПб.: Лема, 2013, с.40].
По другому краю за женский зимний рабочий день платили 15-20 коп., весенний 20-25 коп., на жатву 30—35 коп. «Мужчины зимою 20, с топором 25-40, в косовицу 30—45 к.» [Н.Ю. Шильдер-Шульднер «Из Юго-Западного края. Современное положение и назревающие вопросы» Киев, 1896, с.15]. В Минской губернии крестьянские дети 10-13 лет зарабатывали от 10 до 25 коп. в день соответственно возрасту [А.Е. Богданович «Страницы из жизни М. Горького» Минск, 1965, с.6]. Вольнонаёмные крестьяне не оказывались в рабском положении относительно землевладельца. Наниматели согласно обычаю выдавали оплату авансом, рабочий график не контролировался и целиком оставался на совести крестьян. Обилие оплачиваемых сельских работ давало всем желающим возможность обеспечивать себя, что лишает основания обвинений в адрес правительства насчёт благосостояния крестьян [М.С. Макеев «Афанасий Фет» М.: Молодая гвардия, 2020, с.254, 355].
Средняя ревизская семья состояла чаще всего из 7 и более душ обоего пола. Источниками дохода можно назвать и распространение порядка сдачи в аренду всего крестьянского надела у самостоятельных хозяев. Такая практика в части исследуемых уездах доходила до 22%. Наличие достаточных денежных доходов у значительной доли успешных крестьян выявляют и наблюдение до 25% крестьян, нанимающих себе работников для обработки наделов [И. Гурвич «Развивается ли капитализм в русском землевладении?» // «Новое Слово», 1897, №8].
Высокую доходность участков земли сравнительно с размером выкупных платежей показывает готовность множества крестьян платить аренду за 1 десятину 10-15 руб. в год [В.И. Вернадский «Письма Н.Е. Вернадской (1886-1889)» М.: Наука, 1988, с.51].
Не подлежит сомнению и остаётся основным положительным фактом, что «когда ХХ век только начинался, величина государственных расходов и налогов относительно национального дохода была поразительно низкой по сегодняшним меркам». Выявлена прямая связь между ростом налогов и введением всеобщего избирательного права, ввиду использования государственных расходов как средства демократического популизма [Вито Танци «Правительство и рынки» М.: Институт Гайдара, 2018, с.30, 127]. В качестве идеального ориентира, опыт монархической средневековой культуры даёт примеры даже полного отсутствия государственных налогов, определяемых историками как «неслыханное явление» для христианской монархической цивилизации, пришедшей на смену римской республике в качестве полной её противоположности [П.Н. Ардашев «Абсолютная монархия на Западе» СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1902, с.16].
12 ноября состоялось десятое заседание Особого Совещания с рассмотрением проекта наказа ГУЗиЗ. Николай II при докладе И.Л. Горемыкина повелел составить его и инструкцию Крестьянскому банку «в возможно непродожительном времени». А.Г. Щербатов вспомнил о намерении пригласить крестьян. И.Л. Горемыкин ответил, что крестьян хотели выслушать по вопросам «упорядочения крестьянского землевладения». «Наказ же никоим образом не может подлежать рассмотрению крестьянских выборных». 15 ноября продолжилось обсуждение редакции наказа. Горемыкин, согласно протоколу, выражал намерение добиваться точности: «Я вообще враг прилагательных. Впрочем, – как будет угодно совещанию». При обсуждении И.Л. Горемыкин требовал реалистичной финансовой политики прекрасно понимая как раздача необеспеченных кредитов порождает самые отрицательные экономические последствия: «ссуды должны быть прочно обеспечены, нельзя ставить кредитные учреждения на воздух». Последовательно защищая идеи, которые он одобрял и в 1893 г., Горемыкин желал затруднить скупку земель лицами некрестьянских сословий. Аренду земли, приобретённую Крестьянским банком, Горемыкин одобрял, «по хозяйственному выбору и усмотрению Банка. О торгах не может быть и речи».
Бестолковый путаник С.Д. Шереметев 19 ноября 1905 г. решил обратиться к И.Л. Горемыкину после противодействий в Г. Совете и длительных стараний дискредитировать его, как и Императора Николая II. Граф поэтому начал со слов: «Вас удивит моё письмо, но если я решаюсь Вас беспокоить среди многочисленных трудов Ваших, то лишь ради исполнения душевной потребности, в минуту великого, всероссийского горя, поделиться с Вами настигающими меня чувствами!». «Ничего нет хуже двойственности и неясности мысли и изложения. Уповаю на Бога и верю в Россию!.. Верю, что найдутся и люди, верные её исконным началам и преданиям, люди, чувствующие и мыслящие с достоинством и благородством» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1398 Л.2].
Заниматься сплочением сил правых монархистов вместо внесения нелепых раздоров, следовало бы и пораньше, дабы не приходилось сетовать на расшатанность государственного здания.
В черновике ответа И.Л. Горемыкина записано: «найдя в письме Вашем от 19 ноября живой отклик на то чем болеет и моя душа, я проникся сочувствием к мыслям, внушившим Вам строки, коими Вашему Сият. угодно было меня почтить». «Самозванщина заслонила Царя от народа и не видит это тёмный народ своего». «Трудно делать настоящее крест. дело, когда ежедневно приходится опасаться, чтобы в него не вбили такого клина, который свернёт с пути госуд. строительства на путь анархического разорения». И.Л. Горемыкин присоединился к готовности «верить в Россию».
Затем граф С.Д. Шереметев, сообразивший в годину бедствий искать надёжную опору в И.Л. Горемыкине, отправил ему второе письмо с излияниями переживаний и жалобами на правительство Витте: «живущему в деревне мне видно, как последовательно народ развращается открытыми проповедниками, невозбранно повсюду действующими прямо против священной особы Государя, истолковывая и извращая по-своему, путём подложных манифестов и всяких иных средств, внушая сбитой с толку толпе свои разрушительные учения, излагаемые во множестве бросаемых листков, в новых доступных ежедневных изданиях и открытою проповедью во многих школах, сельских и иных. Скрывающаяся власть учиняет смуту, вместо необходимого отрезвляющего и разъясняющего толкования народу, предоставленному произволу ярых революционных элементов, созывающих крестьянские “митинги” (!) для составления преступных приговоров».
Нечто подобное из с. Михайловское С.Д. Шереметев посылал и К.Я. Гроту, 22 ноября 1905 г.: «нелегко, по нашим смутным временам найти сочувствующих». 29 ноября «у нас теперь стало тревожно». «Удержу нет и всё допускаем и в то же время ничего не делаем для отрезвления, для вразумления и разъяснения сбитых с толку тёмных людей. Чему же удивляться, когда верхи растерялись и выказывают признаки вырождения». «Революционная пропаганда стремительно отправилась в народ» [СПФ АРАН Ф.281 Оп.2 Д.562 Л.13, 35].
Растерянность и бессилие, безусловно, продемонстрированы в письмах С.Д. Шереметева, объявлявшего себя врагом бюрократического режима. Про Императорское правительство, в эти самые дни успешно проводившее борьбу с этим крупнейшим революционным движением, того же сказать нельзя.
Это касается и действий монархических организаций. Представители социалистических партий, входившие в «боевую тройку», которые организовывали забастовки, если не теракты, в Иваново-Вознесенске ввиду «движения черносотенцев» вынуждены были бежать из города [В. Терентьев «Записки архивиста» М.: Советская Россия, 1984, с.113].
25 ноября прошло 14-е заседание. На следующем, 2 декабря Горемыкин говорил что право распоряжения землёй уже предусмотрено гражданскими законами и не вводится в качестве чего-то нового.
Черниговский губернатор А.А. Хвостов 12 декабря прислал И.Л. Горемыкину с официальным письмом первый местный «историко-археологический отрывной календарь».
14 декабря 1905 г. В.Н. Коковцов прислал Горемыкину на Сергиевскую, 55 письмо, что сегодня на 14 ч. назначено заседание финансового комитета, которое не позволит освободиться к 17 ч., и позвал Ивана Логгиновича к себе в 20 часов.
С.Н. Булгаков 28 декабря 1905 г. из Киева про революционное движение писал, как тяжело переживались «томительные дни предварительного антихристого разгула» [«Взыскующие града. Письма и дневники» М.: Языки русской культуры, 1997, с.90]. К.М. Аггеев, бывший среди тех, кто всеми силами подрывал нравственные устои монархического государства во имя утопической свободы и лицемерных миражей демократии, увидел в декабре 1905 г. в С.-Петербурге, насколько чудовищна революция: «попрание свободы, порою инквизиция. Отныне я лично отказываюсь сказать как прежде: я на стороне наличного освободительного движения» [«Нашедшие Град. История Христианского братства борьбы» М.: Кучково поле, 2017, с.204].
Разгром московского вооружённого восстания показал, что бойня, устроенная террористами, заведомо не имела смысла: «не нужно было и браться за оружие» [Г.В. Плеханов «Русский рабочий в революционном движении» Л.: Лениздат, 1989, с.47].
Ответственность за преступления революции падала на печать, которая, добиваясь себе свободы, систематично подстрекала к погромам и террору, как писал профессор Московской Духовной Академии: «печать систематически, злонамеренно мутила народ, усиливала недовольство правительством, разжигала страсти, будила классовую неприязнь, призывала к бунту» [А.Д. Беляев «Самодержавие и народоправство» Сергиев Посад, 1906, с.49]. Русские монархисты всегда предупреждали, что «полная свобода печати» «приведёт теперь лишь к анархии». Аналогично и революционное стремление к равенству означало, по выражению поэта, «что всё хотят загадить для общего блаженства» [В.А. Котельников «Алексей Константинович Толстой в жизни и в литературе» СПб.: Дмитрий Буланин, 2020, с.164, 594].
Православные монархисты в декабре 1905 г. писали о. Иоанну Кронштадскому: «да не смущается сердце Ваше злостными нападками лично на Вас и на Вашу деятельность низменной, безнравственной, рыночной [т.е. продажной], грязной прессы». «Им ненавистен праведник. Он своей жизнью обличает их мерзкие непотребные дела» [Н.И. Большаков «Источник живой воды. Описание жизни и деятельности отца Иоанна Кронштадского» СПб.: Графический Институт, 1910, с.683].
Либеральное распространение революционной идеологии закономерно вело к умножению террора, насилия и лжи, до поры подвергаемому силовому одолению Христианской Монархией.
Князь В. Оболенский 29 декабря 1905 г. просил содействия И.Л. Горемыкина в просьбе МИД министерству финансов предоставить пенсию в 4500 р. д.с.с. генеральному консулу в Париже Карцову. Минфин дал только 3500 р. [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1044 Л.2-4].
В первые же дни 1906 г. «Биржевые Ведомости» сообщили, что выработка положения о наделении крестьян землёй будет поручена И.Л. Горемыкину. «Русское Слово» тогда же уведомило о вызове Горемыкина к Императору Николаю II в связи с ожидаемой отставкой Витте, на замену которого Горемыкин претендует.
Тем временем Витте в докладе Царю 10 января предложил не много ни мало как «прекратить деятельность» совещания И.Л. Горемыкина о крестьянском землевладении и передать все крестьянские дела в одно учреждение. Николай II надписал на докладе: «переговорите с Горемыкиным» [«Совет Министров Российской Империи 1905-1906 гг.» Л.: Наука, 1990, с.151].
И.Л. Горемыкин 14 января представил Царю выработанную инструкцию Крестьянскому банку, которую Николай II два дня спустя повелел препроводить в Совет Министров, и Горемыкин послал её к Витте.
16 января Н.В. Плеве передал Владимиру Гурко желание И.Л. Горемыкина видеть его у себя, и встреча состоялась на следующий день в 21 ч. вечера.
2 февраля 1906 г. Витте подал Царю доклад о петиции землевладельцев, подразумевая под её инициаторами И.Л. Горемыкина, А.С. Стишинского, Б.В. Штюрмера, А.П. Игнатьева, адмирала Абазу или какого-то их единомышленника, считая, что все они не добиваются власти, а «предпочитают действовать и распространять из-за кустов
всякую ложь в петербургских гостиных» и посредством правой печати. Царь надписал на докладе: «Осерчал граф». Петиция была о возвещённой Высочайше неприкосновенности собственности, на которую покушается правительство. На этом вопросе Горемыкин в итоге и одолел Витте.
А.Д. Нечволодов писал 5 февраля: «Воспользовавшись ценными указаниями Вашего Высокопревосходительства я переработал ту часть записки где разбираются меры о реформе. Очень прошу не отказать мне прочесть её страницы 46-52; кроме того на стр.39-44 у меня приведены некоторые новые данные о связи золотой валюты с английской политикой, франмасонством, современной смутой и социализмом. Прошу разрешения заехать за запиской завтра до 5-ти часов вечера» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.198].
Интересно что автор направленного против Витте памфлета «От разорения к достатку», консультировался у Горемыкина по содержанию брошюры. Письмо указывает, что желание дискредитировать финансовую политику Витте исходило от Нечволодова, а Горемыкин отнюдь не соглашался с ним, а давал возражения против его концепции и не имел отношения к происхождению перечисленных новых данных. До сих пор позиция Нечволодова пользуется некоторым авторитетом среди монархистов, несмотря на то что его непродуманные не получающие подтверждений обвинения в адрес Витте без должных на то причин дискредитируют в итоге и самого Императора Николая II.
Позиция противников Витте выразилась далее на заседании 18 февраля, когда граф Д.А. Олсуфьев предложил поддержать проект, подготовленный комиссией И.Л. Горемыкина [«Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ» М.: РОССПЭН, 2001, Т.1, с.34].
Состоявший в кабинете Витте И.И. Толстой, явно заимствуя его слова, потом уверял, будто именно И.Л. Горемыкин «ругал на чём свет стоит нашего председателя во всех петербургских гостиных» и писал Государю записки с нападками на внутренню политику Витте [И.И. Толстой «Воспоминания министра народного просвещения» М.: Греко-латинский кабинет, 1997, с.224].
Нет, однако, свидетельств хотя бы одного примера публичного выступления Горемыкина против Витте.
«Упорное размышление» «по поводу нашей вчерашней беседы, привело меня в крайне тяжёлое душевное состояние», – писал Владимир Коковцов 20 февраля 1906 г. И.Л. Горемыкину. Коковцов имел «немало сомнений» и ожидал от Императора «известий из Царского Села». В начале марта газета «Слово» передавала разговоры при Дворе о переутомлении Витте и о Коковцове в качестве его преемника.
В феврале и марте И.Л. Горемыкин получал открытки от жены из Пскова и Витебска на Сергиевской, 55.
5 марта 1906 г., Маргарита Сабашникова писала из Москвы о разгуле революционного террора и борьбе с ним правительства, какая традиционно интеллигенцией не одобрялась: «в России сейчас действительно ужасно. Но деятельность левых партий такое же насилие, такой же мрак. Я бесов ненавижу, не вижу чистых и светлых борцов; в крестьянском движении тьма и брожение худших элементов» [М.А. Волошин «Собрание сочинений» М.: Эллис Лак, 2013, Т.11, Кн.2, с.91]. Потом русские мемуаристы более отчётливо сформулировали, что Россия в 1905-6 годах страдала от антигосударственных тенденций и политической безответственности интеллигенции [«На переломе. Три поколения одной московской семьи» Париж, 1970, с.476].
В марте 1906 г. из сметы Св. Синода священнику Иоанну Доброхотову возместили 2000 руб. его личных средств, потраченных на постройку зданий 4-х церковных школ Прокопиево-Бельского прихода Боровичского уезда. Справку об этом переслал ему И.Л. Горемыкин. Так монархическое созидание ими противополагалось разрушительным силам.
А.А. Шахматов 10 марта понимал что монархисты одержат верх при любом раскладе: «меня угнетает мысль о торжествующей реакции и об успехах консерв. партий, которые, конечно, завладеют и Думой и Советом. Откуда ждать спасения России? На Думу надежды мало. Пожалуй она будет ещё более усовершенствованным, чем бюрократия, орудием репрессий. Все мои симпатии на стороне к.-д. партии, но, конечно, её ждёт поражение» [СПФ АРАН Ф.752 Оп.2 Д.348 Л.46].
Реалистичная трезвость предлагаемого прогноза в понимании замысла русских монархистов, учреждавших Г. Думу для достижения собственных целей, ради укрепления правых позиций, а не ослабления. Неравенство сил заведомо исключало возможность политической победы к.-д., независимо от исхода тех или иных выборов.
Расчёт собрать в Г. Думе монархистов у И.Л. Горемыкина был. Племянник А.П. Столпакова писал ему из Брюсселя 3 июня 1906 г.: «Ну и насрал же Витте нам Думу». «Можно только пожалеть Горемыкина», «он сам в разговоре с моим другом сознался, что Дума вышла революционная, не такая, какую он желал». Но это вовсе не давало шансов на победу Думы над Царём. В письме на этот счёт к Марии Кедринской изложено понимание, что Горемыкин и русские монархисты в любом случае добьются своего: «вот до чего довели нас либералы последних лет. Они никак ещё не могут додуматься, что их вздорные речи разрастаются в анархию, которая разольётся потоками крови и притом совершенно безрезультатно» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1982 Л.19,23].
Несколько ранее С.Л. Франк писал, что Милюков совершил ошибку, не поддержав правительство Витте: «партия состоит пока из одних генералов без войска. Иосиф Гессен, Милюков, Набоков и ещё несколько человек “генералов” – вот и вся “партия”» [Л.Ф. Кацис «“Русская весна” Владимира Жаботинского» М.: РГГУ, 2019, с.507].
14 марта 1906 г. Б.В. Никольскому писали, что выбор преемника Витте решается между Муравьёвым, Горемыкиным и Коковцовым. Как сообщал А.И. Гучков, дочь Горемыкина называла причиной увольнения Витте его намерение ввести в правительство депутатов Г. Думы [К.А. Соловьёв «Законодательная и исполнительная власть» М.: РОССПЭН, 2011, с.130, 210].
Г.В. Бутми 15 марта предупредил И.Л. Горемыкина, что из-за простуды не сможет «воспользоваться Вашим любезным приглашением посетить Вас». Однако их встреча состоялась 20 марта и была специально посвящена обсуждению актуальной проблемы международного масонства, изучением которого занимался Георгий Бутми. В тот же день Г.В. Бутми написал ему: «Милостивый государь Иван Логгинович. По поводу возбуждённого Вашим Высокопревосходительством в сегодняшней беседе вопроса о масонстве в России, позволяю себе при сём препроводить Вам брошюру, устанавливающую точку зрения, с которой только и можно, по крайнему моему разумению, найти некоторый смысл в целом ряде событий Современной Истории и явлений переживаемой нами эпохи, остающихся загадочными и необъяснимыми вне этой точки зрения» [РГИА Ф.1626 Оп.1 463 Л.1-2].
В брошюре, посвящённой Союзу Русского Народа, Бутми удачно иронизировал над пропагандой противников Самодержавной Монархии: «Русский Народ теперь достиг той степени естественного развития, когда и ему нужны либеральные реформы, а потому и в России теперь происходит революция, то есть пожары, грабежи и убийства». Такие революции «искусственно подстроены врагами Отечества», «не приносят народу никакого облегчения, а лишь ухудшают его положение». Тайными организаторами революций им названо интернациональное еврейство, стремящееся к всемирному своему господству, и масонство, имеющее «во всём мире разветвления, подчинённые руководству Англии» [Г.В. Бутми «Конституция и политическая свобода» СПб.: Тип. Училища Глухонемых, 1906, с.3-4].
Факт указанного подчинения именно Англии, как и связь с мировым еврейством, находит наиболее убедительное подтверждение в установленном ходе проведения революции февраля 1917 г. через агентов А. Мильнера и масонскую организацию Н.В. Некрасова. Историк С.С. Ольденбург в эмиграции обратит внимание, что выходившие в 1906 г. публикации русских монархистов о революционной роли масонства оказываются гораздо более значительны, чем думала левая интеллигенция [С.В. Зверев «Сергей Сергеевич Ольденбург 1888-1940» М.: Традиция, 2023, с.52, 139].
Весьма возможно, что И.Л. Горемыкин хорошо понимал несостоятельность регулярных безосновательных обвинений в принадлежности к масонству С.Ю. Витте. Революционная печать даже у А.С. Суворина обнаруживала заявления о мнимом масонстве Витте, остававшегося ещё во главе правительства [«Залп», 1906, №1, с.3].
В брошюре Г.В. Бутми упоминалось противостояние Витте с Горемыкиным в 1899 г., но сам Витте безосновательно именовался ставленником еврейства, вовлёкшим русских в войну с японцами. Критика золотой валюты Витте тоже оказывалась опрометчивой. «Конституция» с упоминаем увольнения Витте датируется октябрём 1906 г., поэтому И.Л. Горемыкину Бутми присылал другую свою брошюру о масонстве.
Мифология о том, будто Витте сознательный изменник, вносила путаницу в понимание и без того очень сложного политического расклада сил и наносила несправедливый удар по репутации Императора Николая II. Поэтому правый монархист Н.А. Хвостов ещё 23 апреля 1905 г. отмечает про Витте: «говорят, что он масон» и одновременно пишет что если это так, то Монарх, который его поддерживает «становится опасным для интересов родины». Однако Российской Империи угрожал не Николай II, а распространение такого рода клеветнической дезинформации о Витте. Монархисты, не способные разобраться в ней, оказывались дезориентированы и менее способны к отстаиванию Трона.
24 апреля 1905 г. свежую сплетню разносил А.С. Стишинский, 25 декабря её озвучивал А.И. Дубровин. По приказанию П.И. Рачковского 11 сентября 1905 г. началось полицейское расследование, которое эти слухи о принадлежности Витте к ложе с определённым адресом ничем не подтвердило [А.В. Островский «Россия. Самодержавие. Революция» М.: КМК, 2020, Т.2, с.125-127].
Корректность в этом отношении И.Л. Горемыкина показывает пример, приводимый из неопубликованных воспоминаний Р. Ганелиным в «Английской набережной», что в начале 1906 г., когда А.С. Стишинский ляпнул, что Витте скоро станет президентом, Горемыкин сразу одёрнул его, считая такие обвинения недопустимыми.
Наблюдатели слева видели что время Витте заканчивается. Е.П. Свешникова писала Ф.Ф. Ольденбургу 16 марта 1906 г.: «Вчера очень настойчиво заговорили об уходе Витте. Преемниками? Горемыкин (рамолик), Коковцов (хорош!) и вдруг с чего-то в «Руси» выскочило имя Герарда» [СПФ АРАН Ф.887 Оп.2 Д.197 Л.438об.].
Зная, что И.Л. Горемыкин является первым претендентом, выдвигаемым Царём и русскими монархистами, их противники однако имели совершенно искажённое представление о ключевых политических фигурах. Не существовало ни одной причины считать Горемыкина, эффективно руководившего работами важнейшего крестьянского совещания впавшим с слабоумие. Не идеальное состояние здоровья не помешало Горемыкина непоколебимо и даже успешно отстоять свои убеждения, когда ожидаемая замена Витте наступила.
18 марта Витте предложил позволить крестьянам после окончания выкупных платежей получать в собственность отдельные участки земли. Против записаны П.П. Семёнов, А.П. Игнатьев, А.С. Стишинский, И.Л. Горемыкин: они за обсуждение вопроса в Г. Думе, чтобы крестьяне сами решили, что им нужно. Витте довольно точно предположил, что в Думу попадёт ни на что не способный сброд. По воспоминаниям А.А. Мосолова, А.П. Игнатьев особенно активно оказывал противодействие правлению Витте в законодательных комиссиях. Взгляды Горемыкина достаточно хорошо известны, чтобы видеть в его голосе не отрицание прав собственности крестьян, а необходимость в данный конкретный момент учитывать ближайший созыв Г. Думы.
Стишинский всегда голосовал против Витте, даже когда был с ним согласен. По сведениям к.-д., «даже» Стишинский в Г. Совете комментировал выступление Витте: «а, я вижу, что с ним можно столковаться» [»Речь», 1906, 22 апреля, с.2].
Ещё к середине марта в газеты просочились сообщения, что граф Витте по своей воле решил уйти из правительства перед открытием Г. Думы. Эта часть сообщений оправдалась, но тогда же говорили и о намерении Витте перейти на пост председателя Г. Совета, поскольку граф Сольский по возрасту и болезненному состоянию уходит. Недоброжелатели Витте в русских политических элитах такого не желали и предлагали на место Д.М. Сольского Эдуарда Васильевича Фриша. Что и произойдёт в ближайшее время.
По другим слухам, Д.М. Сольский и А.П. Игнатьев претендовали на место Витте. Была опровергнута ложь о болезни и переутомлении Витте.
19 марта 1906 г. Владимир Гурко пишет: «Глубокочтимый Иван Логгинович. Хотя к моему сердечному прискорбию Вы изволите быть несколько другого мнения по вопросу об общине, нежели то, которое я стремлюсь распространить, но всё же думаю, что с главным положением прилагаемой брошюры – гибельностью превращения всей нашей земли – в мелкие земельные участки – Вы согласитесь. Обстоятельство это придаёт мне смелость представить Вам один экземпляр оттиснутых в печати, набросанных мною между делом мыслей по аграрному вопросу» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.702 Л.6].
Занимающийся качественным, но сугубо экономическим анализом историк М.А. Давыдов крайне легкомысленно буквально придерживается спекулятивного толка текста поздних мемуаров С.Ю. Витте и Вл. Гурко относительно аграрной политики, повторяя бессмысленно-вздорные выражения о горемыкинском совещании по крестьянам, вместо того чтобы точно установить позицию И.Л. Горемыкина и А.С. Стишинского как можно более подробно и верно, а не в сжатых искажениях мифологических мемуарных традиций [М.А. Давыдов «Теорема Столыпина» СПб.: Алетейя, 2022, с.568].
Исследования по политической истории традиционно выявляют невозможность опираться на пару Витте-Гурко с их демонстративным раскрытием «всей правды». Их тексты оказываются крайне поверхностны и не верны [С.В. Медведев «Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы ХХ в.» М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2018, с.275-293].
25 марта в газетах появились слова П.Н. Дурново о том что он добился победы над революционерами, обеспечил успокоение России, вернул в колею торговый оборот и теперь готов уйти. Претендентом на место Витте по-прежнему называли Коковцова, выдвигаемого партией Двора. Но первым и более серьёзным кандидатом уже объявлен И.Л. Горемыкин, по сведениям из бюрократических сфер.
П.И. Балинский 25 марта не смог заехать к И.Л. Горемыкину и просил назначить ему другой день и передать «обещанную мне книгу (о м…) на один только вечер» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.389 Л.18].
Похоже, что упоминается недавно полученное И.Л. Горемыкиным антимасонское издание Г.В. Бутми, учитывая их общий интерес к мировой закулисе. Однако в переписке сокращение м… инженер Балинский использовал, говоря о министрах, поэтому другим возможным вариантом является издание «Убийство трех министров, (Тайного советника Боголепова, Егермейстера Сипягина, Статс-секретаря фон-Плеве)» (1906), если таковое к данному времени уже напечатано.
30 марта Витте предсказал, что Г. Дума будет настроена против правительства из-за излишне жестокого разгрома Дурново Москвы, которого не одобрял Витте и поддерживал Государь. Витте заявил, что вынужден будет уйти в отставку с открытием Г. Думы. Страшась её, Витте написал об этом Царю, и его отставка была принята.
8 апреля после перерыва на время правления Витте, Царь принял Горемыкина в 18 ч. Перед началом совещаний относительно Основных Законов в Царском Селе Государь принимал Горемыкина, который предельно рассудительно предлагал оставить ОГЗ без изменений, а сферу компетенции Г. Думы определять в зависимости от её политической окраски. Это мнение Горемыкин отстаивал затем на совещании «с безграничным низкопоклонством», как записал А.А. Половцов. Отказ Горемыкина разменивать монархические принципы на популистский конституционализм бросался в глаза.
Первое совещание о редакции новых Основных Законах 7 апреля Горемыкин пропустил, и начал принимать участие в обсуждении с 9 апреля, когда оно продлилось с 21 ч. до 1 ч. 30 м. Затем 11 и 12 апреля совещание проходило короче, с 15 ч. до 17.15.
Открывая совещание 9 апреля, И.Л. Горемыкин определил Царя по-прежнему Монархом Самодержавным: учреждение Г. Думы и манифест 17 октября не отменяют принципа Верховной власти, не касаются ветвей исполнительной и судебной, а лишь вводят новую процедуру «рассмотрения и издания законов». Николай II согласно с Горемыкиным говорил, что не собирается отрекаться от Самодержавных полномочий Суверена, стоящих над тремя ветвями власти. Верховная власть Царя не может быть урезана Думой, так же при демократической форме правления референдум имеет приоритет народовластия над любым парламентом.
Витте не пытался опровергать положения Горемыкина, а сказал что предлагаемая редакция ОГЗ со сказанным Горемыкиным вполне согласуется, т.к. ввести изменения в любом случае надо. Прямо Горемыкина поддержал Стишинский.
Горемыкин на совещании 9 апреля 1906 г. был единственным, кроме Царя, кто прямо сказал: «ограничением пределов Верховной власти 80% населения будут смущены, и многие из них недовольны». Ближе всех к его позиции выскажется А.С. Стишинский: «следует только слово исключить, а власть сохранить», поскольку понятие Самодержавия всё равно означает власть неограниченную. Именно его точку зрения 12 апреля принял Государь, решив убрать слово «неограниченный» из соображений тактики идейного обезоруживания своих врагов.
Количество несогласных с Николаем II не могло его переубедить. Остальные министры настаивали, что Монарх уже является ограниченным. С.Ю. Витте говорил об ограничении Царей Основными Законами, начиная с Императора Александра I. К.И. Пален, М.Г. Акимов, А.А. Сабуров, П.Н. Дурново, Великие Князья Николай Николаевич и Владимир Александрович придерживались взгляда что неограниченная власть была отменена Манифестом 17 октября.
Прекрасно понимавший Царя С.С. Ольденбург всё это видел: «Государь считал, что неограниченное самодержавие, в идеале, выше и совершеннее». Но этот строй не имел «достаточно числа убеждённых» единомышленников Николая II [С.С. Ольденбург «Царствование Николая II» М.: АСТ, 2003, с.377]. Прямо с юности Сергей Сергеевич твёрдо придерживался того же политического идеала, омрачаемого чрезмерным числом повсюду встречаемых им противников крайне правых. 9 января 1907 г. он писал, «чувством склоняясь к самодержавию»: «приходит мысль» «это слишком хорошо, чтобы быть осуществимым» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.3 Д.432 Л.120об.].
Всё это хорошо объясняет, почему Витте, Акимов и Дурново покинули правительство, а основу нового Совета Министров составили Горемыкин и Стишинский. Государь выбрал сановников, разделявших его взгляды на природу Самодержавной власти и её необходимость для России, ориентировавшихся на значение монархической власти, а не на желания Г. Думы.
Такое объяснение, приблизительно, слышали в партии к.-д. относительно Основных Законов: «о победе Горемыкина на почве сохранения титула неограниченности» [ «Речь», 1906, 25 апреля, с.1].
И.Л. Горемыкин ещё до созыва Думы предположил, что она может затруднять утверждения бюджета, предоставленного на её рассмотрение, поэтому сохранение полномочий Монарха сыграет важную роль в защите национальных интересов от депутатского произвола и вредительства. Также, Горемыкин придерживался важного принципа монархической политики, чтобы в отличие от демократических конституций, в Основной Закон не попадали голословные объявления свобод, какие не могут существовать и обеспечиваться в реальности. Правый реализм тут противоположен левому популизму, при котором сталинские или ельцинские статьи конституции – пустой звук для красоты пропаганды несуществующих прав.
Горемыкин прямо ставил вопрос о существовании условий и порядка «осуществления всех этих свобод», какие имеют утопический характер и потому не могут гарантироваться государством. Утверждение существенных, а не воображаемых прав в определённом их виде всегда отличается от абстрактных абсолютных свобод. Поэтому термин свободы в принципе следует считать негативным и лучше всегда избегать его, а права отдельных людей рассматриваются в дополнительных законодательных актах. Основные Законы определяют порядок государственного, а не общественного устройства. Неприкосновенность прав собственности Горемыкин считал нужным прямо записать в ОГЗ, т.к. государственность существует непосредственно для оформления и защиты собственности, а не для воображаемых или негативных свобод.
При склонности депутатов к насильственным захватам чужого имущества Горемыкин обещал брать их в штыки и разгонять. Ограждение государством прав собственности является важнейшим признаком борьбы с революционным принципом. Если где-то эти права не защищаются с принципиальностью Императора Николай II и И.Л. Горемыкина – значит там революция победила и следует бороться за реставрацию и реституцию.
И.Л. Горемыкин предлагал: «в статье 30 надо сказать, что отчуждение собственности может быть сделано только для надобности государственных учреждений», тем самым устранив возможность злоупотреблений законом [«Первая российская революция и самодержавие» Л.: ЛГУ, 1975, с.135].
Существование Армии как силы, обеспечивающей государственный порядок, согласно мнению Горемыкина, Стишинского, Дурново, Редигера, Великого Князя Николая Николаевича, также следовало вывести из-под возможного революционного удара выборных депутатов и сохранить возможность призывать прежний по количеству контингент.
4-е заседание в Царском Селе прошло 12 апреля, с участием Горемыкина.
13 апреля в 18 ч. Государь принял Дурново, затем Горемыкина.
В докладе Витте о снятии его обязанностей 14 апреля Витте признаёт что решение крестьянских дел теперь останется за Горемыкиным, который в совещании об ОГЗ высказал свои убеждения «по существу» дела относительно будущих действий правительства. Витте пришлось прекратить долгое перетягивание каната и дать Горемыкину возможность «на практике» доказать правоту его воззрений.
Отставка Витте официально записана в дневнике Императора 15 апреля. В эти же дни газеты продолжали писать о переходе Витте в председатели Г. Совета, что не входило в намерения Николая II.
17 апреля Император написал записку Д.Ф. Трепову: «дайте знать Горемыкину, что я желаю его видеть сегодня 17-го в 6 час.». 17 апреля, дневник Царя: «принял Горемыкина и предложил ему составить новое министерство». 17 апреля по секрету уже сообщали об увольнении Витте. В Г. Совете состоялось последнее заседание в прежнем составе. Горемыкин и Витте оба на нём присутствовали, но не оставались до конца заседания.
Газета «Речь» 18 апреля объясняла увольнение Витте проявившейся его неспособностью привлечь на сторону правительства избранных депутатов Г. Думы, образовав правую крестьянскую фракцию из беспартийных.
19 апреля 1906 г. Горемыкин подал Царю записку: «недоверие и даже ненависть к чиновничьему строю управления настолько всеобщие и болезненные, что монархической власти угрожала бы серьёзная опасность, если бы сделаны были шаги, оправдывающие предположения о том, что с народным представительством намерены покончить или сузить его до пределов прозрачности». Однако Горемыкин закономерно ожидал, что Г. Дума обнаружит «деловую неспособность», утонет в прениях, будет провоцировать беспорядки. Причём Горемыкин планировал воздерживаться от роспуска до того момента, пока Дума не попытается обратиться в Учредительное собрание [К.А. Соловьёв «Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906-1914)» М.: РОССПЭН, 2011, с.44, 48-49].
На петергофском обсуждении проекта Основных Законов Горемыкин говорил, что если Г. Дума будет говорить о принудительном отчуждении земли, «её придётся брать в штыки». Так считали и граф К.И. Пален, Великий Князь Владимир Александрович.
С.Ю. Витте не соглашался и утверждал, что Горемыкин приведёт к «общей революции», что вызвало сильное недовольство Царя, начавшего советоваться с Дурново и Горемыкиным насчёт устранения Витте. Тогда Витте сам подал в отставку. Горемыкину осталось закончить редактирование Основных Законов [А.В. Игнатьев «С.Ю. Витте – дипломат» М.: Международные отношения, 1989, с.297].
Поэтому, когда Герасимов утверждал, что Горемыкин в нескольких беседах с ним не выдал ни согласия на думское министерство, ни его неприятия, это была видимость безразличия: его позиция давно определилась и обсуждать Думу скорее всего уже до смерти надоело. Герасимов писал, что Рачковский и Горемыкин хотели создать в Г. Думе сильный блок правых крестьян, но левая демагогия увлекла крестьян к отчуждателям чужих земель.
В марте 1909 г. В.Н. Коковцов рассказал Редигеру, что Государь первоначально думал заменить С.Ю. Витте Акимовым с сохранением остальных министров, но Акимов счёл себя не подходящим и предложил сменить весь кабинет. Со слов Акимова в апреле 1917 г. и его преемник И.Г. Щегловитов утверждал, что Акимов категорически отказался сменить Витте во главе Совета Министров. Эта версия расходится с изложенными выводами о выборе министров в зависимости от их отношения к природе Самодержавной власти и к значению Г. Думы.
По рассказу Щегловитова, Акимов рекомендовал Николаю II назначить председателем правительства И.Л. Горемыкина. Это важное свидетельство, какой авторитет и поддержку имел Горемыкин даже в правительстве Витте. В дневнике Царя встречи с Акимовым отсутствуют. Есть зазор только в 16 апреля перед вызовом Горемыкина к Николаю II. Витте относит отказ Акимова к этому дню. В газетах кандидатуру Акимова наряду с Горемыкиным продолжали называть 19 апреля, но это были уже устаревшие сведения. М.Г. Акимов отлично проявил себя в борьбе с революционерами и очень ценился правыми монархистами.
Газета «Киевлянин» сообщала 10 июля 1906 г., что И.Л. Горемыкин первоначально также не желал принимать назначение и отказывался, но уступил желанию Государя. Эти отказы Горемыкина известны также по информации газеты «Речь» 20 апреля, «Н. Время» 23 апреля. Сообщалось что таких отказов с последующими заменами было несколько, Щегловитов тоже колебался, но несколько встреч с Горемыкиным его убедили.
19 апреля 1906 г., как узнал градоначальник Лауниц, Дурново уходит вместе с Витте, а Горемыкин выбрал на место МВД Клейгельса. Про приглашение Горемыкиным Клейгельса писала Богданович 19 апреля. 20 апреля говорили уже, что на МВД претендуют Штюрмер и Столыпин. «Н. Время» знало, что Горемыкин представил Царю проект состава правительства, едва ли это произошло 21 апреля, а не раньше.
В газетах появлялся, по-видимому, устаревший на месяц список кандидатур на место Витте в той же последовательности: Коковцов, Горемыкин, Муравьёв. Проскользнуло мнение, что Сольского в случае болезни могут подменять Горемыкин и Пален. Более существенна просочившаяся новость, объясняющая успех Горемыкина его критикой виттевского проекта Основных Законов на особом совещании [«Сибирская мысль» (Томск), 1906, 21 апреля, №82, с.2].
Коковцов, который годами поддерживал личные отношения с Горемыкиным, и вёл с ним важные переговоры в месяцы прямо перед падением Витте, оказался приглашён Горемыкиным принять министерство финансов. Однако при всём великом честолюбии, Коковцов побоялся входить в правительство при настоящих условиях. Следует отметить, что в начале апреля Коковцов ездил в Париж для выработки окончательных условий займа. Там он впервые встретился с французским министром финансов Р. Пуанкаре.
В недоброжелательной рецензии на «Царствование» С.С. Ольденбурга, И.И. Тхоржевский вспоминал: «враги Витте (Горемыкин) тогда так и говорили: “достал денег, – теперь можно его и прогнать”» [«Возрождение» (Париж), 1940, 29 марта, с.5].
Однако из другой статьи Тхоржевского выясняется, что закавыченная фраза, произнесённая И.Л. Горемыкиным, является повторением им реплики Императора Николая II. И.И. Толстой также приводит в мемуарах такие слова Царя. Что опять ставит под сомнение многочисленные спекуляции на том, будто Горемыкин был врагом Витте. Расходиться в отдельных политических вопросах с Витте совершенно не значит быть его врагом.
Согласно мемуарам В.Н. Коковцова, утром 19 апреля, едва только он вернулся из Франции, И.Л. Горемыкин сразу позвал его к себе на Сергиевской и передал намерение Императора Николая II видеть его министром финансов. И.Л. Горемыкин сказал что «горячо поддерживает» желание Царя. Коковцов же опасался встречи с Г. Думой и предлагал оставить её на попечение Витте для соблюдения преемственности. Горемыкин опроверг этот довод, показав список дел, доставшихся ему от правительства Витте. Они не готовились к рассмотрению в Г. Думе. И.Л. Горемыкин тогда же объяснил, что Г. Дума «будет заниматься одной борьбой с правительством и захватом у него власти». Коковцов признаёт в мемуарах, что Горемыкин точно предвидел будущие события. Признание ошибочности своих суждений в те дни придаёт записи Коковцова дополнительную достоверность. Указанная в воспоминаниях дата 19 апреля подтверждается газетными сообщениями о дне возвращения Коковцова.
Горемыкин предложил совместно противостоять Г. Думе: «уверен, что не нас одолеют, а мы одолеем, и все скоро поймут, что в таком сумбуре нам просто жить нельзя». Это важное подтверждение, что И.Л. Горемыкин сознательно добивался победы монархической идейности над демократическим парламентаризмом. Революцию следовало победить не одним силовым разгоном Г. Думы, а публичной демонстрацией её зловредности и несостоятельности. Горемыкин добивался перелома общественных настроений против революции.
М.И. Горемыкин отправил из Витебска 19 апреля свою поддержку: «Дорогой мой, пишу тебе только два слова, зная что тебе не до меня. Я хочу обнять тебя всем тем глубоким и сложным чувством которое дрожит во мне сегодня. Нежно и крепко тебя целую и да хранит тебя Господь в том новом, бесконечно тяжёлом, славном и грозном будущем. Твой сын» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.639 Л.1].
Газета «Речь» от 20 апреля определённо говорила о назначении Столыпина и Щегловитова, одновременно сообщая заведомо ложные «толки» о приглашении в правительство Горемыкина нескольких к.-д. Орган к.-д. набивал себе цену, предупреждая, что к.-д. откажутся и «не пойдут к гг. Горемыкиным», вместо того чтобы честно сообщить, что И.Л. Горемыкин ровно никого из к.-д. к себе и не звал. Подлецы из к.-д. при этом продолжали ссылаться на фальшивый циркуляр В.К. Плеве о погромах, сфабрикованный лондонской «Таймс». Давая пропагандистскую трибуну революционерам, интеллигентская «Речь» с одобрением цитировала выступление осуждённого террориста: «сыщиков надо убивать».
20 апреля Император повелел созвать Г. Совет. «Московские Ведомости» сообщали, что 20 апреля И.Л. Горемыкин уже принял правительственные дела. Вечером он долго беседовал с Владимиром Гурко, временным управляющим МВД. Столыпин всё ещё находился в Саратове.
И.И. Толстой 20 апреля отправлял последние извещения на министерском бланке: о соизволении Николая II поместить в зале Императорской Публичной библиотеки портрет д.т.с. Кобеко [СПФ АРАН Ф.246 Оп.3 Д.370 Л.1].
П.Х. Шванебах 20 апреля написал И.Л. Горемыкину, что вчера не решился беспокоить его своим посещением, ожидая приглашения при необходимости и замечая также: «Е.И.В. конечно очень стеснён во времени».
21 апреля Государь принимал Горемыкина, Сольского, Шипова, а затем Коковцова. По воспоминаниям последнего, Император Николай II объяснил ему главную причину замены Витте перед созывом Г. Думы: «Горемыкин не пойдёт за моей спиной ни на какие соглашения и уступки во вред моей власти. Я могу ему вполне доверять». После Государя Коковцов поехал к Горемыкину и передал ему состоявшуюся беседу.
По сообщению «Нового Времени», Горемыкин провёл в Царском Селе весь день, представил свою программу и получил от Царя возможность определить имена для Совета Министров по своему усмотрению. «Речь» 21 апреля сообщала не подтвердившиеся данные о назначении князя Б.Б. Голицына министром народного просвещения. К.-д. опасались также, что высокое назначение при И.Л. Горемыкине получит Борис Штюрмер. Ранним кандидатом на Синод звали А.П. Игнатьева. – что могло быть личным предпочтением Горемыкина в первом предложенном списке, который затем перетрясывался.
И.Я. Голубев 22 апреля прислал И.Л. Горемыкину записку, что ему следует скрепить своей подписью указ об издании Основных Законов, согласно вводимому этими новыми ОГЗ положению [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.585 Л.52]. Письмо Владимира Гурко передаёт Горемыкину обстоятельства опубликования новых ОГЗ. «Номер собрания узаконений появится только завтра, но сегодня он уже разослан в 4 места, а именно 1) в «Правительственный вестник» 2) Министру Юстиции 3) начальнику Сенатской типографии и 4) в редакцию «Торгово-Промышленной газеты»». «Если при таких условиях задержать появление в свет не удастся, то благоволите меня о сём приказать уведомить, чтобы я мог распорядиться об опубликовании законов и в «Правительственном вестнике»» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.702 Л.13]
Коковцов 22 апреля просил Горемыкина передать Царю просьбу, даже «мольбу – дозволить мне» (до времени) оставаться в моём текущем положении. «Я не был никогда ослушником Высочайшей воли, – не буду им и теперь, но ведь всякому верноподданному дозволительно» обращаться к Монарху с ходатайствами и призывом к милосердию. «Вы меня знаете», сообщал Коковцов, что в его «состоянии души» не найдёт дальше «сил на борьбу» «едва ли не безнадёжную» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.846 Л.9].
У Горемыкина такие силы нашлись.
Часть 3. Первый Министр Царя.
23 апреля 1906 г. вышел Именной Высочайший указ об упразднении Комитета Министров. Всё время министерства С.Ю. Витте велась подготовка передачи дел комитета и перераспределение функций Г. Совета и правительства в связи с новыми законодательными полномочиями Г. Думы. Чиновниками отмечались дела, подлежащие ведению исполнительной власти.
Канцелярия Комитета Министров сохранялась с переименованием в Канцелярию Совета Министров и переходила в подчинение И.Л. Горемыкину.
Через несколько дней после официального назначения, Горемыкин заехал в Канцелярию Совета Министров в Мариинском дворце. В приватном разговоре с Горемыкиным Вуич, претендовавший на возглавление Канцелярии, неблагоприятно охарактеризовал её состав, доставшийся от Витте. «Но Горемыкин был настроен против Вуича, как беззастенчивого перебежчика из лагеря» В.К. Плеве к Витте. Поэтому Горемыкин провёл в помощники управляющего делами Совета Министров с поручением временно управлять Канцелярией Н.В. Плеве – издавна служебно и идейно близкого Горемыкину ярого черносотенца, враждебного Витте [П.П. Менделеев «Свет и тени в моей жизни. 1864-1933» М.: Кучково поле, 2017, с.208, 210].
Отныне Канцелярия стала обслуживать не как прежде одного Витте, а весь Совет Министров. Павел Менделеев, в воспоминаниях держащийся за идеологическую нить незаменимой гениальности Витте, сомнительно толкует этот факт тем, что Горемыкину не в чем было помогать ввиду его ленивых повадок. Но Менделеев признаётся, что не имел с Горемыкиным никакого делового общения и в остальном воздерживается от передачи в мемуарах непроверенных слухов о Горемыкине.
Поскольку Горемыкин возглавлял правительство без своего портфеля, то естественно, что основной деловой работой занимались министерства, которым и следовало помогать Канцелярии. А то что Горемыкин «ни в чьей постоянной помощи не нуждался» так раз указывает на его работоспособность. Точно так и Государь Николай II славился тем что принципиально не заводил личного секретаря, который бы приобрёл самостоятельное политическое значение. Тут они с Горемыкиным в очередной раз сошлись, а выдающееся трудолюбие Государя хорошо известно.
Другой сотрудник Канцелярии подтверждает, что Витте втягивал её штат «в свою беспокойную, кипучую работу», но эта деятельность нередко сочеталась с «непонятными иллюзиями», которые расходились с проницательными резолюциями Царя. «Государь, кроме обаятельной тонкости, обладал и многими другими, незаменимыми для царского ремесла свойствами. Редким чувством долга, дисциплины, точностью в труде, умственной и душевной ясностью. Не любил он только бить на широкий внешний эффект; у него было, почти преувеличенное, душевное изящество скромности» [И.И. Тхоржевский «Император Николай II» Париж, 1937, с.10].
Этим Русский Царь сильно отличался от Витте, в то время как Горемыкин не только нравственно ближе к Монарху, но и более реалистичен и продуктивен.
Претензии к излишней разговорчивости С.Ю. Витте озвучивал А.И. Гучков, они записаны в дневнике московского промышленника за 4 декабря 1905 г.: «на последнем заседании совещания, которое проходило в Петербурге и где я присутствовал, Витте говорил около двух часов, но я встал в тупик: что он хотел сказать?..». Гучков обвинял Витте в беспринципности: «нельзя уступать тем, кто бунтует» [Н.П. Вишняков «Революция 1905 года в Москве» // «С крестом и без креста» М.: Новатор, 1997, Кн.2, с.14].
Твёрдые и сложные решения требовали личного вмешательства Царя, инициативность Витте в таких случаях испарялась. «Мне часто приходится силком заставлять Витте, когда ему нужно решиться на ту или иную меру», – упоминал Император Николай II в письме Вильгельму II [«Всемирная история. Канун Первой мировой войны» Минск: Харвест, 2001, с.577].
П.П. Менделеев единственный раз пытался встретиться с Горемыкиным, но Иван Логгинович так раз тогда собрался прилечь отдохнуть и велел никого к нему не пускать. Менделеев, оставив дела для передачи, трактует этот эпизод, как его приучил смотреть на Горемыкина Витте, ни разу не усомнившись, что его кумир в чём-то мог ошибаться, и даже кардинально быть не правым
Уловка про сон могла использоваться Горемыкиным неоднократно, дабы его не беспокоили ради ненужных встреч и лишних разговоров, как в случае с Менделеевым, когда в непосредственном свидании явно нет ни малейшей нужды. Если же Горемыкин и в самом деле отдыхал от переутомления, то это никак не может считаться символом сонного царства сравнительно с бурливой неугомонностью Витте. Это наоборот говорит о трудолюбии Горемыкина, превышающем возможности его организма.
Окончательно убедиться в необъективности П.П. Менделеева можно по следующей одобрительной передаче П.П. Менделеевым слов Витте про А.В. Кривошеина: «ходячая лень. Карьеру делает не работой, а разными интригами, через всяких дам. Мастер заручаться крупными и использовать их в нужную минуту. Что хорошо у него развито – это чутьё». Того же рода записи И.И. Толстого, что Витте называл Кривошеина шпионом Трепова. И что Столыпин человек малоспособный.
В.Н. Коковцов в воспоминаниях писал, что 21 апреля предостерегал Царя от назначения И.Л. Горемыкина, поскольку ему свойственно «величайшее безразличие». Но оно имеет отношение исключительно к тому что Горемыкин любил называть чепухой: будь то неправда врагов Монархии или соображения второстепенные, на которые вредно отвлекать мнение. Горемыкин относился с безразличием к усилиям революционеров и либералов, которые других чиновников пугали или заставляли к себе приспосабливаться. Такое непоколебимое трезвомыслие Горемыкина следует только приветствовать, Император Николай II прекрасно видел в нём это величайшее политическое достоинство.
Мемуары В.Н. Коковцова сами прекрасно объясняют в чём выражалось это т.н. безразличие: «с абсолютной невозмутимостью Горемыкин заметил мне, что я просто заблуждаюсь, предполагая, что правительство Витте подготовило что-либо для новых палат, что Государственная Дума станет заниматься рассмотрением внесённых в неё законопроектов». Точный анализ ситуации, отрицание заблуждений оппонентов, игнорирование вражеской мифологии, вот как правильнее определять непрошибаемое упорство монархической убеждённости И.Л. Горемыкина. Ровно так «совершенно спокойно» отвергал ошибочные рассуждения Коковцова и Николай II.
Совокупность свидетельств тех, кто в самом деле работал с Горемыкиным, даёт совершенно другую картину, как опровергаются и лживые характеристики других министров, распространяемые Витте.
Действительно, к 23 апреля С.Ю. Витте оставил не какие-либо законченные законопроекты, а лишь составил записку, которая перечисляет список вопросов для рассмотрения Г. Думой, т.е. краткую теоретическую программу. И.Л. Горемыкин не нуждался в таких шпаргалках и разработал собственную программу, не пользуясь указаниями Витте.
И.И. Тхоржевский ввиду близких отношений с Михаилом Ивановичем Горемыкиным, общался и с его отцом, благодаря чему мог защищать представителей известного ему старшего поколения, сопоставляя со своим эмигрантским опытом: «Петербургская бюрократия по своей культурности превосходила любую западную» [«Возрождение» (Париж), 1939, 27 января, с.5].
В первый же день назначения Горемыкин передавал, что Император Николай II не выносит Витте, но долго терпел его чтобы легче получить внешние займы. Тхоржевский запомнил И.Л. Горемыкина привлекательным, безупречно обходительным, но и властным, с «редкой внутренней твёрдостью. Историк воздаст должное и политической силе этого человека». «Твёрдость! Нет высшей похвалы политику и мужчине». «Умнейший человек, выдвинутый когда-то «за ум» Победоносцевым, Горемыкин всегда был “философом”, и к своей растущей непопулярности относился более чем спокойно» [И.И. Тхоржевский «Последний Петербург» СПб.: Алетейя, 1999, с.80, 96].
Упомянутая твёрдая властность никак не согласуется с мифологией леволиберальной «Речи», 22 апреля 1906 г. в качестве оскорбления упомянувшей, будто Горемыкиным «помыкали департаментские чиновники». В голове у идеологов партии к.-д. вертелись фантастические легенды, да примитивные представления о длительной истории противостояния с Витте, обозначенной П.Б. Струве как «шутовской круговорот». Невозможно серьёзно относиться к политической партии с самым отталкивающим примитивизмом демократического популизма. Отказывая своим противникам в уважении, к.-д. лишались сами всякой респектабельности.
Со знанием дела разоблачая сплетни о бездеятельности Горемыкина, Тхоржевский допускает типичную для редакции эмигрантской газеты «Возрождение» ошибку, будто Горемыкин «учил» Николая II пренебрегать Г. Думой и с ней ссорились «зря». Нет, Царь и Горемыкин изначально мыслили солидарно. Общая монархическая идея, которой они оба рыцарски служили, вызывала недовольство инакомыслящих. Поэтому, если Горемыкин и хотел отвлечь на себя от Государя чьё-то неблагожелательство, то этого не происходило. Настолько их нельзя разъять.
Генерал Курлов замечательно пишет о том, насколько спокойной уверенности Императора Николая II хорошо подходил И.Л. Горемыкин, заработавший седину на государственном поприще. Горемыкин «был чужд оптимизму, а потому далёк от всяких иллюзий, что работа Государственной Думы войдёт в нормальную колею». Очень важной является характеристика, что И.Л. Горемыкин являлся не только олимпийцем, какого нельзя было ничем удивить и взволновать, но и «человеком решительным» [П.Г. Курлов «Гибель Императорской России» М.: Современник, 1991, с.70-71, 152].
Воспоминания Курлова впервые были изданы в Берлине, первый отзыв в «Еврейской трибуне» 5 ноября 1920 г. воспроизводит его оценки деятельности Горемыкина по борьбе с Г. Думой как спасительные для России.
Владимир Гурко в мемуарах признавал за И.Л. Горемыкиным силу воли и упорство, умение подбирать способных сотрудников и добиваться от них поставленных им целей.
Ещё есть пример встречи в Зимнем дворце с А.Н. Наумовым, которому через 10 лет будет суждено стать министром. Он даёт довольно точные характеристики: И.Л. Горемыкин «весь как бы сотканный из медлительных движений. Он не любил говорить, но слушал со вниманием, не спуская с меня больших светло-голубых ясных глаз». «Горемыкин являлся носителем определённой твёрдой государственной идеи; это был настоящий муж совета, умудрённый долгим опытом и знанием государственной жизни и управления. С ним можно было не соглашаться, но не уважать его было грешно». Они обсудили состоявшиеся выборы в 1-ю Г. Думу. Сговорились на необходимости «твёрдой, сильной власти снизу доверху». Горемыкин был заметно сутул, но бодр. Прощаясь, он сказал: «плохо будет, если вы услышите, что меня отсюда выживают». Пока нет подтверждений словам Наумова, что Столыпин был тогда назначен в МВД «по инициативе и настоянию» Горемыкина [«П.А. Столыпин: pro et contra» М.: РХГА, 2014, с.181-182].
Газетные сообщения о составлении лично Горемыкиным своего кабинета не являются достаточно надёжными. Ранний список, предложенный Царю, по-видимому, был пересмотрен Николаем II.
Организатор Союза Русского Народа А.И. Дубровин 21 апреля прислал И.Л. Горемыкину поздравление, из которого следует что недавно они уже виделись: «с чувством истинного удовольствия и удовлетворения моих желаний встретил весть о назначении Вашем вместо ненавистского всем г. Витте. Памятуя разрешение Ваше в нужных случаях обращаться к Вам, я до настоящего времени не беспокоил Вас, не желая показаться надоедливым; настоящий же момент вынуждает меня обратиться к Вам с просьбой разрешить мне ½ часовую аудиенцию» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.735 Л.2].
Монархисты выражали уверенность, что по своим убеждениям и по характеру, И.Л. Горемыкин не допустит продолжения прежней извилистой политики Витте, восстановит государственный престиж, положит конец попыткам социалистов разорить Россию, в т.ч. через Г. Думу [«Киевлянин», 1906, 23 апреля, №111, с.1].
Единогласное приветствие И.Л. Горемыкину 23 апреля послал Киевский отдел Русской Монархической партии, собравшийся в тысячном составе. «Всей душой» приветствовал его назначение Д.А. Хомяков. В.К. Истомин написал: «воспоминания прошлого, когда своею службою я был поставлен под непосредственное Ваше начальство, и добрые воспоминания об этом прошлом, связанные с отношениями Вашими к в Бозе почившему Незабвенному Великому Князю Сергею Александровичу, побуждают меня в эту великую для Вас минуту, свидетельствующую о подвиге Вашего самопожертвования на службу Царю и Родине , обратиться к Вам с самым горячим пожеланием успеха. Пошли Вам Господь силы духа для несения принятого на себя Креста. Русские люди, верные принятой ими присяге, с непотемнённым рассудком и страстною любовью к несчастному отечеству, будут молиться за Вас Богу. В числе их буду конечно и я».
Граф Алексей Игнатьев 24 апреля передал записку о желании видеть Горемыкина. Ф.Д. Самарин в тот же день уведомил Горемыкина, что исполнит его желание о встрече в назначенное время. Э.Ю. Нольде сообщил что утром представил Царю «составленный согласно Вашим указаниям всеподданнейший доклад по делу Бакинского Градоначальства» и получил резолюцию Николая II: «направить в законодательном порядке».
По приезду 24 апреля, П.А. Столыпин впервые представился И.Л. Горемыкину. 25 апреля 1906 г. Государь принимал обоих. С ними приезжал П.И. Рачковский.
В эмиграции И.В. Гессен приводил слова И.Л. Горемыкина, будто он чувствует себя в безопасности в одной карете с П.И. Рачковским, а не когда его окружают чины охранного отделения или Департамента Полиции [«Сегодня» (Рига), 1927, 13 ноября, с.3].
Трудно принимать во внимание такое свидетельство, учитывая полное отсутствие связи между министром и издателем из партии к.-д. Требуется установить точнее источник информации Гессена, не забывая о склонности либералов и социалистов раздувать лживые мифы о полицейских “провокациях” и их постоянные попытки опорочить главных борцов с революцией. Если И.Л. Горемыкин нечто похожее говорил, то выражал понимание полной невозможности обеспечить безопасность от террористов. Царские министры проживали каждый день с осознанием возможности в любое мгновение быть убитыми. Ровно это чувствовал в СССР А.И. Солженицын, тоже не желавший подстраиваться под насильственные требования революционеров. О том же блестяще писал и Сенека в римской республике.
В действительности эсеры очень хотели добраться до Рачковского, но не сумели убить его. Совсем недавно, в марте 1906 г. провалился их план покушения с использованием Гапона, Рачковский избежал ловушки. Азеф в качестве руководителя террористов делал всё, чтобы от Рачковского избавиться. Так что нахождение Рачковского рядом с Горемыкиным только увеличивало угрозы жизни [В. Хазан «Пинхас Рутенберг» М.: Мосты культуры, 2008, Т.1, с.138-139].
Обстоятельства своего назначения Столыпин описал в письме к жене 26 апреля. К 18 ч. он выехал в Царское Село экстренным поездом вместо с И.Л. Горемыкиным. Царь принял сначала главу правительства, а потом позвал Столыпина. В первой же беседе выявилось глубочайшее расхождение между взглядами Царя и Горемыкина с одной стороны, Столыпина с другой: Столыпин считал нужным поставить лидера Г. Думы над Советом Министров и ожидал, что не выстоит против Думы. Мало того, Столыпин был обозлён изданием Основных Законов не через Думу – о чём он вряд ли решился сказать Государю, но жене об этом приписал в конце письма. Т.е. более всего Столыпин боялся скандалов в Г. Думе и полагал, что едва ли высидит министром 3-4 месяца [П.А. Столыпин «Нам нужна великая Россия» М.: АСТ, 2013, с.389-390].
Запуганный Столыпин тогда же озвучил Царю свою программу и после уточняющих вопросов получил её одобрение. При таком раскладе ясно, что ключевую роль в новом составе правительства играл уверенный и непреклонный его глава Горемыкин, а не кто-либо иной. Уж точно не Столыпин. По воспоминаниям Коковцова, из всех министров при И.Л. Горемыкине именно Столыпин в наибольшей мере готов был пойти навстречу Г. Думе.
29 апреля в газетах даже появлялось сообщение, будто Столыпин, представляясь чинам МВД, сообщил им что считает решение вопроса об амнистии неминуемым, как того хочет Г. Дума. Этого не случилось, т.к. желания депутатов совершенно расходились с намерениями Императора Николая II и И.Л. Горемыкина, с их представлениями о правосудии, справедливости и политической актуальности. Будучи против Г. Думы, И.Г. Щегловитов ссылался на опыт амнистии 21 октября 1905 г., которая только разожгла революционный пыл, а не погасила его.
Попавший в состав кабинета Горемыкина А.П. Извольский, по дневнику А.А. Бобринского за 20 сентября 1910 г., долго числился среди правых, но в 1905 г. внезапно вильнул налево к к.-д. и остался в их лагере. Насколько знал А.А. Киреев, основную поддержку А.П. Извольскому предоставляла Императрица Мария Фёдоровна. Завершивший эпоху Ламздорфа и свернувший его наследство камергер Извольский, до назначения министром иностранных дел состоял послом в Дании, откуда вернулся 27 апреля 1906 г. «Новое Время» до приезда Извольского сообщало, что кандидат на МИД пока не дал согласия на предложение Горемыкина.
Извольский на 1906 г. считался критиком дальневосточной имперской политики, искусно скрывающим своё честолюбие. В нём видели сторонника славянофильства. По воспоминаниям Н.Н. Шебеко, имя остроумного и талантливого, но излишне тщеславного Извольского в течении нескольких лет выдвигалось всякий раз, когда главенство МИД оказывалось вакантным.
В отличие от будущего СССР, Российская Империя всегда находилась в политических союзах с теми или иными европейскими державами. Извольский заключит союз с Англией, которая продвинется дальше в Афганистане и Персии, а Извольский ограничит свою активность в Азии [У. Энгдаль «Столетие войны. Англо-американская нефтяная политика и Новый мировой порядок» М.: Селадо, 2014, с.51]. С другой стороны, как писал Николаю II в 1909 г. специалист по международным делам Ф.Ф. Мартенс, характеризуя длительные фазы отношений с Германией, князь Бисмарк ещё до Берлинского конгресса 1878 г. стремился к вытеснению России с Ближнего Востока и особенно из Турции [С.Л. Чернов «Россия на завершающем этапе восточного кризиса» М.: МГУ, 1984, с.117].
Вредные выдумки о принадлежности Извольского к масонству можно сразу отмести, как и нахождение его в зависимости от каких-то тайных международных сил из-за безденежья и долгов. Ю.Я. Соловьёв, сочиняя в 1920-х в СССР, сочетал уверенность в связи министра с такими международными силами, при полном неведении, какие бы это могли быть остающиеся ему неизвестными силы. Желание подыграть советским оккупантам в Москве побудило его пуститься в совершенно невероятные обвинения в адрес Извольского, будто бы руководившего всей русской внешней политикой уже после замены на Сазонова, в Париже перед войной, которую Извольский и вызвал [Ю.Я. Соловьёв «Воспоминания дипломата. 1893-1922» Минск: Харвест, 2003, с.366].
Вымыслы о вредном для России англофильстве Извольского и приближении им войны с Германией опровергаются всеми фактическими данными. Освальд Шпенглер напрасно считал, будто Извольский стремился к изоляции Германии посредством войны.
10 июня 1906 г. Николай II выразил Кайзеру извинения, что назначил Извольского министром, а не послом в Берлин. Что означает весьма благоприятное отношение Извольского к Германии. 1 (14) июня в письме с выпадами против англичан Вильгельм II отвечал: «как я и ожидал, твой выбор пал на Извольского, который, я уверен, тебя удовлетворит. Как человек очень умный, он легко сможет, сообразно твоему желанию, направить ход иностранной политики по пути мира» [«Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894-1914» М.: ГПИБ, 2007, с.412].
Немецкие политики и дипломаты считали Извольского дружественно настроенным к Германии и разделяли его взгляды на гаагскую идею разоружения. А в переписке французских политиков встречается такое, от 24 ноября 1906 г.: «несмотря на все свои заявления и любезности, г-н Извольский выказывает прогерманские тенденции» [Г. Хальгартен «Империализм до 1914 года. Социологическое исследование германской внешней политики» М.: ИЛ, 1961, с.419]. В начале 1907 г. английский посол Николсон докладывал в Лондон, что Извольский «не сделает ни одного шага, который был бы плохо воспринят в Берлине». Само сближение с англичанами Извольский весной 1906 г. объяснял наличием одобрения от Германии [И.Т. Тышецкий «Последний виг, или Английские хроники сэра Эдуарда Грея» М.: Международные отношения, 2017, с.190-191].
Серьёзные угрозы министр А.П. Извольский предъявлял английским политикам, требуя у них открытия Проливов для русских военных кораблей. Извольский называл недопустимым изменение соотношения сил на Чёрном море и при невозможности перебросить суда Балтийского флота обещал начать строить Флот прямо на Юге [А.С. Силин «Экспансия германского империализма на Ближнем Востоке (1908-1914)» М.: Наука, 1976, с.126].
Красочное сравнение И.Л. Горемыкина с шубой историки и мемуаристы часто использовали в презрительном ключе, превратно его толкуя. «Привезли Горемыкина, который сам себя характеризовал словами: «Я старая шуба. Правительство – надевает её в холодные дни реакции» [Марк Г-ъ «Больше правды, чем фантазии. Записки буржуя» Париж, 1919, с.27]. Авторство «Записок буржуя» пока ещё не установлено [М. Шруба «Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе» М.: НЛО, 2018, с.810].
Однако по воспоминаниям А.П. Извольского видно, что в действительности сравнение указывало на удобство шубы и то что она позволяет защитить носителя от дурной революционной погоды. Это более точный положительный смысл.
В воспоминаниях Александр Извольский высказывает парадоксальное мнение, что Горемыкин возглавил правительство, поскольку Императрица Александра любила его и знала по совместному участию в благотворительных обществах. Это показывает насколько Извольский был далёк от Императора Николая II, его ближайшего окружения и от знания внутренней политики в целом. Однако «упрямство» Горемыкина и «ультрамонархические чувства» он отмечает верно [А.П. Извольский «Воспоминания» Минск: Харвест, 2003, с.69-70].
Л.А. Тихомиров в дневнике звал министров Стишинского и Ширинского-Шахматова наряду с Горемыкиным, приятелями Грингмута, т.е. одинаково крайне правыми. Грингмут держался излишне прямолинейных и тактически устаревших взглядов М.Н. Каткова, отставая от задач реальной политики, и нередко критически оценивал петербургское правительство. Но верность принципам Православного Самодержавия объединяла его с Горемыкиным.
28 апреля 1906 г. В.А. Грингмут в письме И.Л. Горемыкину снова поблагодарил Царя за милость к «Московским Ведомостям» и выразил желание встретиться с председателем Совета Министров для изъявления «сочувствия Вашей гражданской доблести, побудившей Вас вторично взять на себя тяжёлое бремя государственного управления при несравненно более тяжких обстоятельствах чем те что были 10 лет тому назад. Да пошлёт Вам Господь необходимые силы для достойного и плодотворного исполнения Вашего долга перед Царём и Родиной».
А.С. Стишинский, приняв управление землеустройства и земледелия, точно указал что наиболее эффективный способ повышения благосостояния крестьян это рост производительности использования земли: «меня ободряет убеждение, что во взглядах моих на этот предмет я нахожусь в полном единомыслии с председателем Совета Министров Иваном Логгиновичем Горемыкиным и что начинания наши по этой части встретят авторитетную поддержку с его стороны».
Их взгляды разделял и состоявший в правой группе Г. Совета правовед Шванебах, приглашённый Горемыкиным возглавить государственный контроль, что весьма кстати подходило его прошлой работе в министерствах финансов и земледелия. Исследователь экономической и фискальной политики Пётр Шванебах был сторонником дальнейшего сложения прямого налогообложения с крестьянства и со знанием дела разъяснял, как последовательность законодательной работы всех лет Царствования Николая II подводит к стоящей на очереди отмене круговой поруки [П.Х. Шванебах «Наше податное дело» СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1903, с.138].
Газета «Речь», игнорируя реальную служебную карьеру и значительные исследовательские труды П.Х. Шванебаха, 22 апреля 1906 г. прямо врала, будто он «только тем и известен», что вознаграждениями за управление имениями высокопоставленных особ. Либералы даже не старались придавать своей лжи хотя бы минимальную видимость правдоподобия.
Современные историки часто ссылаются на произведения Шванебаха и подтверждают его умозаключения о денежной политике [Е.Ф. Канкрин «Мировое богатство и национальная политика» М.: Дело, 2018, с.36].
«Н. Время» записывало Шванебаха в противники Витте.
И.И. Толстой к числу черносотенцев для полного комплекта относил ещё Кривошеина с Коковцовым, имевших близкие отношения с Горемыкиным. В.Н. Коковцов после вышеприведённого отказа 25 апреля всё же получил официальное назначение в министерство финансов. На его кандидатуре настоял Горемыкин.
А.А. Мосолов писал, будто И.И. Толстой получал предложение перейти в новый кабинет после Витте, но отказался, считая свой умеренный либерализм несовместимым с И.Л. Горемыкиным. Это представляется сомнительным ввиду желания Царя устранить прежний состав министров Витте.
Новый министр народного просвещения, гофмейстер Пётр Михайлович фон Кауфман (р. 7 июня 1857 г.), выпускник Императорского Александровского Лицея, с мая 1877 г. состоял на службе в канцелярии Комитета Министров, проводил сенаторские ревизии Киевской и Черниговской губерний, состоял помощником статс-секретаря Г. Совета. Управлял делами канцелярии по благотворительным учреждениям Императрицы Марии. Автор книги «Красный Крест в тылу Армии в Японскую кампанию 1904-1905 годов», 1909, Т.1-2. Император Николай II принял его у себя 22 апреля с Д.Ф. Треповым.
Сенатор Кауфман в первой речи к чинам министерства сказал о необходимости оправдать доверие Его Величества и вернуть русскую школу к правильному распорядку через содействие родителей и учащихся, «в дружной единении с Советом Министров». «Россия и её Государь более чем когда-либо, нуждаются в слугах с твёрдыми, положительными знаниями и ясным, на знании основанным сознанием своего долга» [«Кавказ» (Тифлис), 1906, 7 мая, №105]. Авторитетный правый публицист далее поставит в заслугу министру П.М. Кауфману восстановление работы университетов, возобновление порядка учебных занятий, полезное собрание совещаний руководителей университетов [О.А. Фомичева «А.С. Будилович. Деятельность в национальных регионах пореформенной Российской империи» СПб.: Алетейя, 2014, с.166].
Своим заместителем Кауфман оставит О.П. Герасимова, которого С.Ю. Витте в мемуарах ошибочно звал назначенным по предложению князя В.П. Мещерского. Правый П.М. Кауфман очевидно старался сохранить О.П. Герасимова из профессиональных, а не идеологических соображений [«Учёный в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914-1931» М.: РОССПЭН, 2015, с.415]. При разборе конфликта в Новороссийском университете П.М. Кауфман 6 июля 1906 г. окажет прямую поддержку преподавателям-монархистам, подвергавшимся травле за их убеждения [«Дело А.Г. Тимофеева» Одесса, 1908, с.86].
«Н. Время» при назначении считало Кауфмана «скорее консервативных убеждений», указывая насколько новые министры в совокупности правее тех что были при Витте.
Министром путей сообщений стал 60-летний генерал-майор Н.К. Шаффгаузен-Шенберг-Эк-Шауфус, выпускник Николаевской инженерной академии. За многие годы управлял различными линиями железных дорог Империи. Проявил неординарные административные способности. Не допустил забастовку на линии Николаевской дороги Москва-Петербург. Последний год возглавлял управление железных дорог министерства. Имел репутацию самого яростного врага революционеров.
Личность Шауфуса блестяще характеризует рассказ представителя партии октябристов, который в день назначения Шауфуса вздумал поздравить его, назвав первым конституционным министром. «Приветствие не пришлось по душе Шауфусу, он даже привскочил на своём кресле от неожиданности такого обращения к нему и резко ответил мне, что он верный слуга своего монарха» [П.Н. Перцов «Воспоминания» М.: Кучково поле, 2017, с.311].
Мария Набокова, вдова умершего в марте 1904 г. бывшего министра юстиции, 6 мая 1906 г. обратилась к И.Л. Горемыкину с просьбой: «Добрейший Иван Логгинович, по старой дружбе» «скажите два слова Шауфусу, чтобы» «выслушал, только это и нужно». «Я не знала много Шауфуса» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1014 Л.8-9].
Князь Алексей Александрович Ширинский-Шихматов, 1862 г.р., в прошлом был прокурором московской синодальной конторы и Тверским губернатором, поддерживаемым министром Плеве. Организовывал торжественное открытие мощей преподобного Серафима Саровского. По переписке К.П. Победоносцева можно увидеть, что он был влиятельной и авторитетной фигурой в церковных делах. Занял место Саблера, заместителя обер-прокурора (в ту пору чрезмерно активно выступавшего за восстановление патриаршества) в мае 1905 г. и ушёл в отставку вместе с Победоносцевым из-за Манифеста 17 октября, который Ширинский-Шихматов «считает позорнейшим актом для России». При Витте многим казалось, что с такими взглядами невозможно надеяться на возвращение в правительство, но Император Николай II и И.Л. Горемыкин именно его назначили обер-прокурором Синода [Митрополит Арсений (Стадницкий) «Дневник 1903-1905» М.: ПСТГУ, 2015, Т.3, с.173].
Автор выдающейся биографии русского историка и богослова находит в противостоянии К.П. Победоносцева и С.Ю. Витте «не соответствующим исторической действительности» «причисление С.Ю. Витте к защитникам интересов Православной Церкви». «В марте 1905 г. К.П. Победоносцев боролся не столько против церковной реформы, сколько против методов её проведения, когда всё сосредоточилось на личной борьбе с обер-прокурором, а восстановление патриаршества представляло возможную угрозу для сложившихся отношений Церкви и Самодержавия. В ситуации, когда церковные реформы в целом связывались с ограничением Самодержавия, с перспективой внеконфессионального государства и конституции, Победоносцев выступал против связки: церковная реформа — патриаршество — конституция — светское государство» [Т.А. Богданова «Н.Н. Глубоковский. Судьба христианского учёного» СПб.: Альянс-Архео, 2010, с.340-341]. А.Л. Погодин, сторонник конституции, писал 8 апреля 1905 г. А.И. Соболевскому: «Витте задумал патриаршество». «Мне кажется, что Витте хотел привлечь на свою сторону духовенство и внести в него раздор. Вообще, всё ужасно смутно» [СПФ АРАН Ф.176 Оп.2 Д.351 Л.172об.].
Князь А. Шихматов писал 27 апреля 1905 г. М.С. Тюлину: «весьма интересуюсь возникающим у вас в Москве обществом противодействия либералам и от всей души готов присоединиться ко всем подобным единениям, союзам и обществам» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1979 Л.88].
По сообщению «Нового Времени», предварительно от Синода отказался А.Д. Самарин. Это похоже на правду, поскольку аналогичные сообщения газеты о кандидатурах, как правило, подтверждаются, например, о временных отказах Коковцова или Столыпина. Да и в 1915 г. Самарин снова будет кандидатурой Горемыкина, хотя и куда менее удачной чем А.А. Ширинский-Шихматов, назначение которого к.-д. назвали политическим воскрешением К.П. Победоносцева.
22 апреля к 22 ч. вечер виттевский обер-прокурор А.Д. Оболенский приезжал к Горемыкину по его приглашению. Преемник точно объявлен ещё не был, но уже считалось что это будет Ширинский-Шихматов. Окончательно Оболенский простился с Синодом 26-го. Новый обер-прокурор объяснял своё назначение желанием Царя [Митрополит Арсений (Стадницкий) «Дневник. 1906» М.: ПСТГУ, 2019, Т.4, с.82-85, 90].
Единомышленник И.Л. Горемыкина, А.А. Ширинский-Шихматов будет возглавлять монархическое движение и в Зарубежной России. Митрополит Евлогий в сентябре 1926 г. о нём напишет: «кн. Ширинский-Шихматов – ведь это самая яркая и самая крайняя фигура в лагере крайних правых» [«Вестник РХД», 1997, №175, с.127].
Логичным поэтому выглядит похвала общему составу правительства И.Л. Горемыкина в письме генерала В.А. Сухомлинова 4 мая: «министерство сформировалось по-видимому недурное» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1980 Л.37].
Благодаря сильному составу имелась, как вскоре выяснится, у правительства и желаемая Сухомлиновым твёрдая рука при государственном уме. В суждениях со стороны, из Германии, у М. Вебера имеются на этот счёт фрагментарно верные замечания о лже-конституционализме, т.е. принципиальном отказе Монархии подчиниться парламенту. Основной политической силой в Империи оставалась «безграничная самоуверенность царя» [Ю. Каубе «Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох» М.: Дело, 2016, с.430-431].
Некоторые трудности испытал Горемыкин при выборе министра торговли и промышленности. Предложение остаться управляющему министерства при Витте М.М. Фёдорову из партии мирного обновления было отклонено и оставалось вакантным до 27 июля 1906 г. [Л.Е. Шепелев «Царизм и буржуазия в 1904 – 1914 гг.» М.: Наука, 1987, с.39].
«Н. Время» 22 апреля считало решённым, что С.В. Рухлов получил это министерство, но 25 апреля появилось уточнение о его отказе.
Можно встретить утверждения, будто в апреле 1906 г. И.Л. Горемыкин предлагал А.В. Кривошеину пост главноуправляющего Землеустройством и Земледелием, но тот отказался, испугавшись слишком левой Г. Думы, подобно Коковцову. 9 мая Кривошеина ввели в Г. Совет, он оставался заместителем главноуправляющего ГУЗиЗ. Об отказе Кривошеина написал в мемуарах только Владимир Гурко, чьё свидетельство не видится вполне надёжным, хотя и вероятным. Витте этого не подтверждает.
Кандидатура А.С. Стишинского могла являться с самого начала основной. В воспоминаниях В.Н. Коковцова говорится, что Император Николай II 21 апреля уже назвал решённым назначение А.С. Стишинского, а 22-го оно попало в прессу. Теоретически отказ Кривошеина мог произойти в зазор 17-20 апреля. Плохо информированная «Речь» 23 апреля считала что Кривошеин всё ещё претендует на должность, но Стишинский имеет шансов поболее.
Кривошеина в феврале 1906 г. сам Император Николай II уже выдвигал в состав правительства, но Витте опасался что это будет означать усиление влияния Горемыкина и постарался этого не допустить [С.В. Куликов «Сергей Юльевич Витте» СПб.: Росток, 2022, с.295].
Несомненный интерес представляет сохранившееся у И.Л. Горемыкина письмо А.С. Стишинского от 24 апреля 1906 г.: «Глубоко уважаемый Иван Логгинович. Простите что беспокою Вас настоящим письмом, но вопрос, на который я хочу обратить Ваше внимание, его заслуживает. Вчерашняя заметка «Нового Времени» о пререканиях по поводу моего вступления в состав Министерства произвела крайне неблагоприятное впечатление». «Поэтому не признаете ли возможным приказать напечатать в той же газете опровержение следующего содержания: “помещённое в №10814 Нового Времени сведение о разногласиях относительно личного состава Совета Министров между лицами, приглашёнными принять в нём участие, лишено оснований”. Преданный Вам, А. Стишинский» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1231 Л.10].
В свою очередь, воспоминания В.Н. Коковцова не сообщают, будто хоть кто-то из новых министров был против Стишинского, которого Коковцов зовёт наиболее близким к И.Л. Горемыкину. По воспоминаниям В.Ф. Романова «Старорежимный чиновник», В.К. Плеве так высоко ценил юридические познания А.С. Стишинского, что говорил: «если бы А.С. жил в Риме ему бы там за тонкий юридический стиль поставили памятник». Стишинский был заместителем Плеве, сперва госсекретаря, потом в МВД.
Как выясняется, против Стишинского, слишком плохо зная его нынешние позиции, высказался только М.М. Фёдоров, который подал прошение об отставке. Он относился к старым виттевским министрам, следовательно, нет оснований говорить о разногласиях среди участников нового состава. М.М. Фёдоров в недатированном письме И.Л. Горемыкину объяснил: «я диаметрально расхожусь с тем членом кабинета, которому поручены землеустройство и земледелие, ибо я, например, убеждён, что отживший институт общинного землепользования, за который всегда стоял А.С. Стишинский, есть одна из главных причин теперешних смут и неустройства». «Я убеждён, что надо всё сделать, чтобы Думу сохранить во что бы то ни стало, умиротворить и направить на путь производительной работы» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1436 Л.57].
Сомнительные обвинения общины носят характер политической мифологии, поскольку даже самые либеральные исследователи находят важным признать, что общине «удалось приспособиться к требованиям индустриализации», она исполняла все необходимые торговые функции, финансировала закупки с/х оборудования, не мешала «значительному повышению заработной платы» и росту выпуска с/х продукции, поэтому утверждения об общине как источнике отсталости оказываются спорными [К. Леонард «Аграрные реформы в России» М.: Дело, 2019, с.293].
После увольнения министра юстиции Акимова эту должность при И.Л. Горемыкине принял его заместитель правовед Иван Щегловитов, ставший ценным сотрудником Императора Николая II на грядущее десятилетие. Новый министр показал себя знатоком права и защитником монархического принципа. В своих работах от отстаивал принцип законности, состязательности и открытости суда, вместе с принципами русского национализма. Он отлично понимал, как политическая эффективность зависит от понимания обстоятельств и закономерностей развития России [И.Г. Щегловитов «Влияние иностранных законодательств на составление Судебных Уставов 20 ноября 1864 г.» М.: Т-во И.Д. Сытина, 1915, с.36].
На момент согласования кандидатур в газетах сообщалось о предложении министерства юстиции другому заместителю министра, А.А. Хвостову, однако он попадёт на эту позицию значительно позже. Именно А.А. Хвостов передал Щегловитову сообщение о его назначении и пригласил его на встречу с И.Л. Горемыкиным.
18 апреля А.А. Хвостов писал: «Дорогой Иван Логгинович. Спешу сообщить, что поручение Ваше я исполнил и Ив. Григ. Щегловитов будет у Вас сегодня в 5 ½ ч.». «Храни Вас Бог на новой исключительно трудной служебн. задаче» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1351 Л.7].
При Щегловитове оставались начальник Главного тюремного управления Максимовский, управляющий межевой частью на правах заместителя Чаплин. В октябре 1907 г. остававшийся на той же должности А.М. Максимовский будет убит террористкой из эсеров.
Уходящий М.Г. Акимов на прощание назвал Щегловитова молодым, талантливым и честным.
И.Л. Горемыкин составил правительство «из людей работящих, способных и честных, но, как и он сам, неспособных работать» с революционерами из Г. Думы [Э.П. Беннигсен «Записки (1875-1917)» М.: Изд. им. Сабашниковых, 2018, с.316].
Правые монархисты приветствовали полную смену министров Витте, утверждая что «честный и прямой Ив. Логг. Горемыкин без всяких обиняков высказывает им своё недоверие». С удовлетворением отмечали, что генерал Шауфус не либерален [П.Ф. Булацель «Борьба за правду» М.: Институт русской цивилизации, 2010, с.86, 113].
Утром 27 апреля пустынные улицы Петербурга наполнили экипажи, направляющиеся к Зимнему дворцу. К 12 ч. Георгиевский тронный зал наполнился высшими чинами и генералитетом. Затем появились министры, сенаторы, члены Г. Совета, после них – члены Г. Думы. Они расположились с сенаторами слева от трона напротив министров и членов Г. Совета. Затем появилось духовенство и дипломатический корпус. Императорское знамя, печать, меч, державу и скипетр внесли статс-секретари и генерал-адъютанты.
Открывая приём, первыми прошли скороходы в необыкновенных головных уборах, за ними шли церемониймейстеры и гофмаршалы с жезлами, золочёные мундиры придворных и кавалеров.
В.Н. Коковцов вспоминал, что тогда же в Зимнем дворце И.Л. Горемыкин объяснил ему, почему отклонил кандидатуру И.П. Шипова: «ему не справиться с этой новой ролью» (противостояния Г. Думе) и «нельзя отступать от принятого решения – не оставлять никакого из прежнего состава». Новые министры хорошо понимали, что все они призваны для ожидаемой схватки с Г. Думой [В.Н. Коковцов «Из моего прошлого (1903-1919)» Минск: Харвест, 2004, с.152-153].
В Концертном зале Зимнего дворца в день открытия Г. Думы. И.Л. Горемыкин находился в центре внимания. Граф Д.А. Олсуфьев, избранный в Г. Совет от саратовского земства и примкнувший тогда к правой группе, вспоминал через четверть века, что 27 апреля выглядящего сконфуженно С.Ю. Витте сторонились, не обращаясь к нему с приветствиями. «Окружён некоторым вниманием невысокий плотный господин с длинными седыми баками. Это премьер Горемыкин. В эти, казалось бы, особенно тревожные для него дни он приятно удивляет спокойствием и уравновешенностью. Старый работник бюрократии, знавший нашу правительственную машину до тонкости, видавший всякие виды на долгом веку, он философически спокоен, когда другие тревожны» [«Возрождение» (Париж), 1931, 10 мая, с.3].
Встретившись со знакомым представителем левых партий, граф Олсуфьев просил: «пожалейте Россию и Государя». Сельский учитель обещал ему не бесчинствовать, но «в первой Думе эту роль на себя приняли несравненно высшие, чем он, по культуре, другие “лучшие люди” России». А именно интеллигентские верхи партии к.-д., представлявшие не русскую монархическую, а западную демократическую “культуру”.
По воспоминанию сотрудника канцелярии МВД Д.Н. Любимова, Горемыкин «имел вид чрезвычайно бодрый» и довольный своим положением. «Как все знали», мысль открыть Г. Думу «во всём блеске придворной помпы» принадлежала именно Горемыкину. Д.Н. Любимов слышал отрывок разговора Горемыкина с окружающими: «это произведёт громадное впечатление на членов думы, где много крестьян, особенно когда перед государем понесут императорские регалии, осыпанные драгоценными камнями. Мне сейчас говорили, как один мужичок, из членов думы, в первый раз в жизни войдя в дворец, охнул, перекрестился и воскликнул: и на этакое-то величие посягать!.. Не правда ли, как это характерно!» [Д.Н. Любимов «Русское смутное время 1902-1906» М.: Кучково поле, 2018, с.288-289].
Эту историю можно встретить и в книге его сына, Л.Д. Любимова, предательски перешедшего на сторону СССР. Дмитрий Любимов известен как почитатель памяти В.К. Плеве, выпустивший книгу в его честь. Эти воспоминания заслуживают доверия, но надо обратить внимание, что запись слов Горемыкина воспроизведена через 20-30 лет и это только часть того о чём он рассуждал, случайно услышанная мемуаристом. Одним этим примером суждения и ожидания Горемыкина не исчерпываются.
Но в газетной версии мемуаров Д.Н. Любимова, опубликованной 31 августа 1935 г., фраза «разве мыслимо посягать» пересказывалась «тут же на выходе», а не самим Горемыкиным. И приглашение депутатов в Зимний дворец, «как говорили», решено по настоянию Горемыкина. А это не то же, что знали, теряется определённость.
Газетный корреспондент, будучи апологетом Г. Думы, признал что дворцовый царский церемониал сумел произвести впечатление на приезжих: «Депутаты проходили с обнажёнными головами. Я никогда не забуду одного момента. Крестьянин-депутат коренастый, сильный, с большой чёрной бородой, вдруг обратился к своему спутнику, тоже депутату, и закричал: «Прохор Степаныч, видел ты такое?!» — Он не договорил, но лицо его сияло такой радостью, какой мне никогда не приходилось встречать на лицах пожилых крестьян. Да, это был день высокого, могучего подъёма» [С. Варшавский «Жизнь и труды первой Государственной Думы» СПб.: Изд. И.Д. Сытина, 1907, с.9].
По данным на Первую мировую войну, Горемыкин симпатизировал Д.Н. Любимову, помощнику Варшавского генерал-губернатора, и готов был ввести его в Совет Министров. Но черносотенная пресса, та самая что звала князя П.Д. Святополк-Мирского предателем и изменником, не жаловала Любимова в качестве Виленского губернатора: «жиды при г. Любимове подняли голову. Еврейский революционный бунд чувствует себя как дома» [«Сычевская газета», 1907, №1, с.4]. Однако спустя тридцать лет клеветники из Международной лиги борьбы с антисемитизмом писали, будто бывший «Виленский губернатор – погромщик». Пришлось вмешаться другому еврейскому идеологу Г.Б. Слиосбергу, признавшему, что Д.Н. Любимов «чрезвычайно» благосклонно относился к евреям, за что при отставке еврейское население ему «выразило свою благодарность» [«Посрамлённые клеветники» // «Возрождение» (Париж), 1936, 14 февраля, с.2].
Идея, довольно справедливо одобренная Горемыкиным, произвела положительное впечатление не на всех депутатов Г. Думы, но свою роль сыграла. Одобрение Горемыкина не исключает оснований считать его не единственным инициатором мероприятия. По дневнику А.А. Половцова, Государь поручил графу Палену разработать церемониал открытия Г. Думы и именно Пален мог подсказать, что по имеющимся традициям открытию должен предшествовать приём депутатов во дворце. В сочинении церемониала открытия Г. Думы, по другому дневнику, участвовала Царица Александра. «Речь» 22 апреля утверждала, будто церемониал открытия Г. Думы разрабатывали Д.Ф. Трепов и П.Н. Дурново.
После молебна Государь произнёс речь с пожеланиями, которым не суждено было сбыться. «Государь говорил серьёзно, повелительно, строго. Каждое слово запечатлевалось у меня в сердце». «На многих глазах я видел слёзы». После речи Николай II сходил с трона уже не со строгим и величественным лицом, а с «просиявшим и милостивым» [«Дневник князя императорской крови Олега Константиновича. 1900-1914» М.: Буки Веди, 2016, с.125].
Депутаты Г. Думы не оказались лучшими людьми. Они не пожелают вести трудную и сложную работу и не сплотятся из желания послужить Отечеству. «Вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение», – желал Император. Но депутаты не заботились о духовном величии и благоденствии и не добивались нравственного обновления облика России, завещанного им Царём.
Князь Олег Константинович записал, что у дворца кричали ура партии к.-д. и В.Д. Набокову, а не Монарху, что служило неблагоприятным признаком: «портят настроение народа».
А.А. Половцов записал за И.Л. Горемыкиным сведения, что Николай II сам написал тронную речь для Г. Думы, пользуясь несколькими проектами. Один из вариантов было предложено написать Л.А. Тихомирову. Д.Н. Любимов слышал, будто Император прочитал проект речи, составленный в бюро партии к.-д., с поправками И.Л. Горемыкина, исключившего упоминание об амнистии. Чем к.-д. оказались возмущены. Газета «Слово» придерживалось версии, что Император отверг все проекты и лично написал текст речи.
Газета «Наша Жизнь» напечатала явный вымысел о намерении Горемыкина уйти в отставку из-за устранения его от составления тронной речи. Столь же недостоверны и её сообщения о недовольстве Горемыкиным публикацией Основных Законов без его ведома и вопреки мнению, выраженному на царскосельских совещаниях.
По утверждению О. Вильчковского, после Тронной речи перевозимые из Зимнего дворца на казённом пароходе депутаты достали и продемонстрировали красный флаг. К.-д. в дни 1-й Думы для отличия пытались использовать также свой партийный зелёный флаг [«Двуглавый Орёл» (Париж), 1926, №2, с.14-15].
К 16 ч. депутаты и министры стали прибывать к Таврическому дворцу. Министры заняли правую от председателя Г. Думы ложу. Левую – члены Г. Совета. Митрополит после молебна также выразил депутатам пожелание работать ради блага страны, а не партийных интересов.
Присутствуя в правительственной ложе, И.Л. Горемыкин не пожелал выступать с речами перед депутатами. Для этого существовали чиновники ниже рангом.
В 17 ч. государственный секретарь барон Ю.А. Икскуль фон Гильдебрандт прочитал Высочайший указ 24 апреля о порядке открытия Г. Думы. Затем статс-секретарь Э.В. Фриш исполнил поручение Государя произнести приветственную речь, в которой говорилось о высокой чести такого открытия. В его речи было упование на Господа, на дарованное Им воодушевление любовью к русскому народу, «дабы Вы поняли сердцем Вашим все многообразные нужды обширной нашей родины». То, что депутаты будут обладать такой мудростью, конечно, являлось делом самым невероятным, потому оставалось уповать только на Всевышнего. Затем депутаты дали присягу, расписываясь в альбоме с текстом с торжественным обещанием, которое увы, также будет постоянно нарушаться депутатами.
Во время речей депутатов, согласно записи Д.Н. Любимова, Иван Горемыкин невозмутимо улыбался и разглаживал бакенбарды.
Состоявший при министре Двора мемуарист утверждает, что когда граф Фредерикс в тот день был возле Горемыкина, то говорил, что депутаты похожи на преступников: «Какие скверные физиономии! Ноги моей больше не будет в Думе. — Нужно думать, что и Горемыкин чувствовал то же, что и граф» [А.А. Мосолов «При дворе последнего Российского императора» М.: Мир книги, 2008, с.128].
В 14 ч. 28 апреля открылось заседание Г. Совета в зале петербургского дворянского собрания. Государственный секретарь прочёл высочайший указ о назначении председателем Г. Совета графа Д.М. Сольского, а вице-председателем Э.В. Фриша.
Одним из самых часто повторяемых обвинений против Горемыкина была клевета о равнодушии, бездеятельности, лени, игнорировании дел. Все эти характеристики выдумывали считающие делом речи депутаты Г. Думы, наблюдая за ним в Таврическом дворце. Историки повторяли эту муру, не разбираясь и не вдумываясь.
Злобный социалист В.А. Оболенский, один из тех кто задавал стандарты лживой демократической проповеди, признаёт в воспоминаниях повальную среди депутатов болезнь многословия. Стоит ли удивляться, что посещавший Г. Думу И.Л. Горемыкин предпочитал с пользой тратить драгоценное время на здоровый сон: «лишь только садился в своё кресло, голова его опускалась, бакендарды ложились на лацканы сюртука, и он крепко засыпал, просыпаясь лишь от поднимавшегося порой шума. Тогда он медленно поднимал голову, обводил сонными глазами депутатские скамьи и снова засыпал».
Ничего иного социалистический сброд и не заслуживал. Однако мемуары Оболенского склонны к преувеличенно критическим обобщениям в угоду партийным догмам, и не отличаются доверительной точностью. Можно допустить, что Горемыкин иногда изображал сон, но зная о его регулярном переутомлении, скорее министр с пользой проводил время, т.е. спал по-настоящему, хотя и не так часто, как это изображают. Но возомнившие о себе абы что депутаты оскорбились и мстили за явное пренебрежение к себе. У Столыпина они усмотрели надменно-вызывающее выражение глаз.
Если брать критику министров, нет никакой разницы между Горемыкиным и Столыпиным по озлобленности домыслов. О них писали практически в одинаковых выражениях. 20 февраля 1907 г. жена депутата 2-й Г. Думы в Таврическом дворце впервые видит Столыпина и заносит в дневник: «Физиономия не вызывает во мне симпатии, что-то упорно-тупое». А вот наблюдение 10 марта: «Столыпин сидит с скучающим видом и время от времени проводит рукой по лицу. «Как мне всё это надоело!» – кажется, думает он» [«Революция 1905-1907 гг. глазами кадетов (Из дневников Е.Я. Кизеветтер)». // «Российский Архив», 1994, Вып.V, с.373, 389].
Только это и могли вообразить зубоскалы, наблюдая за тем, как министры с огорчением зря теряли в Г. Думе драгоценное время. Журналист Клячко (Львов), сочинитель с дурной репутацией, передавал такие смешные байки о всех министрах. Льва Клячко называли королём репортёров. Он «казался мне вульгарным, всегда сквернословил, всегда рассказывал анекдоты», «часто интервьюировал министров» [К.И. Чуковский «Дневник. 1936-1969» М.: Агентство ФТМ, 2013, Т.13, с.277].
Рассказы Клячко написаны для развлечения, намерение вызвать улыбку в них преобладает над точностью. Откуда вот ему знать, что И.Я. Голубев, заместитель председателя Г. Совета, когда-то претендовавший на должность замминистра юстиции (его обошёл И.Л. Горемыкин) никогда не мечтал о премьерском кресле? Не прибегая к телепатии, единственное, что о нём могли рассказать, будто он кланяется глубже правой части Г. Совета, чем левой.
И.Л. Горемыкин, имевший определённую репутацию в кругах чиновников, был изображаем более комично: за время премьерства он получил титул «Его Высокобезразличие». «Его индифферентность доходила до феноменальности. Если ему сообщали, что в такой-то губернии резня – он спокойно отвечал: – Порежут, да перестанут! Надоест им». На настояния сделать что-то отвечал: «делайте что хотите». «Когда ему как премьеру делали доклады, он их выслушивал с застывшей позе, захватив правой рукой пышную бакенбарду и, не проронив ни слова, подписывал и утверждал».
Произнесение нескольких слов считалось редким явлением, как снег в мае. Прочтение декларации Горемыкин также хотел передать Стишинскому. После декларации в Совете Министров молчал. «Когда он однажды с обычным спокойствием заметил, что добрая половина депутатов первой Думы – висельники, то это было событием. Некоторые министры даже стали вести счисление заседания кабинета с этого события. – Третье заседание после Горемыкинской речи». Первый раз выступил в Г. Совете, «как автомат, произнёс длинную речь, в которой просил дать 55 милл. и не требовать скорого отчёта». Когда Г. Совет провалил эту просьбу, «Коковцов позеленел, Шванебах окаменел, а Стишинский неожиданно получил вид пришибленной курицы, – Горемыкин не изменил своей позы и не выпустил из правой руки бакенбарды» [Л. Львов «Бюрократические силуэты» СПб.: Наша жизнь, 1908, с.10-17].
Бывший министр И.И. Толстой находил Львова-Клячко бестактным и не был расположен его принимать после допускаемых в публикациях искажений. «Нагло-пошлый Клячко», – писала про него в 1911 г. А.В. Тыркова. ВЧК арестует его 4 января 1918 г. вместе с редакцией газеты «День». Больше месяца его держали под стражей, но в следственном деле не появилось никаких оснований ареста. В отличие от злостно истребляемых красными Романовых, священников, генералов, министров, Клячко ничуть не пострадал и пристроился издавать при большевиках новые порции вранья.
«Анекдотов он знал миллионы», – расхваливал Клячко перешедший на сторону большевиков либерал О.Л. д’Ор, вспоминая что министры руками разводили от его материалов [«Огонёк», 1923, №35].
Про А.С. Стишинского Л. Львов писал, что он правее Д.Ф. Трепова, использовал против Г. Думы все непечатные выражения и входил в «придворный кружок» для свержения С.Ю. Витте. Здесь можно подозревать использование газетных сообщений о группе единомышленников: Горемыкин-Стишинский-Игнатьев. Зато крайне сомнительно, будто И.Л. Горемыкина выдвинула вместо Витте и в отместку ему некая «придворная партия», у которой к тому же Горемыкин был «в подозрении», как один «из деятелей эпохи диктатуры сердца», «считался вольнодумцем и либералом». В этом винегрете из нелепых сплетен мало рационального. Л. Львов ошибается, считая, будто Витте выжил Горемыкина из МВД, «обвинив в неблагонадёжности». И.Л. Горемыкин давно и хорошо себя зарекомендовал как самый последовательный правый монархист, преданный Самодержавию. Он никак не мог ассоциироваться с правлением Лорис-Меликова, для этого слишком мало причин. Достаточно посмотреть на переписку К.П. Победоносцева прямо перед решением перевести И.Л. Горемыкина в МВД в феврале 1895 г., где Победоносцев продолжает осуждать всех Лорисовских людей и не одобряет их награждения. Он не стал бы тогда поддерживать выдвижение Горемыкина.
Но фантазёры этого элементарно не знали, додумывая, на основании того что И.Л. Горемыкин считался гордостью бюрократов: «мы вам дали всё, что у нас было». Лучшее – отнюдь не значит либеральное. Горемыкиным всегда гордились самые правые монархисты, начиная ещё с К.П. Победоносцева.
Другой завравшийся журналист кроме именовения бакенбард И.Л. Горемыкина историческими, не сумел сообщить более ничего достоверного, набив мемуары ерундой про либеральничанье Горемыкина, будто бы оказавшегося левее Витте. Ввиду обилия вымыслов и ошибок Колышко, трудно доверять даже такому, чуть более убедительному эпизоду: «Помню сорвавшееся с губ Витте несколько раз: — Горемыкин… Горемыкин… Открывает Государственную думу – Горемыкин» [И.И. Колышко «Великий распад» СПб.: Нестор-История, 2008, с.66, 93, 159].
Возможно, предпочтение Императором Николаем II И.Л. Горемыкина действительно оказалось особенно болезненно для честолюбия Витте.
Выслуживаясь перед либералами, Колышко насочинял для еврейской газеты, будто в 1-ю Г. Думу «влюбилось» всё способное любить, а против депутатов стоял «выживший из ума Горемыкин» и его «серенькое министерство» [Баян «Обломки. Столыпин» // «Время» (Берлин), 1922, 11 сентября, с.1]. В таких же смешных мифотворческих тонах пишут про В.Д. Набокова современные либералы, именующие Горемыкина единственным словом: «непопулярный» [Г. Аросев «Владимир Набоков» М.: Альпина нон-фикшн, 2021, с.81].
Стоит сравнить комические выдумки с достоверным описанием постоянного участника заседаний Совета Министров. Оказывается, И.Л. Горемыкин «был очень спокоен, ровен и вежлив, и при нём заседания Совета министров приобрели совсем иной характер, чем при Витте: они стали спокойным собеседованием членов Совета, причём Горемыкин, однако, сохранил за собою решение вопросов, но это решение он высказывал таким отечески спокойным и вежливым тоном, что этим устранялась всякая обида, столь же спокойно и вежливо он прерывал длинные речи и заседания от этого стали короче. Они происходили в бывшем доме шефа жандармов, на Фонтанке №16, в кабинете, расположенном в первом этаже, и при открытых окнах, когда погода была жаркой». По оценке военного министра, И.Л. Горемыкин оказался несравненно более достойным главой правительства, чем грубый и нервный С.Ю. Витте, и нежели потом П.А. Столыпин, которым овладела мания величия. Редигер сохранил «самые симпатичные воспоминания» о Горемыкине [А.Ф. Редигер «История моей жизни» М.: Кучково поле, 1999, Т.2, с.57-58, 380].
О мании величия Столыпина точно так говорил и П.Х. Шванебах.
Упорядочение дел при И.Л. Горемыкине заметно и по тому, что только при нём начали вести Особые журналы Совета Министров. При Витте не велись ни общие, ни особые журналы.
Пётр Барк, в 1906 г. бывший директором Петербургского отделения Государственного банка, преклонялся перед величием И.Л. Горемыкина и в декабре 1922 г. писал, что «это он спас Россию от первой революции в 1906 г. и благодаря его энергичному вмешательству тогдашнее правительство приняло все необходимые меры для подавления». Витте был слишком неопытен во внутренних делах, а не в финансах, «и потерял голову», «только твёрдая рука И.Л. Горемыкина восстановила порядок» [П.Л. Барк «Воспоминания последнего министра финансов Российской империи» М.: Кучково поле, 2017, Т.2, с.518].
Это отразилось и на бурном русском экономическом развитии, подорвать которое революционерам не удалось. Темпы прироста капитала акционерных компаний в 1906 г. превысили предыдущие показатели [В.П. Литвинов-Фалинский «Наше экономическое положение и задачи будущего» СПб.: Тип. М.Ф. Киршбаума, 1908, с.133].
Для того Горемыкин и был призван Государем на смену Витте. Нужен был тот кто продолжит линию одоления мятежей, какую при Витте довольно решительно вёл полицейскими методами П.Н. Дурново, в расхождении со словесными заигрываниями Витте. В отличие от запутавшегося Витте, Горемыкин – решительный русский политик, способный обеспечить политическое превосходство решительности и профессионализма Императорского правительства над сборищем Г. Думы, не капитулируя перед непомерностью её запросов, не пугаясь её угроз. Витте не мог и не пытался это сделать, сам подав в отставку перед открытием Г. Думы, потерявшись перед новым явлением, как и другие приглашённые в правительство министры, занявшие высокие посты в более спокойное время, когда Горемыкин, напротив, усмирив Г. Думу и революцию, исполнил самое сложное
Император Николай II по-всякому заставлял революционеров идти ему на уступки. Так, ЦК эсеров, присматриваясь к созыву Г. Думы, распорядился временно прекратить террор [С.А. Никонов «Мои воспоминания. 1904-1917» М.: Новый хронограф, 2018, Т.2, с.155].
Честные мемуаристы не давали воли мифологии клеветнических характеристик С.Ю. Витте или либерально-революционной прессы, заменяя её совершенно иным, реалистичным представлением о новом председателе Совета Министров: «когда в нашей печати упоминается о достойном и почтенном И.Л. Горемыкине, к нему часто применяется эпитет “дряхлый”. Это определение может быть применимо к эпохе его вторичного премьерства, а отнюдь не к 1905-6 г.г. В ту пору И.Л. был полон сил физических и нравственных и всемерно содействовал тем из своих сотрудников, которые, не щадя сил, боролись с революцией. Особенно велика заслуга Ивана Логгиновича в том, что он не допустил всеобщей амнистии политических преступников весной 1906 г.; необходимость подобной амнистии, между прочим, защищал при Дворе Д.Ф. Трепов» [Н. Вуич «Воспоминания ген. Герасимова» // «Возрождение» (Париж), 1935, 2 января, с.2].
Меж тем партия к.-д. позорнейшим образом лгала: «человеку 80 лет», «я не знаю что может быть старее эры И.Л. Горемыкина» [«Речь», 1906, 23 апреля, с.3].
В 150-летний юбилей газеты «Московские Ведомости» И.Л. Горемыкин передал приветствие от имени Его Величества.
Дом на Фонтанке для собраний министров Столыпин назвал раззолоченным саргофагом Сипягина, взяв себе дом на Мойке с хорошими детскими комнатами. На Мойке, будучи министром, жил и Горемыкин, Сипягин переехал на Фонтантку из-за близости к своему церковному приходу.
На Фонтанке, писал Столыпин, «внешнее великолепие, а жить негде. Мои отношения с Горемыкиным самые приятные, и он вмешиваться и мешать делу не будет и предупредительно, где может, помогает» [Д.В. Табачник, В.Н. Воронин «Пётр Столыпин. Крёстный путь реформатора» М.: Молодая гвардия, 2012, с.244].
1 мая в 18 ч. Горемыкин был у Государя в Петергофе.
На заседании Г. Думы 2 мая, открывшемся в 15 ч. 15 м. присутствовал весь Совет Министров. И.Л. Горемыкин, однако, вскоре покинул собрание. Рассматривался проект ответа Г. Думы на Тронную речь.
А.П. Извольский в письме от 3 мая объяснил И.Л. Горемыкину, что «вчера я только к шести часам вечера вернулся из Петергофа, где у меня был первый доклад у Государя, и потому не мог быть» в Г. Думе. Извольский также спрашивал Горемыкина, будет ли он сегодня в Г. Совете или Г. Думе, «ибо я хотел бы с Вами увидеться» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.791 Л.2-3].
3 мая 1906 г. Д.И. Шаховской в Г. Думе заявлял: «если министров Думе не подчиним, то мы ничего не сделаем, а страна нам этого не простит. Подчиним министров Думе – только в этом наша задача, в этом главная потребность страны» [А.В. Лубков, И.В. Кузмина «Князь Шаховской» М.: Молодая гвардия, 2008, с.204].
Томский отдел Союза 17 октября отправлял телеграмму с приветствием Императору Николаю II. От имени И.Л. Горемыкина 3 мая поступил ответ, передавший царскую «благодарность за выраженные чувства», молитвы о здравии и благоденствии.
В перлюстрированном письме Л.А. Тихомирову 3 мая А.Д. из Могилёва сообщал: «Государственною Думою все недовольны, кроме, конечно, кадет, из которых она состоит». Крестьяне, не надеясь на Думу, спокойно «продолжают покупать землю», вместо того чтобы ждать её даром или захватывать насильно. «Вообще, многие отрезвились» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1980 Л.31].
То же отрезвление передано в письме, отправленном из бюро печати Таврического дворца: «наша славная Дума производит грустное впечатление, и я уверен, что очень многие из нас тут присутствующих, пожелали бы вернуться к прежним временам».
Князь Г.Г. Гагарин из партии октябристов 3 мая писал: «Наша Дума – чёрт знает что такое!!!». Выбранный от московской губернии Григорий Гагарин приготовил заявление об отказе от своей принадлежности к депутатам Г. Думы, с направлением которой считал нужным «бороться».
Такого важного положительного политического примера не даёт нам более известный однофамилец князя Юрий Гагарин, который в эпоху хрущёвщины выступал как крупнейший на планете пропагандист ленинизма, безбожия и революционной лжи. https://stzverev.ru/archives/886
Когда в Г. Думе М.М. Ковалевский призвал депутатов к ведению вежливых разговоров, на него накричал Петрункевич, а профессор Щепкин из Одессы объявил о единомыслии к.-д. с революционерами даже и «по способу действий», «мы идём на войну с правительством».
«Речь» сочинила, что Горемыкин и Родичев несхожи как северный папоротник и тропическая лиана. Газета Милюкова уверовала в ложь, будто И.Л. Горемыкин и его правительство поддерживают думские требования амнистии, хотя для этого не имелось ни малейших оснований.
И.Л. Горемыкин с разрешения Императора Николая II обратился к группе правых монархистов, сообщая им что учреждение Г. Думы вовсе не означает перемены убеждений Царя, который по-прежнему хотел бы опираться на верноподданных монархистов. Через К.В. Рукавишникова И.Л. Горемыкин постарался узнать, какие политические действия со стороны Царя они сочли бы необходимыми. Собрание монархистов, однако, «не нашло возможным высказаться определённо в виду того, что события зашли так далеко, что не могут быть остановлены единственно с нашей точки зрения возможным ответом». Передавая такую неспособность собрания к постановке политических задач, Клавдий Пасхалов 4 мая написал И.Л. Горемыкину, что считает нужным упразднить Г. Думу и вернуться к неограниченному Самодержавию [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1073 Л.1-2].
Единомышленники К.Н. Пасхалова тем самым не смогли предложить Царю никаких мер, доказывающих политические преимущества Самодержавия сравнительно с действующей Г. Думой. Они продолжали следовать ошибочной конституционалистской логике о том, будто существование Г. Думы должно Царя ограничивать.
4 мая Совет Министров занимался выдачей ссуд пострадавшим от беспорядков в сельской местности Рязанской губернии и обсуждал проект адреса Г. Думы Императору. Насколько помнил Редигер, он, Горемыкин, Стишинский, Бирилев, Фредерикс, Столыпин (всего 9 министров и заместителей) предлагали дождаться их адреса и тогда выпустить свою декларацию, а 7 сановников (Шванебах, Извольский, Гурко, Коковцов) предлагали опередить адрес Думы и прочесть свою декларацию первыми, 5 мая. Государь сам внёс некоторые правки в их проект ответа. Утром 5 мая Горемыкин и Коковцов были у Императора.
Вологодского губернатора А.А. Лодыженского 4 мая принял у себя И.Л. Горемыкин с докладом о произошедшем взрыве недовольства крестьян, как и в октябре 1905 г., из-за первомайского закрытия бастущими рабочими рынков и торговых лавок. Гнев крестьян от получаемого ими экономического урона от забастовки затронул даже губернатора, который был ранен при личной попытке остановить погром.
Правительство приняло положение Шауфуса о производстве горнопромышленных и геологических изыканий по проектируемой линии Семипалатинск-Уральск и несколько других направлении Туркестано-Сибирской железной дороги с общим расходом в 617,5 тыс. руб.
Князь Ширинский-Шихматов удержал в ведении Святейшего Синода церковно-приходские школы, не допустив передачу их в министерство народного просвещения.
Граф Витте выступил в Г. Совете с поддержкой прошения об амнистии, желая искреннего единения верхней палаты с Г. Думой. В очередной раз Витте оказался на стороне врагов Горемыкина. Г. Совет 92 голосами против 47 утвердил проект ходайствования о частичной амнистии. Протест против возможности амнистии отправили И.Л. Горемыкину съезд монархистов в Москве, отделения Патриотической партии в Тифлисе и Гомеле, граф Салтыков от имени Всероссийского союза землевладельцев, множество отделов Союза Русского Народа и других черносотенных организаций.
Газеты приписывали Горемыкину фразу, произнесённую в Совете Министров: «большинству членов её место не в Думе, а в тюрьме». Затруднительно удостоверить подлинность, но так Горемыкин выразил бы суть высказываний самих депутатов, отождествляющих себя с осуждёнными преступниками.
Позднейший мемуарист, склонный воспроизводить наименее достоверную политмифологию революционного лагеря, считает, что историческая фраза Горемыкина звучала: «третья часть депутатов просится на виселицу» и завоевала ему признание от всех черносотенцев [М.А. Кроль «Страницы моей жизни» М.: Мосты культуры, 2008, с.414].
«Ораторы не понимали, что, признавая себя более близкими к тем, кого покарали, чем к их тюремщикам, они закрепляли двери тюрьмы. Ибо, грозя правительству неизбежным конфликтом, они не могли ожидать, что это правительство поспешит доставить революционному штабу – революционную армию, раскрыв настежь двери тюрьмы» [В.И. Герье «Первые шаги бывшей Государственной Думы» М.: Печатня С.П. Яковлева, 1907, с.118].
Император Николай II 5 мая надписал резолюцию на докладе С.А. Муромцева о желании Г. Думы ответить на тронную речь: «Депутацию я не приму, адрес прислать мне» [«Былое», 1918, №12, с.147].
А.А. Лопухин в письме С.Д. Урусову в те же дни показал что либералы более всего ценят не сохранность русских жизней, а соблюдение пиетета перед покровительствующей убийцам Г. Думе: отказ Монарха лично принять делегацию «это гораздо более возмутительно, чем отказ Думы принять поправку Стаховича к адресу, об осуждении политических убийц». Вполне безосновательно Лопухин подозревал существование какого-то подпольного правительства Д.Ф. Трепова, которое будто бы относится к Г. Думе куда критичнее, чем И.Л. Горемыкин. В действительности все основные решения принимал И.Л. Горемыкин, следуя воле Государя. Д.Ф. Трепов, напротив, предлагал поддаваться значительной части требований Г. Думы, с чем не были согласны ни Царь, ни Горемыкин.
Лев Толстой 6 мая говорил, что в Г. Думу попали заражённые интеллигентской пропагандой демагоги. «Тут никаких представителей народа нет». «Теперешняя Дума – комическая» [«Литературное Наследство», 1979, Т.90, Кн.2, с.132,137].
6 мая сообщалось о поездке И.Л. Горемыкина в Петергоф и продолжительном совещании с Щегловитовым и Столыпиным по возвращении.
А.Ф. Редигер на бланке военного министра 7 мая прислал письмо И.Л. Горемыкину о встрече в Петергофе с С. Муромцевым (на празднование дня рождения Царя приезжали также Сольский, Кауфман и Фредерикс). Письмо показывает искреннее желание Редигера оказать всяческое содействие Горемыкину в делах правления и его принципиальное дистанцирование от председателя Г. Думы, которого Редигер сразу предупредил, что будет заниматься только своим военным делом и ничем более. Для сведения И.Л. Горемыкина Редигер всё же счёл полезным передать позицию Муромцева, «что Думу надо сейчас занять работою – тогда она дифференциируется на партии, с которыми уже можно работать. Вскоре в Думу будет внесён законопроект по аграрному вопросу; он будет весьма радикальным, но при его рассмотрении произойдёт раскол». А.Ф. Редигера заботило военное положение на Дальнем Востоке, относительно которого С. Муромцев признал, что не знает позиции Г. Думы, «да и предсказывать нельзя, т.к. многие члены Думы никогда не задавались этим вопросом». Интересно также мнение Муромцева, будто «Дума готова уважать сильное Правительство, которое твёрдо и с убеждением будет проводить свои взгляды. Во всём изложенном, может быть, для Вас нет ничего нового – но я счёл долгом, на всякий случай, сообщить Вам эти взгляды Муромцева» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1146 Л.2-3].
Н.А. Хомяков бывший противником политики Д.С. Сипягина, недовольный всем чиновничьим строем, не одобрил оппозиционную активность депутатов. 7 мая он пишет: «Каково поведение Думы! Когда кончится этот пошлый митинг – не знаю, но знаю, что совестно за Россию» [Н.А. Хомяков «Письма О.А. Вонлярлярской 1890-1911» Брянск, 2008]. Для к.-д. такой враг бюрократии и конституционалист оказался недостаточно левым. И.В. Гессен прямо перед созывом Г. Думы списывал со счетов Н.А. Хомякова, считая лиц его круга, будущих октябристов, призраками прошлого [Н.Б. Хайлова «Центризм в российском либерализме начала ХХ века» М.: ИРИ РАН, 2022, с.81].
А.В. Богданович 8 мая писала про «сонный Кабинет» Горемыкина. Со ссылкой на разговоры в бюрократических сферах журналисты сообщали что И.Л. Горемыкин всегда вёл «спокойную жизнь» и теперь переутомляется от напряжённой работы с множеством докладов. Что совсем противоречит сонливости.
Морской министр Бирилев, по белоэмигрантским воспоминаниям начальника Главного Морского Штаба вице-адмирала Александра Нидермиллера, ответственно относился к своим выступлениям в Г. Думе и тщательно готовился к ним в ущерб другим делам, в отличие от остальных министров. Левые обвиняли Бирилева, что он твёрдо стоит за ограничение евреев.
В газетах сообщалось о назначении П.И. Рачковского чиновником для особых поручений.
С.Ф. Шарапов выпустил открытое письмо И.Л. Горемыкину, полное негодования на преступный революционный разгул, в котором необоснованно обвинялся С.Ю. Витте, якобы разоривший Россию и создавший смуту. Столь же неуместным в печатаемом патриотическими газетами заявлении Шарапова были оправдания общественного презрения к официальной России и старому режиму. Здесь он не мог найти в И.Л. Горемыкине единомышленника.
Сенатор Н.А. Хвостов, относивший себя к последним защитникам Самодержавия, писал 9 мая: «Горемыкина я знаю. Это спокойный, умный человек и притом с большим характером» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1980 Л.115].
А.С. Стишинский 9 мая писал И.Л. Горемыкину об ожидаемой в 14 ч. его встрече с Муромцевым, добиваясь решительных и скорых действий: «позвольте просить Вашего разрешения более категорично, чем было указано вчера, заявить о предстоящей декларации Министерства. Я опасаюсь, что если я ограничусь сообщением, что декларация “весьма вероятна” и на этом основании буду предлагать отсрочку пред» «рассмотрением аграрного вопроса в Думе, то Муромцев мне ответит, что ввиду лишь “вероятности” декларации это едва ли удобно. Поэтому мне кажется, надо сказать, что будет. Засим, думается, что ни в каком случае не должно упоминать о том, что декларация будет представлена Государю» (т.е. упоминать что план выступления И.Л. Горемыкина ещё не получил одобрения Императора).
В иностранной печати «Temps» и другие французские газеты находили требования Г. Думы в адресе Царю чрезмерно обширными и называли это ошибкой, программу к.-д. при этом называли “страшенной”, а их притязания на неограниченную власть – неприемлемыми для Императора Николая II. К.-д. даже бросились в полемику с иностранной прессой по телеграфу [«Новое Время», 1906, 9 мая, с.2].
10 мая 1906 г. А.С. Суворин обратил перо к невероятной невозмутимости Горемыкина: «в настоящее время есть два несомненно счастливых человека, М.М. Ковалевский и И.Л. Горемыкин». Первый в Г. Думе и газете «Страна» позволяет себе тонкую джентльменскую критику, при полном спокойствии. «И.Л. Горемыкин, когда был министром внутренних дел, говорил, что он газет не читает, да ему и некогда заниматься этим пустым делом. Сделавшись первым министром, он приобрёл ещё больше занятий и потому и подавно, конечно, газет не читает. Я полагаю, что и Думе он не придаёт значения и смотрит на неё» – «читал и содержание оной не одобрил». В отличие от него Витте читал газеты и основал собственную. Газетная брань выводила Витте из себя. «Если бы стали бранить И.Л. Горемыкина, он всё равно об этом не узнал бы, не читая газет, а состоящие при нём лица не осмелились бы его тревожить такими пустяками. Если вы пересмотрите газеты, вы увидите, что бывший кабинет был гораздо, гораздо несчастливее насчёт брани, чем нынешний. Печать спокойствия лежит на челе нынешнего кабинета, и печать с этим считается. Спокойный человек всегда может рассчитывать, что и его оставят в покое». Счастливые Горемыкин и Ковалевский оба «неслышно ходят по мягким коврам мысли, и мысль их ковровая» [А.С. Суворин «Маленькие письма. 1903-1908» М.: Алгоритм, 2005, с.500-501].
Схожим образом А.С. Суворин выразился в те же дни в переписке: «Горемыкин оптимист большой руки и ленивец величайший» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1980 Л.75].
Общий оппозиционный тип мышления либералов и революционеров, однако, показывает письмо М.М. Ковалевского 26 декабря 1899 г.: «в России женщины лучше мужчин, должно быть потому, что никогда не были чиновниками» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.203 Л.23]
По свидетельству октябриста А.А. Столыпина, представители партии к.-д. в кулуарах выражали наполняющее их уныние и отчаяние, они собственную Г. Думу звали «паршивый митинг». Двое крестьян, Зайцев и Леонов, сложили полномочия депутатов, считая бессмысленным и вредным пребывание в ней.
Этот факт подтверждает А.И. Дубровин в недатированном письме И.Л. Горемыкину, написанном до 13 мая. Дубровин сообщал что 51 отдел СРН послал телеграммы Царю с просьбой не давать амнистию и отмену смертной казни революционерам. По его словам, все монархисты возмущены депутатами Г. Думы по их речам в газетах и их адресом Государю, «перешедшим всякие границы не только законных полномочий, но и простого приличия и порядочности. Мы выражаем твёрдую уверенность, что Правительство вполне разделяет нашу точку зрения». Поэтому Дубровин от имени всего СРН просил И.Л. Горемыкина убеждать Царя не уступать требованиям адреса Г. Думы. Довольно распространённым в революционную эпоху явлением кажется утверждение Дубровина, что часть депутатов «под влиянием насмешек и угроз не смела выразить своего протеста; один из крестьян – членов Думы московской губернии сегодня уехал на родину, решив что в Думе ему нечего делать, многие крестьяне потеряли надежду на Думу и в свою очередь составили адрес Государю и собирают подписи; с адресом от крестьян согласны очень многие, но запуганные, боятся подписывать!! Осмеливаемся заявить что мы готовы и ни один не дрогнет перед врагами Государя и Родины».
Успех на выборах к.-д. партия правового порядка объясняла тратами в 100 тыс. руб. Учитывая огромные суммы, выбрасываемые на убыточные массовые газеты, траты на пропагандистское воздействие уходили куда более крупные.
Левый поэт В. Брюсов тоже писал о прямой связи между направлениями крупнейших газет и выборами к.-д. Как всегда, общественное мнение создавалось опубликованным мнением. Мелкие демпартии, немногим отличавшиеся от к.-д., не получили такого же числа голосов только потому что в их распоряжении находились малотиражные органы печати вроде журнала «Вестник Европы».
А.А. Половцов 10 мая предполагал, что Горемыкин после увольнения Сольского не пустит Витте в председатели или заместители Г. Совета. Ввиду убеждений Николая II, дополнительные старания Горемыкина по этому поводу не требовались.
А.С. Ермолов 10 мая прислал Горемыкину свою новую книгу по аграрному вопросу, рассчитывая, что она пригодится в качестве материала.
11 мая Государь принимал Горемыкина. По сообщениям газет, Император вызвал Горемыкина в Петергоф для утверждения программы Совета Министров, которая будет представлена Г. Думе. Вл. Гурко писал И.Л. Горемыкину 11 мая: «узнаю от Вашего посыльного, что Вы ныне по соседству от нас» и предлагал зайти к себе, имея свободное время до обеда, «вечером к сожалению занят иначе конечно явился бы к Вам».
Жандарм Е. Медников 11 мая писал: «говорят Горемыкин пробудет только 2 или 3 месяца, а то опять Сергей Юльевич», «все газеты в восторге от ума Сергея Юльевича и будет ему опять дана Россия, только без Дурново» [Б.П. Козьмин «С.В. Зубатов и его корреспонденты» М.-Л.: Госиздат, 1928, с.120].
Вопреки собственным мемуарам, Витте приглашал Зубатова вернуться к полицейским делам в 1905 г.
11 мая в Гвардейском офицерском собрании русские монархисты выступали с угрозами Г. Думе.
А.П. Извольский 12 мая письменно запрашивал И.Л. Горемыкина, собирается ли он прочитать «сегодня декларацию в Думе» и следует ли при этом присутствовать. Как видно, по собственному желанию Извольский не рвался посещать сборища депутатов и старался уклониться. Хотя в мемуарах Извольский эти свои настроения скроет, в обвинительном тоне рассказывая, будто Горемыкин убеждал других министров не посещать Думу. Едва ли в таких уговорах была нужда.
Ввиду частых заседаний Г. Думы, правительство Горемыкина стало игнорировать их, министерские скамьи опустели. Президиум Думы вознамерился отправить депутацию с ответом на тронную речь прямо Императору Николаю II. На всеподданнейшее ходатайство С. Муромцев получил письмо И.Л. Горемыкина, ставившее предел доступности депутатов к Его Величеству. Иван Горемыкин предписал передавать такие адреса через министра Двора при всеподданнейшей записке, на которую председатели Г. Совета и Г. Думы имели право. Аладьин оценил это как внесение затруднений первому же шагу депутатов. В адресе содержалось прошение об амнистии. Меж тем Столыпин в ответ на различные просьбы о помилованиях продолжал обещать частичную амнистию. Партия к.-д. заранее предупреждала, что если Горемыкин не удовлетворит требования их адреса, то Г. Дума может объявить о недоверии правительству.
Идеологи к.-д. упорно не хотели верить в то что И.Л. Горемыкин будет отвечать на прошение Г. Думы об амнистии, адресованное Царю, а не правительству, и отвергнет как амнистию, так и принудительное отчуждение частновладельческих земель, как и отмену чрезвычайного и военного положения. К.-д. настолько оторвались от реальности, что считали такой ответ Горемыкина «совершенно невероятным», –напечатала «Речь» утром 13 мая, за несколько часов до того как он последовал.
А. Муратов из Тамбова в начале июня писал депутату Г. Думы С.К. Бочарову: «Вы пишете, что Государь не ответил на Ваш адрес. А по-нашему, на бред сумасшедшего не отвечают». «Здесь все, с кем мне приходилось говорить, считают Думу сумасшедшим домом, или собранием психопатов, откуда идёт агитация для уничтожения Верховной Власти, грабежей, “иллюминации усадеб” и т.п. По понятиям думцев, мирных жителей следует грабить, а преступников миловать» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1982 Л.24].
Монархисты, основываясь на мировой практике парламентаризма, объясняли почему ничего иного не могло получиться из Г. Думы: «не даром же действительно лучшие люди всех народов относятся очень хладнокровно к выборам в народное представительство, или даже вовсе уклоняются от участия в них». «Такова печальная картина действительности» [П.Е. Казанский «Избирательные права граждан» Одесса, 1910, с.28].
Это подтверждает весь новейший политический опыт: «портрет Госдумы весьма непригляден»: «отрицательный имидж как никчёмного и даже зловредного института» [А. Андреев, М. Андреев «Неистовый Жириновский» М.: Центрполиграф, 2016, с.64].
Так было и раньше «с каждым десятилетием»: «недостатки парламентаризма выступили столь наглядно», «принцип количества оказался несостоятельным в мистическом деле народного управления» [В. Брюсов «В эту минуту истории. Политические комментарии 1902-1924» М.: АИРО-XXI, 2013, с.83].
При первом представлении Г. Думе, в 14 ч. 30 м. 13 мая Горемыкин едва успел сказать: «Господа члены Государственной Думы», как левые начали шуметь, стучать, кричать «довольно». Горемыкин несколько раз оставлял трибуну, а депутаты, мешавшие ему говорить, исключались на 15 заседаний один за другим. Не желавших выходить выводил военный караул. А.А. Половцов 13 мая записал: «Речь Горемыкина безупречна. Возражения, представленные вожаками думы, возмутительны по своей грубости».
Г. Дума решила бороться с Горемыкиным «методом площадной брани». Того же качества были и запросы депутатов к правительству. Предъявленные 222 запроса доходили «до абсурда» и не соответствовали фактическим данным [В.А. Демин «Государственная Дума России (1906-1917)» М.: РОССПЭН, 1996, с.74-75].
Заявление, сделанное И.Л. Горемыкиным, заслуживает всестороннего рассмотрения. Именно об него разбились все преступные посягания революционных партий.
«Совет Министров, рассмотрев переданный ему Его Величеством адрес Государственной Думы на приветственное слово, принял во внимание, что высказанные в этом адресе пожелания и предложения касаются: одни порядков законодательства, другие – порядков Государственного управления. Полагая в основу своей деятельности соблюдение строгой законности и обсудив, в связи с этим началом, высказанное Государственной Думой соображение, Правительство выражает прежде всего готовность оказать полное содействие к разработке вопросов, возбуждённых Думой, которые не выходят из пределов предоставленного ей законодательного почина. Такое содействие, вполне отвечающее обязанности Правительства разъяснять Государственной Думе свои взгляды по существу этих вопросов и отстаивать свои предложения по каждому из них, оно окажет и в вопросе об изменении избирательного права, хотя, со своей стороны, не считает этого вопроса подлежащим немедленному обсуждению, так как Государственная Дума только ещё приступает к своей законодательной деятельности, а потому не успела выясниться потребность в изменении способа её составления. С особливым вниманием относится Совет Министров к возбуждённым Государственною Думою по вопросам, о незамедлительном удовлетворении насущных нужд сельского населения и издании закона, утверждающего равноправие крестьян с лицами прочих сословий; об удовлетворении нужд рабочего класса; о выработке закона о всеобщем начальном образовании; об изыскании возможных способов к вящему привлечению к тягостям налогов более состоятельных слоёв населения; о преобразовании местного управления и самоуправления с принятием к соображению особенностей окраин. Не меньше значения придаёт Совет Министров отмеченному Думою вопросу об издании нового закона, обеспечивающего неприкосновенность личности, свободу совести, слова и печати, собраний и союзов, вместо действующих ныне временных правил, замена коих правилами постоянными, выработанными во вновь установленном законодательном порядке, предусмотрена была при самом их издании. При этом Совет Министров полагает, однако, необходимым оговорить, что при выполнении этой законодательной работы необходимо вооружить административную власть действительными способами к тому чтобы, при содействии законов, рассчитанных на мирное течение государственной жизни, Правительство могло предотвращать злоупотребления дарованными свободами, противодействовать посягательствам, угрожающим обществу и государству.
Относительно разрешения земельного крестьянского вопроса путём указанного Думою обращения на этот предмет земель удельных, кабинетных, монастырских, церковных и принудительного отчуждения земель частновладельческих, к которым принадлежат и земли крестьян-собственников, приобрётших их покупкой, Совет Министров считает обязанностию заявить, что разрешение этого вопроса, на предложенных Государственной Думою основаниях безусловно не допустимо. Государственная власть не может признавать права собственности на земли за одними и в то же время отнимать это право у других. Не может государственная власть отрицать вообще права частной собственности на землю, не отрицая одновременно права собственности на всякое иное имущество. Начало неотъемлемости и неприкосновенности собственности является во всём мире, на всех ступенях развития гражданской жизни, краеугольным камнем народного благосостояния и общественного развития и коренным устоем государственного бытия, без коего немыслимо самое существование государства. Не вызывается предложенная мера и существом дела при обширных и далеко неисчерпанных средствах, находящихся в распоряжении Государства и при широком применении всех законных к тому способов. Земельный вопрос, несомненно, может быть успешно разрешён без разложения самого основания нашей государственности и подтачивания жизненных сил нашего отечества. – Остальные включённые в адрес Государственной Думы предположения законодательного свойства сводятся к ответственности перед народным представительством министров, пользующихся доверием большинства Думы, к упразднению Государственного Совета и устранению установленных особыми узаконениями пределов законодательной деятельности Государственной Думы.
На этих предложениях Совет Министров не считает себя в праве останавливаться, они касаются коренного изменения Основных Государственных Законов, не подлежащих по силе оных пересмотру по почину Государственной Думы. Наконец, что касается забот Государственной Думы об укреплении в Армии и Флоте начал справедливости и права, то в этом отношении Правительство заявляет, что в войсках Его Императорского Величества начала эти с давних пор установлены на незыблемых основаниях. Ныне же заботы Державного Вождя вооружённых сил Империи направлены, как это явствует из последних по сему предмету мероприятий, к улучшению материального быта всех чинов Армии и Флота. Изыскать средства, необходимые для более широкого осуществления этих мероприятий, составит одну из главных задач Государственной власти и вновь установленных законодательных учреждений. Обращаясь ко второй группе выраженных Государственною Думою пожеланий, об устранении действия исключительных законов и произвола отдельных должностных лиц, Совет Министров находит, что они относятся всецело к области государственного управления. В этой области полномочия Государственной Думы заключаются в праве запроса министрам и главноуправляющим отдельными частями по поводу незакономерных действий, последовавших со стороны их самих или подведомственных им лиц или установлений. Независимо от сего, водворение в нашем Отечестве строгой законности на началах порядка и права составляет особую заботу Правительства, которое и не преминет зорко следить за тем, чтобы действия отдельных правительственных органов были постоянно проникнуты тем же стремлением. Отмеченная Государственной Думой неудовлетворительность исключительных законов, направленных к обеспечению порядка и спокойствия в случаях чрезвычайных, сознаётся и самим Правительством. Разработка взамен их новых, более совершенных, производится в подлежащих ведомствах. Если же, не взирая на неудовлетворительность этих законов, действие их за последнее время было тем не менее распространяемо на многие местности, причина тому коренится исключительно в непрекращающихся и по ныне повседневных убийствах, грабежах и возмутительных насилиях. Основную обязанность Государственной власти составляет охранение жизни и имущества мирных обывателей. Совет Министров в сознании всей тяжести, лежащей на нём в сём отношении ответственности перед страной, заявляет, что доколе указанные проявления охватившей страну смуты не прекратятся и в распоряжении правительственной власти не будут представлены вновь изданными законами действительные средства борьбы с беззаконием и нарушением основных начал общественной и личной безопасности, Правительство вынуждено и впредь ограждать её всеми существующими законными способами. Общая политическая амнистия, ходатайство о коей заявлено Государственной Думой, заключает с одной стороны помилование приговорённым по суду, какого бы свойства ни были совершённые ими преступные деяния, составляет прерогативу Верховной власти, от которой единственно и всецело зависит признать Царскую милость к павшим в преступления, соответствующей благу общему. Совет Министров со своей стороны находит, что этому благу не отвечало бы в настоящее смутное время помилование участвовавших в убийствах, грабежах и насилиях. Что же касается лиц, лишённых свободы в порядке административном, то Советом Министров приняты меры к самому тщательному пересмотру состоявшихся в этом порядке постановлений для освобождения тех лиц, предоставление коим свободы не угрожает общественной безопасности, ежедневно нарушаемой преступными на неё посягательствами. Независимо от приведённых выше соображений по содержанию адреса Государственной Думы, Совет Министров находит нужным ныне же наметить в общих чертах свои ближайшие предположения в области законодательства. Сила русского государства зиждется прежде всего на силе его земледельческого населения. Благосостояние нашего отечества не достижимо, пока не обеспечены необходимые условия успеха и процветания земледельческого труда, который составляет основу всей нашей экономической жизни.
Почитая поэтому крестьянский вопрос, в виду его всеобъемлющего государственного значения, наиболее важным из подлежащих ныне разрешению, Совет Министров признаёт, что в соответствии с этою важностию требуется и особливая заботливость и осторожность в изыскании путей и способов для его разрешения. Осторожность в этом деле необходима и во избежание резких потрясений исторического своеобразно сложившегося крестьянского быта. Однако, по мнению Совета, последовавшее преобразование нашего государственного строя с предоставлением выборным от крестьянского населения участия в законодательной деятельности предопределяет главные основы предстоящей крестьянской реформы. При этих условиях условная обособленность крестьян должна уступить место объединению с другими сословиями в отношении гражданского правопорядка, управления и суда; должны также отпасть все те ограничения прав, которые были установлены для обеспечения исправного погашения выкупного долга. Уравнение крестьян в их гражданских и политических правах с прочими сословиями отнюдь не должно лишить государственную власть права и обязанности выказывать особую заботливость о нуждах земледельческого крестьянства. Мероприятия в этой области должны быть направлены как к улучшению условий крестьянского землепользования в его существующих границах, так и к увеличению площади землевладения малоземельной части населения за счёт свободных казённых земель, приобретением частновладельческих земель при содействии Крестьянского Земельного банка. Предстоящее в сём отношении для государства поле деятельности обширно и плодотворно. Подъём сельскохозяйственного промысла, находящегося ныне на весьма низкой ступени развития, увеличит размеры производства страны и тем возвысит уровень общего благосостояния. Громадные пространства, пригодные для обработки земли ныне пустуют в Азиатских владениях Империи. Развитие переселенческого дела составит, в виду этого, одну из первейших забот Совета Министров. Сознавая неотложность поднятия умственного и нравственного уровня масс населения развитием его просвещения, Правительство изготовляет соответствующие выраженным по сему предмету Государственной Думою пожеланием предположений о всеобщем начальном образовании, с широким привлечением к делу народного обучения общественных сил. Озабочиваясь, кроме того, правильной постановкой среднего и высшего образования, Совет Министров внесёт в ближайшем будущем на рассмотрение Государственной Думы проект преобразования средней школы, открывающего простор для общественного и частного в этой области почина, а равно проект реформы высших учебных заведений, построенный на началах самоуправления. Проникнутый убеждением, что провозглашённое Государем Императором обновление нравственного облика земли Русской не мыслимо без водворения в стране истинных начал законности и порядка, Совет Министров выдвигает на первую же очередь вопрос о местном суде и устройстве его на таких основаниях, при коих достигалось бы приближение суда к населению, упрощение судебной организации, а также ускорение и удешевление судебного производства. Одновременно с выработанным проектом местного судоустройства Совет Министров внесёт в Государственную Думу проекты изменения действующих правил относительно гражданской и уголовной ответственности должностных лиц. Проекты эти исходят из той мысли, что сознание святости и нерушимости закона может укорениться в населении только наряду с уверенностью в невозможности безнаказанного нарушения закона не только со стороны обывателей, но и представителей власти.
Стремясь за сим к достижению возможно полной уравнительности в деле распределения налогового бремени, Совет Министров предполагает внести на уважение законодательной власти проект о подоходном налоге, об изменении положения о пошлинах с наследств, о крепостных пошлинах и о пересмотре некоторых видов косвенных налогов. Наконец, в ряду изготовленных законопроектов Совет Министров считает нужным упомянуть ещё о проекте преобразования паспортного устава, предполагающего отмену нынешних паспортов и видов на жительство. В заключение Совет Министров считает долгом заявить, что сознавая первостепенное значение мер, направленных к обновлению нашего законодательства на началах Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г., Правительство вместе с тем проникнуто убеждением, что могущество государства и его внешняя крепость и внутренняя сила неизменно покоится на закономерной, но твёрдой и деятельной исполнительной власти. Подобную власть Правительство намеренно неуклонно проявлять, в сознании лежащей на нём ответственности за сохранение общественного порядка перед Монархом и русским народом. Совет Министров питает уверенность, что Государственная Дума в убеждении, что мирное преуспеяние русского государства зависит от разумного сочетания свободы и порядка, своей спокойной созидательной работой поможет ему внести столь необходимое для страны успокоение во все слои населения» [«Томские Губернские Ведомости», 1906, 21 мая, №36, с.4].
Как всегда, трудно доверять утверждению Л. Львова, будто И.Л. Горемыкин хотел уклониться от чтения декларации – передать её Стишинскому. Хотя можно отнести эту версию к скромности Горемыкина, как и сведения о бесстрастном его отношении к назначению главой правительства.
Оппозиционно настроенные газеты заведомо лживо обозвали декларацию: «никому, никогда, ничего» [«Революция 1905-1907 гг. в России» М.: Политиздат, 1975, с.322]. Правительственная декларация И.Л. Горемыкина стала ориентиром для Первого съезда Объединённого дворянства 21-28 мая 1906 г. в Петербурге, собравшегося в доме А.С. Стишинского [«Отечественная история», 2001, №3, с.127].
Заявив, что Императорское правительство не позволит Г. Думе нарушать права собственности подданных Николая II, обозначив важнейшие задачи разгрома революционного движения, И.Л. Горемыкин наметил реалистические цели, которыми будут заняты министры все последующие годы: рост благосостояния крестьян через повышение урожайности, переселенческая программа, землеустроительные работы. Столыпин будет одним их таких исполнителей. Декларация Горемыкина показывает, каким должно быть настоящее Русское Правительство, какого народ с 1917 г. оказался насильственным образом лишён.
После прощального поклона Горемыкина, напечатанную в приложении к «Правительственному Вестнику» декларацию Горемыкина раздали депутатам Г. Думы.
С. Варшавский, издавая в 1907 г. презабавный по нелепости апологетический культ “трудов” Г. Думы в её противостоянии Императорскому правительству, упоминал, что декларация И.Л. Горемыкина «волею начальства» была расклеена «на всех перекрёстках», распространялась губернаторами по всей Российской Империи и прибивалась к церковным вратам. Т.е. монархисты воспринимали выступление Горемыкина как эффективное идеологическое оружие.
Газеты «Русское Слово» и «Речь» повторяли что Горемыкин не проявлял ни малейшего волнения и спокойно прочёл декларацию «медленно, глухим старческим голосом». Во время ответных речей депутатов Горемыкин запрокинул голову и смотрел в потолок. Фредерикс, сидевший рядом с Горемыкиным, первым из министров покинул бестолковое сборище демагогов. По воспоминаниям П.Л. Барка, Фредерикс тогда спрашивал у Горемыкина, почему председатель Г. Думы не призывает выступающих депутатов к порядку. Но Горемыкина поведение депутатов не волновало, он отвечал: «уже ничего не поделаешь». В.Н. Коковцов, обменявшись записками с Горемыкиным, вышел за Фредериксом.
А.С. Суворин в номере от 15 мая напишет, что И.Л. Горемыкин «долго сидел совершенно спокойно, слушая ораторов». «Наслушавшись», вышел вслед за другими министрами, пропустив всего несколько последних ораторов, включая графа Гейдена, который обиделся. Суворин полагал, что правительство нисколько не смутилось поведением депутатов, в отставку министры не подадут и будут себя вести «как будто ничего и не было», поскольку источником их власти является Самодержавный Император, а не Г. Дума. Выступление И.Л. Горемыкина, следовательно, не имело отношения к практике парламентаризма. Декларация носила характер ознакомления о намерениях правительства.
Как можно убедиться по корректным первым описаниям выступления И.Л. Горемыкина, с ними никак не соотносятся живописные детали статьи Розанова, сочинённой в 1909 г. под псевдонимом для заработка в либеральной газете, где упоминалось, будто слов Горемыкина не было слышно уже в нескольких саженях от него, что Горемыкин не догадался вставить зубы, а на худощавой спине морщился сюртук [В.В. Розанов «Старая и молодая Россия» М.: Республика, 2004, с.346-347].
Выслуживаясь перед либералами, Розанов неискренне составил портрет из того что выдумывала лживая пресса, не опираясь на собственные наблюдения. Враждебная правительству «Речь» 14 мая сообщала, что И.Л. Горемыкин начал «вяло и монотонно», «спокойным и размеренным голосом». «Но по мере чтения голос его креп, тон становился нравоучительным и приобрёл особую твёрдость». А.М. Колюбакин написал, что выступление Горемыкина вызвало в депутатах «гневное содрогание». В отчёте «Нового Времени» говорится, что Горемыкин читал «довольно быстро, весьма тихим голосом, местами не доносящимся до галереи». В основном же, следовательно, при полной тишине в зале, проблем со слышимостью не имелось. М.О. Меньшиков жаловался, что с хора большинство журналистов мало что способно расслышать у любого оратора.
Далёк от исторической ценности и вредный отвлечённый вымысел в эмигрантской статье Ивана Ильина за 1926 г., излагающей примитивный культ необоснованного возвеличивания П.А. Столыпина, с неуместным вменением П.Н. Дурново фальшивой реакционности, а И.Л. Горемыкину – мнительно надуманной «бюрократической приспособимости» [И.А. Ильин «Статьи. Лекции. Выступления. Рецензии (1906-1954)» М.: Русская книга, 2001, с.199]. Обеспечивающая успехи демократии система организованной лжи, вовлекающая и монархистов в свои мифологические сети, традиционно внушала: «у императора даже хватало безрассудства доверять министерские посты людям, воплощавшим худшие черты полицейско-бюрократического режима — таким, как Дурново и Горемыкин» [Р. Пайпс «Струве. Биография» М.: МШПИ, 2001, Т.2].
В.Д. Набоков, как оказалось, прежде питал нелепые иллюзии, будто назначение Горемыкина вызвано его готовностью, в отличие от Витте, вступить на конституционный путь. К.-д. партия плохо понимала с кем имеет дело. Набоков объявил что Горемыкин бросил им вызов. Он и был брошен, революции и её сторонникам в Г. Думе. Затем Ф.И. Родичев продолжил революционную пропаганду, обвинив в насилии правительство, а не террористов из социалистических партий. Родичев тоже оказался разочарован, ибо он ждал, что Горемыкин войдёт в подчинение Г. Думе и начнёт слушать приказы депутатов. Никакое другое правительство их не интересовало, поэтому Родичев предложил Горемыкину сдать власть тому кто пойдёт на поклон Г. Думе. Аладьин пытался запугать министров революцией и потоками крови. Кокошкин снова требовал амнистии и врал о нарушении Горемыкиным принципов права. Все они требовали отставки и негодовали от того, как Горемыкин взялся поучать их. Винавер стучал кулаком по кафедре, обвиняя министров в боязни заговорить о еврейском равноправии и выражая им недоверие.
Попытки либералов ограничить власть Монарха и русского правительства полностью повторяли те же манипуляции с текстами законов, какие предпринимались, чтобы вывести Финляндию из-под управления Россией. Однако, как и теперь в случае с Г. Думой, «дарование Финляндии сейма, с правом периодических собраний, не составляет нарушения общих державных прав Русского Императора», который может «принять или не принять во внимание мнение сейма», в зависимости от того, способен ли «совещательный голос сеймовых депутатов» «приносить несомненную пользу» [Ф.П. Еленев «Чего достигли и чего домогаются вперёд достигнуть финляндцы по пути отпадения их от русской государственной власти» М.: Университетская типография, 1898, с.111].
Монархический принцип исключал возможность подчинения целого государства опасному самодурству случайно подобранных депутатов, независимо от того насколько уместны их устремления, как того требует принцип демократический.
Председатель Советов Министров воспользовался получасовым перерывом в заседании и не вернулся выслушивать далее вопли, угрозы и ругательства. Из министров дольше высидел И.Г. Щегловитов.
Как говорил Джозеф Чемберлен (1836-1914) про пресловутый британский парламент: «если бы не курительная комната, это место было бы невыносимым» [М.А. Девлин «Невилл Чемберлен» М.: Молодая гвардия, 2019, с.47].
Депутат Г. Думы Ф.В. Татаринов в письме от 16 мая 1906 г. описал: «Дума в полном смысле “ругалась” с Министрами». «Родичев, Щепкин и другие только расхолаживали впечатление: вопили неистовым голосом, махали кулаками и пр. Это было глупо и бестактно. Чувства меры и собственного достоинства у этих ораторов не имеется». «Несмотря на все наши истерические вопли, фактически дело не изменилось ни на йоту. Положение начинает становиться глупым» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1981 Л.2].
Клейгельс выражал удовлетворение твёрдой речью Горемыкина.
В.Н. Коковцов в мемуарах сообщает, что ему не известно, была ли декларация написана лично Горемыкиным.
Довольно своеобразна характеристика правления И.Л. Горемыкина в воспоминаниях французского посла Мориса Бомпара: «воспитанный в канцеляриях, служивший в многочисленных ведомствах, он прекрасно знает все правила, и они для него являются исчерпывающим ответом на всё… Все вопросы, поставленные теперь в таком угрожающем виде, вызывают у него в голове определённую статью закона, которая для него вполне разрешает вопрос. Это – делопроизводитель канцелярии, поставленный во главе управления во время революции» [«Сегодня» (Рига), 1938, 23 октября, с.4].
Есть подозрение, что реплика написана на основании одной только декларации И.Л. Горемыкина, где даются ссылки на Основные Законы в подкрепление невозможности исполнения желаний Г. Думы. Однако полное отсутствие политического мышления в таком случае проявил сам М. Бомпар, проигнорировавший всю фактическую сторону монархических принципов, никак не сводимых к простому юридическому крючкотворству. Основные Законы отвергали революционные принципы, поскольку русские монархисты отстаивали положительные начала правой политической культуры Российской Империи.
В политике И.Л. Горемыкина в полной мере видна фактическая реализация, как писал Иван Ильин в книге «Путь духовного обновления», национализма как творческого утверждения и принятия русского правосознания и исторического мирозосерцания [И.А. Ильин «Почему мы верим в Россию» М.: Эксмо, 2006, с.286].
Денационализированная интеллигенция и чуждые русскости иностранцы этого одинаково не понимали.
Известный правый публицист из круга Э. Дрюмона Альбер Моннио сделал выводы: «Г. Дума не намерена рассматривать вопросы всерьёз, требуя полных и немедленных перемен». «Правительство хочет действовать с мудрой неторопливостью». Сразу становилось понятно что Царю придётся «распустить Думу» [«La Libre Parole», 1906, 28 mai, p.1].
К. Чуковский в 1906 г. в журнале «Свобода и жизнь» помещал смешные стишки об этом противостоянии:
Говорил Горемыкин Аладьину:
«Раздавлю я тебя, словно гадину».
И Аладьин твердил Горемыкину:
«Я тебя, Горемыкина, выкину».
Это только в эмигрантском рассказе М. Слонимского кот, которого назвали Горемыкиным за похожие усы, падал в обмороки от страха. В 1926 г. писатель зря издевался над памятью покойного. Горемыкин всегда был невозмутимо смел и бесстрашен.
Занимавшийся лживыми посулами безграничной свободы и утопического народовластия Ленин, не заинтересованный в поддержке доминирующих в Г. Думе к.-д., имел основания писать в газете «Эхо» о трусости либералов и смелости монархистов. «Министерство Горемыкина ответило коротко, ясно, с великолепной твёрдостью и решительностью» [В.И. Ленин «Полное собрание сочинений» М.: Политиздат, 1979, Т.13, с.293].
И.Л. Горемыкин заявил о полном неприятии революционных принципов в разгар продолжающихся схваток защитников Монархии с террористами, которые продолжали пытаться брать штурмом правительственные здания, стрелять в городовых и жандармов, бросать бомбы в трамвайные вагоны, убивая пассажиров. Продолжались уличные перестрелки [Р. Спиридонов «Что помнит Рига о революции 1905-1906 г.» // «Сегодня вечером» (Рига), 1926, 4 октября].
П.Н. Краснов в эти дни вспоминал про «ужасы лифляндской революции. Мы говорили об убийстве фон Адеркаса, управляющего одним из имений близ Риги, о том как толпа напала на него, вырвали усы, потом выкололи глаза, отрезали язык и уши, и искололи его ножами» [«Новое Время», 1906, 17 мая, с.3].
Пока депутаты болтали языком и требовали амнистии, продолжали совершаться новые убийства и покушения со стороны революционеров. В Риге в тот же день 13 мая был ранен охранник продовольственного магазина, а у преступника нашли целую лабораторию по изготовлению бомб. Всего в Риге 13 мая власти казнили сразу 8 террористов. В Саратове революционер застрелил начальника губернской тюрьмы Шаталова. В Плоцке бандиты пытались экспроприировать почтовые денежные суммы, их вооружённое нападение было отбито. В Тифлисе террорист застрелил крупного предпринимателя Кеворкова.
Монархисты на протяжении всей Империи вели тяжелейшую героическую борьбы. В 1906 г. на весь Красноярск приходилось 7 чиновников полиции и 53 городовых. Не считая других партий, «боевые силы эсеров составляли 32 человека» с 500 единиц огнестрельного оружия [А.А. Макаров «История Красноярского края (1897-1940)» Абакан, 2013, с.17].
Нет оснований согласиться, будто после решительного Плеве Святополк-Мирский, Булыгин, «Витте, Горемыкин и даже Дурново – все они лавировали, колебались, терялись, уступали», заискивали перед революционной шайкой, чем отталкивали своих приверженцев [П.А. Крушеван «Знамя России» М.: Институт русской цивилизации, 2015, с.616].
Крушеван пугал правительство появлением диктатора снизу, если не появится сверху, но с дна появлялись только революционные деспоты, какие не стеснялись ни в каких средствах уничтожения. Императорское правительство именно что умеряло запросы на разжигание насилия между политическими партиями. Другие монархисты справедливо критиковали Крушевана за именование себя христианским социалистом, поскольку любой социалист является противником монархистов и ни в коем случае нельзя использовать этот термин в качестве чего-либо положительного.
Правый депутат 2-го и 4-го созывов Г. Думы от Бессарабии Д.Н. Святополк-Мирский в эмиграции предъявлял необоснованные претензии, что Николай II не подчинялся «ничьему влиянию», вместо того чтобы приветствовать это достоинство. «При встрече с нашим шумливым и неисправимо – интеллигентски – революционным народным представительством, нашей Государственной Думой, наша бюрократия окончательно растерялась и эта растерянность её окончательно деморализовала и погубила» [Д.Н. Святополк-Мирский «Чем объяснить наше прошлое и чего ждать от нашего будущего?» Париж, 1926, с.43].
Были только отдельные лица вроде Вл. Гурко или сторонника конституции Н.Н. Кутлера, которые перебегут на сторону либералов или даже большевиков. Но такого нельзя сказать ни про сановные верхи, ни про весь аппарат власти, продолжавший оставаться «послушным, весьма совершенным орудием в руках Государя», как этот же непоследовательный правый публицист оценивает русскую бюрократию и её монархические убеждения. Попытки найти объяснения революции в том, будто бюрократия не смогла ей противостоять, глубоко ошибочны, рассуждения в этом направлении безрезультатны.
По наблюдениям левого историка, в мае 1906 г. перестрелок военных и полиции с революционерами было немногим меньше, чем в декабре-феврале. Высокую стойкость монархического строя в России, объясняли сильной идейной подготовкой военных монархистов, которой не было во Франции перед 1789 г. и в других странах Европы [Е.В. Тарле «Сочинения» М.: АН СССР, 1958, Т.4, с.409-410].
Кустодиев помогал Репину писать картину заседание Г. Совета, и в 1906 г. по знакомому ему облику министров писал карикатурные портреты на Горемыкина, Коковцова, Дубасова в «Адской почте», №2. Вышло 4 номера [«Русская сатира первой революции» Л.: Госиздат, 1925, с.158, 166].
Их шарж с пушистыми усами показывает Горемыкина добро улыбающимся этим громадным разлётом усов в обе стороны.
Нешуточный революционный разгул тем временем угрожал самим юмористам. Художник И.Я. Билибин писал после роспуска 1-й Г. Думы: «времена-то какие ужасные. Ещё убьют по дороге к Вам» [А.И. Кудря «Кустодиев» М.: Молодая гвардия, 2006, с.78].
Сатирики обращали взор и на эксцентричных депутатов: «Княгиня Марья Алексеевна была в полной уверенности, что г. Аладьин в Государственной Думе ходил босиком» и «рук не моет». Про Витте писали что он дрожал за свою жизнь в министерском кресле, и на нём же «беспокойно ворочался Горемыкин» [В.М. Дорошевич «Премьер» СПб.: Т-во И.Д. Сытина, 1907, с.4-5, 56].
Но реальность превосходила все фантазии. Не лжеименный иностранный агент А.Ф. Аладьин пролез в Г. Думу Российской Империи, хотя до 1905 г. жил в Лондоне. «Аладьин был социалистом, взгляды которого сформировались под влиянием английских дел». Позже, во время гражданской войны, действуя в качестве английского агента, Аладьин по заданию правительства Британии перекрасился, изображая из себя крайнего “националиста” [«Николай Васильевич Чайковский: религиозные и общественные искания» Париж, 1929, с.216]. В 1907 г. в США Аладьин выражал благодарности банкиру Я. Шиффу, дававшему деньги революционерам на борьбу с Российской Империей по меньшей мере с 1892 г. [Д.М. Нечипорук «Во имя нигилизма: американское общество друзей русской свободы» СПб.: Нестор-История, 2018, с.127, 230].
В какие только переделки ни попадали депутаты. Дрались с полицейскими на улицах. Продавали свои удостоверения прохожим. Нашёлся даже один «рабочий И.И. Кузнецов, главарь шайки петербургских громил, бывший депутат 1-й Г. Думы», его поймали как руководителя воровской шайки из 14 человек [«Огонёк», 1912, 2 декабря, №49].
В.Ф. Джунковский в марте 1915 г. сообщал масону М.М. Ковалевскому, что депутат 1-й Г. Думы Исидор Рамишвили, состоящий под надзором полиции в Самаре, получил разрешение отбывать надзор в тифлисской губернии, исключая г. Тифлис [СПФ АРАН Ф.103 Оп.2 Д.82 Л.1]. Джунковский в СССР оставался убеждённым монархистом, подвергался репрессиям. Его вынуждали давать редкие консультации органам ОГПУ, что не делает его агентом или сотрудником чекистов [О.И. Капчинский «Гвардейцы Ленина. Центральный аппарат ВЧК» М.: Крафт+, 2017, с.209].
Историк П.И. Бартенев в письме А.С. Суворину проводил нелестное сравнение депутатов 1-й Г. Думы с конституционалистами, пытавшимися ограничить власть Анны Иоанновны. «А ведь верховники до того воровали, что не пощадили даже икон в Благовещенском соборе» [А.Д. Зайцев «Пётр Иванович Бартенев и «Русский архив»» М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013, с.86].
В.А. Грингмут говорил, что в Думе собрался навоз земли русской.
Немыслимо осуждать И.Л. Горемыкина, что тот не мог считать подобный дикий сброд за лучших людей страны и отказывался отдавать им полноту правительственной власти.
Враждебные Самодержавию партии декларацию дружно осуждали. А.И. Гучков в переписке называл ответ Горемыкина 13 мая ошибкой, т.к. он дал отказ сразу политическим и экономическим требованиям Г. Думы, после чего кто-то должен уйти, депутаты или министры, что приведёт к диктатуре и анархии [В.В. Шелохаев «Партия октябристов в период первой российской революции» М.: Наука, 1987, с.102].
На самом деле насадителями начал неразрывно связанных между собой деспотизма и анархии являлись мятежные депутаты Г. Думы, любой компромисс с которыми являлся потворством революции. Советские историки при этом не цитировали из перлюстрированного письма Гучкова хвалебную часть: «ответ правительства имеет одно достоинство – прямоту, откровенность. Витте так не ответил бы». От имени Союза 17 октября с демагогической критикой И.Л. Горемыкина выступил граф П.А. Гейден, пожаловавшийся, что не увидел в декларации полного сочувствия Г. Думе. Д.Н. Шипов считал сражение И.Л. Горемыкина с к.-д. проигранным – сильно заблуждаясь.
Октябристы справедливо отрицали возможность называть их партией правительства Горемыкина: «союз неоднократно протестовал против всех неконституционных актов» [«Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК» М.: РОССПЭН, 1996, Т.1, с.387].
А.И. Гучков в 1906 г. позиционировал себя в качестве старого конституционалиста. Однако потом он поддержит введение правительством военно-полевых судов, разойдясь с Гейденом и Шиповым [А.Н. Боханов «Александр Иванович Гучков» // «Исторические силуэты» М.: Наука, 1991, с.80, 84].
Как и обещал Горемыкин, Г. Думе моментально предоставили правительственный законопроект о всеобщем образовании с намеченным расходом на него в 89,1 млн. руб., что составляло огромную долю бюджета. Вопреки чему, думская пропаганда будет лгать, будто им сунули один проект устройства прачечной при Юрьевском университете. От министерства народного просвещения в Г. Думу был передан и проект о праве министра разрешать частные образовательные курсы без присвоения прав высших учебных заведений. И.Г. Щегловитов столь же оперативно предоставил обещанный Горемыкиным план переустройства местного суда и законопроект гражданской и уголовной ответственности должностных лиц.
Далее при П.М. Кауфмане разрабатывался и был внесён в Совет Министров проект положения о четырёхклассных высших городских училищах, предоставляющих права поступления в университеты [«Земщина», 1909, 3 июня, с.3].
Вопреки множеству слухов, никакого Манифеста об амнистии не было опубликовано. Следуя бредовым теориям заговора, когда во всём оказываются виновны иностранные шпионы, газета «Речь» объявила защиту Горемыкиным частной собственности на землю следствием каких-то заявлений европейских банкиров, а не защитой интересов русского населения.
Левая газета «Русские Ведомости» уведомляла, что после чтения декларации И.Л. Горемыкин ездил в Петергоф к Императору, после чего объявил, что не подаст в отставку, т.к. уволить министров может только Государь. Содержание декларации Горемыкина заведомо исключает возможность его отставки по желанию Г. Думы. В дневнике Николая II отмечен 16 мая после 18 ч. доклад Горемыкина. На неизбежные вопросы журналистов Горемыкин предсказуемо ответил на прозвучавшую в Г. Думе критику его декларации. Это не значит что вариант с подчинением депутатам мог обсуждаться с Императором. Сообщались также слухи о попытках К.П. Победоносцева восстановить своё влияние и добиться роспуска Г. Думы.
Если М.О. Меньшиков написал про «сказочный», «наш русский» «парламент», то А.А. Столыпин в «Новом Времени», прочитав правительственную декларацию, удивлялся: «вообще не нахожу всего того, против чего целый день с азартом распинались думцы». Это наводило на мысль, что «речи депутатов были заранее приготовлены», независимо от содержания выступления И.Л. Горемыкина.
Что можно увидеть и по письму С.Ф. Ольденбурга 13 мая его сыну-монархисту с предупреждением о заряженном электричеством воздухе: «министерство сделает декларацию, а Дума выразит ему недоверие». 17-летний С.С. Ольденбург в этом противостоянии оказался на стороне И.Л. Горемыкина, судя по недовольству отца: «упрямство твоё, гордыня твоя – бедовые. Ты никогда не хочешь быть неправ и очень страстно стоишь за свои мнения» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.10 Л.311-312].
Однако терминологически невозможно согласиться с именованием выступления Горемыкина либеральным, как написал брат П.А. Столыпина, октябрист, пытаясь задобрить конституционалистов. Программа Горемыкина была самодержавно-монархической, крайне правой. Левые попытки называть любые положительные действия или идеи, которые невозможно опровергнуть, демократическими и либеральными, являются сугубо пропагандистскими и не имеют отношения к сути политических явлений.
Газета «Киевлянин» горячо поддержала декларацию И.Л. Горемыкина, считая что он дал Г. Думе «жестокий и уничтожающий урок». В словах Горемыкина насчёт поспешности мысли о смене избирательного закона после нескольких дней работы депутатов правый публицист увидел тонкую иронию. Отвергая требования Г. Думы, Горемыкин опрокинул «давно подготовляемый разрушительный план» «разложения государства». «Десятки миллионов людей могут вздохнуть спокойно». «Наглые крикуны Думы ещё не чувствуют, как они себя похоронили» (№133).
И.Л. Горемыкин выставил против Г. Думы правоту политических идей, а не театральные выкрики, актёрскую жестикуляцию и эмоциональную нестабильность. Поэтому следует назвать предельно легкомысленным, интеллектуально ничтожным восприятие Горемыкина по внешности, будто он что-то промямлил «безвольно, бесслышно» и встретил Г. Думу «с пустыми руками» [В.В. Розанов «Русская государственность и общество. Статьи 1906-1907 гг.» М.: Республика, 2003, с.121, 337].
14 мая в «Новом Времени» писали что декларация И.Л. Горемыкина не поскупилась на самые неотложные реформы, отказав только в амнистии и расширении прав Г. Думы. Но «огромное большинство населения» Российской Империи заинтересовано в проведении программы Горемыкина, а не в желании депутатов захватить власть.
М.М. Ковалевский рассказывал, что профессор Гредескул, сосланный в Архангельск, не мог быть возвращён даже усилиями Витте, т.к. Дурново ему не позволял. В.И. Икскуль после съезда к.-д. пошла на обед к Горемыкиным с вопросом, законно ли выпроваживать выборщика от Харьковской губернии. Горемыкин отвечал, что ему не нужны напоминания для распоряжения об освобождении Гредескула [«Выборы в I-IV Г. Думы Российской империи» М.: ЦИК, 2008, с.87-88]. Н. Гредескул 16 мая в письме из Архангельска выразил полную солидарность с революционерами: «живу теперь на свободе и испытываю тяжёлое чувство, что столько товарищей, с которыми я делил заключение, по-прежнему томятся в неволе» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1981 Л.1].
Чудовищную безнравственность методов борьбы либеральной профессуры разоблачает письмо правого публициста и учёного-юриста В.Д. Каткова (Харьков) от 24 октября 1906 г.: «когда началось брожение в университете, одно лицо, близко состоявшее к пр. Гредескулу (и ныне находящееся в тюрьме) несколько раз делало попытки привлечь меня в организацию с благовидною внешностью, но с несомненно революционными задачами на деле. Так как это было против моих убеждений и совести, я уклонился, не пускаясь в рассуждения, чтобы не оскорбить противной стороны. Вскоре после этого мне пришлось посетить пр. Гредескула, который всегда хорошо относился ко мне, пока политика не заняла первенствующей роли в университетской жизни. Нужно было уплатить для типографии 139 р. 40 к. Я напомнил об этом пр. Гредескулу. «Для Вас», сказал он мне: «у Факультета нет денег». Когда я попросил его объяснить это, он мне сказал, что самое лучшее что я могу сделать, это уйти из университета: в нём не должно быть места таким людям, которые, как я, проявляют сильную склонность к идеям Русского Собрания. В подтверждение этого он достал мою книгу «К анализу основных понятий юриспруденции» и прочитал мне оттуда несколько мест». «Автономия, по-видимому, понимается как возможность безнаказанного насилия, произвола и деспотизма» [СПФ АРАН Ф.825 Оп.2 Д.93 Л.1-2].
И.Л. Горемыкин стоял во главе русской контрреволюционной борьбы с этим насилием, когда левая интеллигенция пыталась распространить такую университетскую автономию, т.е. возможность преследовать и изгонять монархистов, на всю России. Единомышленники Гредескула будут руководствоваться ровно такими же деспотическими принципами при строительстве тоталитаризма в СССР, в сторону которого заталкивала Россию партия к.-д.
Новый английский посол Артур Никольсон 16 мая представлялся А.П. Извольскому. Вл. Гурко писал И.Л. Горемыкину 16 мая, что П.А. Столыпин вызвал его «для установления главных оснований проектов по крестьянскому общественному управлению и пользованию надельными землями. Так как это вопрос не терпящий отлагательства и я уже три недели добиваюсь его разрешения, а при этом опасаюсь, что если отложить его на другой день, то вечером этот опять затеряется, то решаюсь просить Вас не признаете ли Вы возможным назначенное мне Вами время – то же сегодняшний вечер в 10 часов – изменить на какое-либо другое» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.702 Л.11].
16 мая в Петергофе Императора Николай II принимал доклады И.Л. Горемыкина и П.А. Столыпина. С.А. Котляревский упоминал в переписке, что в эти дни П.А. Столыпин просил у Царя ввести 2-3 к.-д. в правительство. «Государь на отрез отказал, сказавши, что правительство ответственно перед Ним и только перед Ним». Смешная мифология о слабом Царя и решительном Столыпине, как всегда, оказывается несостоятельна.
17 мая 1906 г. А.П. Извольский в письме просил И.Л. Горемыкина разрешить «присутствовать, вместе со мною, на совещании вице-директоров 2-го департамента МИД, ординарному профессору международного права, барону Таубе». Извольский находил весьма полезным присутствие такого ценного специалиста «для разъяснения предмета. Пришлось просить Вас об этом в виду того, что на совещании, со стороны моего ведомства, участвует профессор морской академии Овчинников» (муж дочери И.Л. Горемыкина, Александры Ивановны). В январе 1897 г. лейтенант И.А. Овчинников защитил диссертацию «Призовое право» в Военно-юридической академии, читал лекции в Морской академии и Морском кадетском корпусе.
К разочарованию авторов газеты «Речь», каждый день, открывая «Правительственный Вестник», к.-д. обнаруживали в нём не указ об отставке Горемыкина, а новые законы, принимаемые помимо Г. Думы, и телеграммы русских монархистов, попирающие мифическое “достоинство” депутатов. Покушение на власть с негодными средствами со стороны либералов очевидно проваливалось. К.-д. ссылались на недовольство заявлением И.Л. Горемыкина со стороны левой столичной, провинциальной и заграничной прессы. На Императорское правительство такое единодушие не производило нужного левым партиям эффекта.
В письме М. Герценштейна 18 мая, со ссылкой на дружеский обмен сведениями между С.Е. Крыжановским и В.И. Вернадским, выражалась преувеличенная самоуверенность, что скорее вылетит правительство, чем будем распущена Г. Дума: «Горемыкиным они тоже не дорожат» (т.е.допускалось, что Царь им пожертвует при необходимости).
В.М. Пуришкевич 19 мая писал монархисту А.Н. Крупенскому, что правые депутаты Г. Думы из крестьян могли бы дать 150 голосов против амнистии, но они «получают анонимные письма с угрозами бомб», часть их «терроризирована», другая не посещает заседания. «Лучший оратор правительства – А.С. Стишинский». П.А. Столыпин при встрече с Пуришкевичем говорил ему, что Г. Дума разогнана не будет.
19 мая В.Н. Коковцов искал встречи с Горемыкиным, оставив ему записку. О вызове Горемыкиным Щегловитова стало известно, т.к. министру юстиции пришлось прервать приём частных лиц в предназначенное для них время.
П.Х. Шванебах 19 мая предупредил И.Л. Горемыкина, что завтра будет представлять доклад Царю в Петергофе. «В виду возможности разговора по общим делам, я бы очень хотел повидаться с Вами», помимо сегодняшнего обеда у В.Н. Коковцова. Шванебах планировал испросить у Государя несколько служебных назначений.
В Г. Думе Вл. Гурко 19 мая высказал мнение правительства Горемыкина, что не упразднением частного землевладения, а представлением крестьянских земель в полную собственность следует обеспечить народное благо. Гурко дал полный разгром записки 42 членов Г. Думы во главе с Герценштейном. А.С. Стишинский дал объяснение покупке казной имения графа Игнатьева из 128 тыс. десятин с богатейшими рыбными ловлями за 4 млн. руб. Оба выступления представителей правительства сопровождались дикими криками социалистов.
А.С. Стишинский прекрасно объяснил Г. Думе невозможность требовать принудительного отчуждения чьей-либо земли на основании примера 19 февраля 1861 г., когда монархическое правительство решало задачу отмены крепостного состояния для утверждения среди крестьян частной собственности, а не её разрушения. Депутаты Г. Думы, в отличие от правительства И.Л. Горемыкина, не следовали положительной логике 1861 г., а полностью уничтожали её. А.С. Стишинский объяснил, что в 1861 г. «отошли к крестьянам только те угодия, которые находились в постоянном хозяйственном пользовании этих крестьян». Т.е. тогда менялся юридический статус землепользования крестьян, без отнятия земли у кого-либо, из социалистических уравнительных соображений Г. Думы.
Частым спекулятивным примером является нелепая формула о левой политике правыми руками при генерале П.Н. Врангеле в Крыму. Она является ещё одной попыткой в обязательном порядке навязать монархистам проведение какой-либо левой политики. В действительности же в довольно сдержанном правоцентризме Кривошеина-Струве нет ничего левого. Назначение владельцам выкупа за земли, присвоенные в результате преступных революционных захватов, вовсе не является признанием программы 1-й Г. Думы, т.к. эти захваты уже произошли до 1920 г. Предотвращённые И.Л. Горемыкиным в 1906-м, захваты не санкционировались Врангелем, не создавались им, как ранее хотелось Г. Думе. Врангелем проводилась лишь попытка умерить вред, нанесённый революцией [В.Ж. Цветков «Последняя битва Белого Юга. 1920 г.» М.: Яуза-каталог, 2022, с.421].
Газета П.Н. Милюкова «Речь» в дни назначения Стишинского 23 апреля показала, что совершенно не понимает с кем имеет дело, воображая, что между И.Л. Горемыкиным и А.С. Стишинским имеется какая-то невозможно глубокая пропасть, как у С.Ю. Витте и П.Н. Дурново. Либералы нафантазировали, будто И.Л. Горемыкин не заинтересован впускать в Г. Думу Стишинского и между ними будет идти борьба за власть. На самом деле оба новых министра давно прекрасно сработались и никакого идейного разногласия между ними не имелось. Стишинский превосходно представил в Г. Думе земельную программу Горемыкина.
Депутат к.-д. М. Герценштейн, выражая общие грабительские поползновения Г. Думы, в ответ приводил единственный аргумент, угрозу революционного террора: «мало вам опыта майских иллюминаций прошлого года, когда в Саратовской губернии чуть ли ни в один день погибло 150 усадеб? Нельзя теперь предлагать меры, рассчитанные на продолжительный срок, необходима экстренная мера, а принудительное отчуждение и есть экстренная мера» [М. Витухновская-Каупалли «Финский суд vs “чёрная сотня”» СПб.: ЕУ, 2015, с.41]. «Герценштейновские иллюминации» стали крылатым выражением, обозначающим революционные погромы [«За всесословное волостное земство. Речи, произнесенные в Государственном Совете» СПб.: Тип. Т-ва «Грамотность», 1914, с.31].
Газета «Русское Знамя» сообщала от крестьян деревни Старо-Черкасовой Егорьевского уезда, что Герценштейн, приобретя за 8 тыс. руб. 745 десятин, продаёт крестьянам из них 400 дес. за 38 тыс. руб., а 200 дес. болота за 15 тыс. руб. Такими были реальные усилия Герценштейна по передаче крестьянам бывших помещичьих земель. Согласно публикации «Нового Времени» в июне 1906 г., другой к.-д, Н.Н. Львов, главный спонсор журнала «Освобождение», взыскивал с крестьян 33 тыс. руб за вырубку лесов в дачах Балашовского уезда.
В монархической печати, согласно с отстаиваемыми Императором Николаем II и И.Л. Горемыкиным принципами, утверждался, как общая положительная ценность, рыночный принцип формирования цен на землю, вопреки социалистическим требованиям партии к.-д. Закономерно предсказывались последствия победы уравнительной революции: «если теперь крайние партии зовут грабить помещиков» (в т.ч. через уничтожение капиталистического ценообразования и введение определения стоимости партийной номенклатурой), когда их земли быстро закончатся, «пойдут грабить крестьян, у которых осталась земля» [В.Ф. Залеский «Политические партии (общедоступные заметки)» Казань: Тип. Императорского Университета, 1906, с.15].
По сообщению «Биржевых Ведомостей», Главное управление уделов представило И.Л. Горемыкину проект продажи крестьянам свыше 1 млн. десятин удельных земель.
В.Ф. Трепов 20 мая писал И.Л. Горемыкину: «счастлив приветствовать речи министров в Думе по аграрному вопросу». «Я глубоко убеждён, что Правительство приобретёт симпатии всех действительно лучших людей». В.Ф. Трепов также напомнил об обещании И.Л. Горемыкина 22 мая посетить Новый Клуб, где планировал быть и Б.В. Фредерикс.
А.П. Извольский письменно предупреждал, что 20 мая не сможет присутствовать в Совете Министров ранее 22 ч. вечера.
20 мая Редигера пытались уговорить выступить в защиту военно-полевых судов Горемыкин, Щегловитов и Столыпин. Но Редигер, по его воспоминаниям, принципиально отказывался, считая Армию исполнителем, а саму проблему смертной казни должны осветить те, кому подведомственны гражданские дела.
По теме выступил главный военный прокурор Владимир Павлов, через полгода убитый во дворе военно-судных учреждений на Мойке, 96. Террорист проник через охрану, переодевшись в форму военного писаря и взял для маскировки рассыльную книгу с пакетами. Убийца сделал пять револьверных выстрелов в живот, после чего дважды прострелил ему шею. Пытаясь убежать, революционер отстреливался и ранил проходившего мимо мальчика. Император Николай II напишет вдове А.С. Павловой: «трудно заменимая потеря честного и стойкого человека» [«Пережитое», 1907, №1, с.16].
Прежней поддержки Льва Тихомирова Горемыкин во главе правительства не получил. Тихомиров окончательно уверился что всё пропало и вместо того чтобы стать опорой Трона в трудный час, повторял чужие сплетни, сплошь недостоверные. 2 мая 1906 г. Тихомиров записывал, будто Император решил дать амнистию, а Горемыкин обещал установить систему уступок «до последней крайности». Тихомиров не понимал, кем и в чьих интересах распространялись слухи, разлагающие стан монархистов и вдохновляющие революционеров. Но слухи во всём были ложные.
Это выяснилось, когда Горемыкин прочёл декларацию правительства, а Тихомиров так и не понял своих ошибок и продолжал настаивать, в записи 19 мая: «Горемыкин не более как мирный «кадет». Бунтов не хочет, но желает постепенно ввести конституцию. Да, по-видимому, и сам император такой». Только 21 мая, когда Грингмут приехал из Петербурга, Тихомиров записал нечто точное, не перевёрнуто и не переврано: в отличие от Д.Ф. Трепова, ожидающего осенью новых бунтов, «Горемыкин говорит, что пока он у власти – всё будет спокойно. Думу он глубочайше презирает, но ни о каких распущениях или реформах даже не думает» [Л.А. Тихомиров «Дневник 1905-1907» М.: РОССПЭН, 2015, с.243, 247-248].
В результате Грингмут без преувеличений будет считать, что Горемыкин спас Россию, отказавшись от амнистии и игнорируя требования депутатов об отставке.
Форменный абсурд показал запутавшийся в критике правительства и увлечённый выдвижением к.-д. в министры М.О. Меньшиков в «Новом Времени»: «Манёвры гг. Горемыкина и К нельзя понять иначе как слабость центральной власти». Предложения М.О. Меньшикова усилить власть, поддерживая Г. Думу, а не враждуя с ней, привели бы к действительному, а не воображаемому ослаблению России.
1-я Г. Дума собралась, дабы «пошуметь» и при случае «что-нибудь урвать», устроив Императорской России «погром, где всякий старается как можно больше растащить» на учредительном собрании, к чему стремилась партия к.-д. [В.И. Герье «О конституции и парламентаризме в России» М.: Тип. Русского Голоса, 1906, с.8].
Первоиерарх Зарубежной Русской Церкви, почитавший память Императора Николая II, в 1920 г. назвал таких депутатов хулиганствующими интеллигентами – настоящее «зверьё, которое наполнило Государственную Думу» [Митрополит Антоний (Храповицкий) «Жизнеописание. Письма к разным лицам 1919-1936» СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006, с.140].
«Возненавидели землю свою, возненавидели её калиновской злобой», писал Розанов про выходы на кафедру депутатов 1-й Г. Думы в «Людях лунного света» [В.В. Розанов «Метафизика христианства» М.: АСТ, 2001, с.468]. Похожее выражение есть в письме графине Келлер: «там собрались очень злые люди и притом крайне ленивые, потому что кроме словоизвержений, они ещё ничего не сделали» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1981 Л.22].
Выступления депутатов Г. Думы, печатаемые в газетах, как выражались монархисты в Императорской Армии, «почище будут всякой прокламации» [В.В. Вересаев «Сочинения» М.: Художественная литература, 1982, Т.2, с.201].
Омерзительные депутаты выступали в защиту революционных мятежей и требовали призвать к судебной ответственности не левых убийц, а генерала Меллера-Закомельского, который разгромил банды террористов и восстановил порядок на железнодорожных станциях Сибири [Л.П. Бердников, С.Л. Сонина «Два века красноярского самоуправления 1822-1917» Красноярск, 2003, с.188].
20 мая 1906 г. А.П. Извольский отправил И.Л. Горемыкину официальное прошение о разрешении присылать на заседание Совета Министров заместителя министра «за полною иногда невозможностью располагать моим временем, занятым служебными обязанностями, более неотложными». Извольский испрашивал такую льготу только для МИД, но Горемыкин написал Царю про правило от 19 октября 1905 г. об обязательном присутствии министров на заседаниях: «условие такого личного присутствия на этих заседаниях представляется иногда для последних крайне затруднительным». Сославшись на положение о Комитете Министров 1892 г. о порядке замещения министров, Горемыкин испросил у Государя использования такого же права для всех министров. 23 мая появилась Высочайшая резолюция: «Согласен», а 25 мая Горемыкин разослал уведомление об этом всем министрам [РГИА Ф.1276 Оп.1 Д.29 Л.112-114].
Граф Н.П. Игнатьев 22 мая писал: «В Курляндии убийства всё не прекращаются, казакам придётся ещё поработать. Соллогуб – ставленник Витте – не годится в генерал-губернаторы. Горемыкин это сознаёт».
Газеты сообщали о выезде Горемыкина в Гатчину 22 мая. 23 мая Горемыкин лично был у Императора.
22 мая из Парижа симпатизирующий с.-р. и с.-д. более, чем к.-д., Д.В. Философов писал: «поведение крайних партий по отношению к Думе – неприлично. Но с другой стороны, я очень сомневаюсь, что бы Дума была столь благородной, если бы её так не подстёгивали слева» [СПФ АРАН Ф.837 Оп.2 Д.18 Л.20об.].
Сохраняющий неприязнь к правительству Н.Н. Львов, выходя из партии к.-д., считая её разрушительной революционной силой, 23 мая охарактеризовал Г. Думу: «толпа невежественная, грубая, крикливая, никакого толка не получается».
Помимо Г. Думы, пресса оставалась основным источником разжигания революции. 24 мая Горемыкин угрожал закрыть Российское телеграфное агентство за настрой телеграмм.
Имеется записка И.Л. Горемыкина «О мерах к обузданию революционной деятельности столичной и провинциальной печати 1906 г.», адресованная Императору [«Красный архив», 1922, Т.2].
Г. Думу же озаботило иное, телеграммы в «Правительственном Вестнике», главным редактором которого был назначен А.А. Башмаков. С. Муромцев отправил И.Л. Горемыкину запрос о попираемом достоинстве депутатов. Горемыкин отослал официальный ответ о том что запросы могут посылаться только в определённые ведомства, а не ему лично.
Напечатанные телеграммы монархистов просили Императора Николая II не признавать Г. Думу выразительницей голоса русского народа, т.к. депутаты – случайные люди, не выражающие верности устоям православия, самодержавной монархии и русского национализма. Монархисты рвались бороться со смутьянами и не признавали ограничения вольнодумцами Верховной Царской власти. Упоминания злобных врагов России депутаты отнесли на свой счёт и были оскорблены, моментально начав бороться с чаемой свободой слова. Как выразился «Киевлянин», Г. Дума ещё не получила и «тысячной доли» заслуженных за свои поступки ругательств. Академик А.И. Соболевский назвал черносотенные телеграммы последним мирным средством спастись от революции: потом за словами последуют действия монархистов, вынужденных расстаться «с тёплым углом и мирными занятиями».
Д.А. Хомяков в письме К.Н. Пасхалову 25 мая 1906 г. отмечал, что Г. Дума успешно исполняет замысел по её учреждению, дискредитируя принцип парламентаризма: «улучшение может прийти от гнусности Думы». «Дума – последнее слово гадости, но она сразу открыла всем глаза» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1981 Л.116].
26 мая Государь принял Горемыкина. В.Н. Коковцов писал Горемыкину, что после общения по телефону между министрами «П.А. Столыпин спросил меня, буду ли я у Вас» в 10 ч. вечера.
Согласно газетам, в этот приезд в Петергоф Горемыкин и Щегловитов решили привлечь к судебной ответственности 14 депутатов Г. Думы, подписавших воззвание к рабочим. Суд мог лишить их депутатского звания [«Новое Время», 1906, 30 мая, с.1].
Симпатизирующий политике И.Л. Горемыкина монархист из Омска 27 мая послал ему выражение поддержки: «Будьте же мужественны и не обращайте внимания на государственную-то “дуру”. Успокоить Россию и спасти её может только сильная, твёрдая, решительная, смелая власть, не поддающаяся гипнозу трескучих фраз Петрункевичей и всяких выпущенных из тюрьмы отбросов». «Всё наделал, понятно, поганый Витте. Дай же Бог Вам исправить его ошибки и установить порядок в нашей несчастной, истерзанной скорбями земле. Дума должна быть только совещательным учреждением» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.201].
А.С. Стишинский внёс в Совет Министров аграрный проект правительства о введении частных отрубных участков для каждого домохозяина. Началось формирование землеустроительных комиссий в 32 губерниях, на их работу отпущены 1,8 млн. руб., из них 1 млн. на устройство крестьян. Губернаторы получили особые инструкции относительно этого учреждения. В очередной раз выясняется несостоятельность приписывания П.А. Столыпину аграрной реформы и противопоставлений ему А.С. Стишинского, который якобы поддерживал полное сохранение общины. Правительство Горемыкина обошло Г. Думу в решении земельного вопроса. Блестяще провалилась нелепая пропаганда М.О. Меньшикова в «Новом Времени» о слабости и бездеятельности правительства.
28 мая 1906 г. в группе рабочих в Петербурге, мечтающих о клочке земли дабы поскорее покинуть ряды пролетариата, говорили: «ну, скажите, кто им [?] позволил землёй завладеть. Земля Божья!». Пришвин включился в разговор: «если говорить о Боге, то и Горемыкин скажет, что частная собственность освящена Богом», а рабочие заголосили: нет, нигде «не писано» – в Священном Писании. А как же – не пожелай собственности ближнего? Пришвин и не думает поправлять рабочих, становясь на позиции Горемыкина и Писания, а начинает проповедовать: нет Бога, нет и правды на земле [М.М. Пришвин «Ранний дневник. 1905-1913» СПб.: Росток, 2007, с.7-8].
Тут очевидно влияние пропаганды социалистов и толстовцев, которые «ставят коварный вопрос о дозволенности христианину иметь собственность». Лжетолкователи умалчивают, что «такое воспрещение касалось только призванных быть Его Апостолами» [Архиепископ Никон (Рклицкий) «Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время» Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2012, Кн.3, с.393-394].
На пропагандируемых Л. Толстым экономических теориях Генри Джорджа, отрицавшего собственность на землю, «основывалась нацистская партия» [Д. Голдберг «Либеральный фашизм» М.: Рид Групп, 2012, с.101]. «Возвеличивают и рекламируют фашизм именно те элементы, которые, разочаровавшись в благах демократии, продолжают чувствовать старую ненависть к её антиподу, к подлинной монархии» [«Двуглавый Орёл. Вестник Высшего Монархического Совета» (Париж), 1926, №1, с.14].
Судья Георгий Кругликов в 1906 г. имел о настроении крестьян другие сведения и в ноябре напишет о желании ими земли «непременно в собственность». «Вот почему кадеты не в тон мужичка попали и сели между двух стульев в аграрном вопросе» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.247 Л.22].
Партия к.-д. нанесла «сама по себе поражение в первой Думе», используя приёмы «всякой демагогии: сеять вражду и злобу», «сулит всем и каждому золотые горы» [В. Герье «О программе партии “Народной свободы”» М.: Тип. Русского Голоса, 1906, с.3].
И.Л. Горемыкин более, чем партия к.-д., соответствовал взглядам лучших представителей крестьянства, а не части, склонной к разбою. Писатели-монархисты как правило, ссылались именно на основы христианского вероучения, изобличая ложные посулы революционеров о бесплатной раздаче земли, даровых школах и больницах и неуплате податей. Преступники и убийцы, революционеры сравнивались с волками, а обман социалистов разоблачался тем что всё обещанное народу может быть оплачено только из его собственного кармана через изъятие дополнительных налогов.
Раздел всех казённых, удельных, церковных и помещичьих земель дал бы только 1/8 десятины на крестьянина. Аналогично, требования социалистов к повышению зарплаты рабочим со стороны богатых фабрикантов приводит к вздорожанию цен на товары, оплачивает которые тот же народ [«Союз Русского Народа к честным сынам России» Острогожск, 1908, с.2-3].
Император Николай II во множестве обращений к народу призывал обогащаться через результаты своего труда, поскольку имущественное уравнение способно только всех сделать беднее, а государство не может дать народу больше, чем возьмёт у него налогов. Соответственно, чем более социалисты сулили народа, тем в более крупные изъятия богатства народа они планировали.
Настроенный против партии к.-д. профессор Киевской Духовной Академии Д.И. Богдашевский писал 29 мая 1906 г.: «Довольно уже напроказила эта безобразная “Дума”, чтобы нам опомниться».
А.П. Извольский 29 мая, ссылаясь на сильную занятость, предупреждал что пропустит заседание Совета Министров, полагая что его присутствие там не является необходимым, если «не будет обсуждаться никаких вопросов, непосредственно касающихся» МИД.
Газета «Речь» 30 мая продолжала уверять, что раз «вся Европа» ждёт отставки И.Л. Горемыкина, то министры напрасно называют сообщения о предрешении своей отставки сенсационными слухами. Отрицание мечтаний партии к.-д. «Речь» назвала самоутешением Горемыкина, который «ещё не успел чемоданов разложить в великолепном отеле на Фонтанке». Положение Горемыкина либеральные думские пропагандисты изображали шатким, зато собственное – непоколебимым. З.Г. Френкель убеждал «в неизбежности революции, если правительство осмелится поднять руку на государственную думу». П.Н. Милюков, подводя итоги 1-го месяца работы Г. Думы, тоже переворачивал действительность, сочиняя, будто «министерство лежит поверженное и подняться не может».
Гораздо позже чем следует, академик С.Ф. Ольденбург начнёт признавать регулярно проявляемую нестерпимую неадекватную бесчестность газеты к.-д. и Г. Думы в борьбе с Монархией. Сказанное им 9 февраля 1912 г. тайком, уместее было бы гласно объявить раньше относительно И.Л. Горемыкина. «Я негодовал и на «Речь», явно исказившую прения, и на ораторов» «бюджетной комиссии по Мин. Нар. Просв.». «Они впали в обычную, увы, ошибку русского обывателя, будто бы чиновник ничего не знает и ничего не делает. Чиновники работают в общем много и часто даже очень хорошо и очень часто знатоки своего дела» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.11 Л.341].
Другой очень левый мемуарист тоже хорошо знал как устроена имперская «пирамида очень сильной, умной и хорошо организованной бюрократии, которая лучше, чем кто-либо, осознавала трудности и опасности, угрожающие стране» [К.А. Бенкендорф «Половина жизни» М.: Форум, 2014, с.32].
Неуместность претензий части монархистов на, будто бы, неспособность И.Л. Горемыкина дать убедительный отпор Г. Думе, показывает суждение из письма члена Г. Совета Владимира Череванского от 30 мая: «Горемыкин не в силах отпарировать думское нахальство. В Кабинете всего один нахал и есть – это Гурко, но одного мало. Половина Думы состоит из нахалов».
И.Л. Горемыкин показывал положительный политический пример. Менее всего ему следовало уподобляться депутатам и вступать в перебранки, когда фактическая деятельность правительства свидетельствовала в пользу Горемыкина лучше всего.
Уж точно не надо слушать дурнейших советов красного демократа Крылова, апологета советской сверхдержавности: «вкус к наглости надо развивать» [К.А. Крылов «Русские вопреки Путину» М.: Алгоритм, 2012].
«Новое Время» 31 мая высмеяло, как журналисты партии к.-д. будто бы читают шифрованные телеграммы, которыми обмениваются И.Л. Горемыкин и Д.Ф. Трепов об отставке правительства. Не иначе как «сами почтенные сановники» передают для к.-д. содержание телеграмм и «самые интимные мысли первого министра».
«Русское Слово» сообщало о якобы состоявшемся 31 мая в Петергофе частном собрании Стишинского, Редигера и всей правой части Г. Совета. Среди высказываний о необходимости упорной борьбы с революционерами генерал Трепов считал возможным снять военное положение в отдельных местах, что оспаривал граф Игнатьев. Стишинский преувеличивал рост террористического движения, брожения в войсках и печатной пропаганды, в длинной, имевшей успех речи будто бы укорял Горемыкина в отстранённом безразличии, бывшем в эти дни предметом газетных фельетонов. Сам факт обозначенной встречи нуждается в удостоверении, а тем более весь внутренний ход обсуждений. Слишком часто периодическая печать искажала все касающиеся Горемыкина факты, предрекая увольнения и бесчисленные варианты замены: Фриш, Стишинский и мн. др. Столыпину обещали возвращение в Саратовскую губернию.
Из письма Алексея Игнатьева так раз от 31 мая, вместо сомнительной газетной истории про Петергоф следует нечто более подлинное и интересное. В этот день Горемыкин стремился узнать, какое доподлинное впечатление производит на крестьян правительственная декларация. Горемыкин приглашал прямо к себе крестьян с этой целью: «вы так милостиво приняли сегодня» такого человека, который от Горемыкина следом пришёл к Игнатьеву. Приёмом и чтением Горемыкина этот крестьянин «очарован, но сознался, что не решился высказать Вам всего». «Ему показалось странным, что начинается сообщение с того, что объявляется о предположениях Гос. Думы». И второе замечание, сравнительно с «заманчивыми проектами» революционеров реализм правительства Горемыкина оказывается невыгодным, «слишком длинным». Давний приятель Горемыкина, граф А.П. Игнатьев будет убит террористом 9 декабря 1906 г. в Тверском губернском земском собрании, куда он прибыл для борьбы с либералами.
Корреспондент «Фигаро» взял интервью у ближайшего сотрудника и единомышленника И.Л. Горемыкина, сказавшего: «как сговориться с подобной Думой? Ведь это собрание революционеров». К.-д. являются «рабами крайних партий», составить правительство из к.-д. невозможно. Предрекая буквально всё, случившееся в 1917 г., сановник пояснил, что уже через несколько недель или месяцев к.-д. бы дезорганизовали администрацию, разрушили власть губернаторов, уничтожили дисциплину, и восторжествовала бы полная анархия. Французский корреспондент добавил, что затем он беседовал с И.Л. Горемыкиным, высказавшим то же самое понимание. Дума ничего не сделала для блага народа и гробовым молчанием встретила представленный правительством проект всеобщего начального образования.
1 июня Горемыкин и Столыпин были у Государя в 18-20 часов. П.Х. Шванебах, исполняя желание И.Л. Горемыкина, виделся с А.С. Сувориным, передавая газетчику готовность главы правительства лично с ним повидаться. Суворин просил говорить с ним и по телефону.
В остающемся, к сожалению, неопубликованным полностью, дневнике, министр Кауфман писал 1 июня 1906 г.: «после заседания в котором Горемыкин ни звуком не отозвался на мои слова, он с глазу на глаз сказал мне, что ему довелось в Париже лично познакомиться с некоторыми видными представителями всемирного еврейского союза (масонского) и что в существе моё представление о значении этого союза и его целях верно, но что почвы для соглашения с ним у нас нет, ибо если бы правительство согласилось на объявление равноправия евреев, то народ начал бы их вырезать. Я ему ответил, что я сам в этом убеждён, но с тем ограничением, что резня вспыхнула бы лишь в черте оседлости и то не везде: в Польше и Бессарабии этого бы не произошло, но именно в виду такой перспективы и следовало бы объявить равноправие, ибо тогда сами евреи завопили бы, что его не надо. В таком случае вопрос оказался бы исчерпанным надолго: ограничения оказались бы для евреев спасительною бронёю. Горемыкин со мною согласился, но предложить это героическое средство не решился». Царь и Горемыкин потому никогда не согласились на еврейское равноправие, поскольку оно привело бы к многим жертвам среди евреев, чего они не желали. В данном случае их мнение, по воспоминаниям масона Ковалевского, разделял Витте: про избиение евреев при отмене черты оседлости [А.П. Бородин «Пётр Николаевич Дурново. Русский Нострадамус» М.: Алгоритм, 2013, с.272-274]. После смерти П.М. Кауфмана в Париже от него остались воспоминания, в т.ч. про С.Ю. Витте, и результаты «обширного труда о масонстве. Этим вопросом он был занят давно и собрал богатый материал». «Жалко будет, если его рукописи пропадут, не увидев света» [«Возрождение», 1926, 15 апреля, с.4].
В описанной Кауфманом истории скорее всего не обошлось без Б. Захарова. Либо он являлся одним из упомянутых представителей масонской организации, или же встреча с ними И.Л. Горемыкина состоялась при его содействии. Другие личные контакты с представителями мировой закулисы пока не выявлены, но регулярные встречи с Б. Захаровым в Париже с 1899 г. не подлежат сомнению. Это придаёт определённый вес словам И.Л. Горемыкина о масонской проблеме.
П.Н. Милюков в августе 1934 г. писал, что П.А. Столыпин в мае-июне 1906 г. проводил расследование о происхождении «Протоколов сионских мудрецов» через корпус жандармов. А.А. Мосолов отвечал Милюкову, что сам допускал возможность существования тайной еврейско-масонской организации, получая предложение вступить в ложу. Д.Ф. Трепов тоже «признавал влияние масонов на всемирную политику», о чём Мосолов сообщил Милюкову. Мосолов обсуждал «Протоколы» с директором Департамента Полиции А.А. Лопухиным в промежуток на май 1902 – март 1905 г. О расследовании при И.Л. Горемыкине или ком-либо ещё Мосолов ничего не слышал и не подтверждает его проведение. Нелепейший либеральный миф об использовании С.А. Нилуса П.И. Рачковским против Филиппа Вашоля А.А. Мосолов прямо опровергает: «считаю безусловною баснею» [О.А. Платонов «Загадка сионских протоколов» М.: Алгоритм, 2004, с.441-446].
Г.Н. Михайловский в воспоминаниях о Первой мировой войне, сообщает что в период 1905-6, т.е. скорее всего по поручению интересовавшегося масонством И.Л. Горемыкина, МИД организовал секретный опрос заграничных дипломатов на предмет определения природы и политического значения современного масонства. Сформировалась «объёмистая папка», результаты которой докладывались Царю и рассматривались в Совете Министров. Соединяя вместе разрозненные сведения, получаем, что И.Л. Горемыкин в первые же дни своего правления дал распоряжение провести исследование масонской проблемы одновременно через МИД и МВД. Что не имело ни малейшего отношения к «Протоколам сионских мудрецов». К 1 июня были готовы результаты, которые рассматривались на секретном заседании правительства на квартире Горемыкина.
Поскольку Г.Н. Михайловский пишет, что в последующие годы анкета более не запрашивалась, это тоже можно объяснить личным интересом И.Л. Горемыкина в 1906 г. Говоря о масонстве, не упоминает дело с анкетой высокопоставленный сотрудник МИД В.Б. Лопухин, который опровергает вымыслы, будто масонами могли быть Витте, Куропаткин, Ламздорф, Сазонов, но допускает причастность масонов к подготовке войны 1914 г.
А.Р. Кугель, с несоразмерно преувеличенной сатирической картинностью вспоминал как после 17 октября С.Ю. Витте собрал еврейских журналистов и хотел передать через них послание такому еврейскому союзу как тайному мировому центру управления революцией 1905 г. Фактически же Витте просто собирал журналистов чтобы пытаться договориться с прессой о перемирии.
Бесспорным фактом остаётся противостояние между еврейскими олигархами и правительством Николая II. Ротшильды были в претензии за отказ Императорского правительства допустить их к строительству Транссибирской магистрали, ведущейся исключительно русскими компаниями. Не устраивали их и правила экспорта нефти из России. Ротшильды вели игру на понижение ценности русских акций [П. Ерофеев «Экономические отношения России и Франции в конце XIX – начале ХХ века в донесениях агента министерства финансов А.Г. Рафаловича» Дисс. к.и.н. СПбГУ, 2007]. О противодействии Ротшильдов Царской России, в том числе о борьбе их с Витте, отдельные главы написал их биограф [Н. Фергюсон «Ротшильды. Мировые банкиры. 1849-1999» М.: Центрполиграф, 2019].
Среди множества иностранных врагов Царской России следует помещать финансирование революционных партий Японией, находившейся в состоянии войны с русскими. Признавая, что революция «в значительной мере спонсировалась из-за рубежа», одобряющие такое западное влияние либеральные историки приводят пример с 307 тыс. марок от германских социал-демократов [Е.В. Алексеева «Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало ХХ в.)» М.: РОССПЭН, 2007, с.103]. Революционерами-нигилистами, воспитанными на Писареве, в Токио издавалась и эсеровская газета «Россия и Япония», занимавшаяся агитацией среди русских военнопленных [«Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников» М.: Советский писатель, 1973, с.247].
По сообщению «Русских Ведомостей», И.Л. Горемыкин не дал Щегловитову оставить министерство юстиции, дабы это не показалось уступкой Г. Думе.
В июне 1906 г. по циркулярному прошению губернаторам А.С. Стишинского, указывающего на безотлагательную срочность, были открыты первые губернские и уездные землеустроительные комиссии, устроенные по мысли И.Л. Горемыкина. На авторство Горемыкина в его присутствии определённо указывал Стишинский в речи 31 марта 1911 г. в Г. Совете. Именной указ Сенату об учреждении таких комиссий был издан 4 марта 1906 г., будучи подготовлен Особым Совещанием Горемыкина. Эти комиссии должны были способствовать увеличению крестьянского землевладения путём покупки частновладельческих земель при содействии Крестьянского банка, содействовать переселению крестьян на казённые земли, помогать улучшению условий землепользования и быть посредником при развёрстке угодий. Фактически, именно учреждённые по замыслу Горемыкина комиссии осуществляли в дальнейшем аграрную реформу Императора Николая II.
В губернскую комиссию входил губернатор, предводитель дворянства, член окружного суда, управляющий казённой палатой, представитель удельного ведомства, управляющие местными отделениями Крестьянского и Дворянского банков, представители министерства финансов и МВД, ГУЗиЗ, председатель земской управы, 3 выборных из крестьян и 3 из земского собрания. До декабря 1906 г. было открыто 184 уездные комиссии в 33 губерниях [«Столыпинская реформа и землеустроитель А.А. Кофод» М.: Русский путь, 2003, с.127, 713].
Так что нельзя согласиться мемуарами А.П. Извольского, будто решение Горемыкина не вносить в Г. Думу никакого аграрного законопроекта было ошибкой. Горемыкин ещё до созыва некомпетентных депутатов разработал и провёл основные меры по утверждению актуальной землеустроительной политики.
А. Шебеко 4 июня сообщал в Париж о своём разговоре с А. Извольским о внутренней политике: «как мы, только видит спасение в кадетском Министерстве, что обуздает Г. Думу и даст возможность её сплавить без скандала» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1982 Л.27].
Вновь оказались ошибочными демагогические обвинения в адрес бюрократических комиссий в том что в них не представлены крестьяне для защиты своих интересов. Абсурдность требований выдвижения выборных крестьян не ради функциональной постановки дела, а ради номинального представительства дошла у утопически мыслящих критиков до пожеланий видеть крестьян в составе Государственного Совета [Н.М. Павлов «О значении “выборных” по русскому народному воззрению» Харьков: оттиски из журнала «Мирный Труд», 1905, с.18, 25].
Критики либеральных писем из деревни Энгельгардта грубовато указывали в прежние годы: выйдя из-под опеки помещика, крестьянин «сделался теперь рабом своей общины» [К.Н. Леонтьев «Полное собраний сочинений и писем» СПб.: Владимир Даль, 2017, Т.10, Кн.2, с.845]. Ещё при Императоре Александре III К.П. Победоносцев выступал за роспуск крестьянской общины и замену её независимыми частными хозяйствами – за идею, которую будет воплощена Горемыкиным в 1906 г. [Р. Пайпс «Русский консерватизм» М.: Новое издательство, 2008, с.183].
4 июня в 14 ч. А.А. Половцов был у Горемыкина, который проклинал Витте за депутатов Г. Думы: «грязные подонки населения, сплотившиеся в разбойничью шайку. Теперь не остаётся ничего иного, как распустить думу, затем созвать её вновь, повлияв всеми возможными средствами на выборы, а если и это не поможет, то вновь распустить думу и издать новый избирательный закон. Горемыкин решился приняться за энергические меры, начиная с прессы». Как видим, последующие действия П.А. Столыпина будут соответствовать плану, составленному Горемыкиным относительно выборов и законов.
Подобное описанному И.Л. Горемыкиным засорение Г. Совета выборными депутатами не явилось бы чем-то положительным, как ничего хорошего собою не являла Г. Дума. Составление законодательного аппарата следует производить по принципу профессиональной компетенции, а не представительства. Наличие каких-либо сословных позиций или интересов требует правильного понимания, а не голого манифестирования с трибуны. Имперский бюрократический режим давал нужное совмещение знаний о желаниях крестьян с правильным оперированием средствами к движению в лучших из возможных направлений.
Не располагавший точными сведениями М.Я. Герценштейн 5 июня писал, будто И.Л. Горемыкин в Г. Совете говорил, что Думу не собираются распускать даже на каникулы.
Тем временем в Соединённых Штатах 5 (18) июня 1906 г. банкир Якоб Шифф писал президенту Т. Рузвельту: «возможно, вы и госсекретарь Рут сумеете придумать, как оказать давление на правительство России в том смысле, чтобы оно прекратило подстрекать низшие слои населения к кровопролитию». Противник Дома Романовых распространял в США ложные сообщения о том, будто еврейские погромы организуются Русским правительством и ни слова не говорил о массовых убийствах, совершаемых революционерами, в том числе многочисленными еврейскими террористами.
В действительности же правительство Горемыкина и монархисты повсюду боролись с самосудом, какой народ направлял против «действительных или мнимых революционеров “крамольников”, разумея под этим названием прежде всего евреев, затем студентов и, наконец, всякого интеллигента». Возмущение, направленное против революционного террора, в таких случаях наносило ущерб «правым и виноватым, без всякого разбора». Оно вызывалось многочисленными актами убийств монархистов, поруганием религиозных святынь народа [С.А. Соколовский «Революционеры и Чёрная сотня» Казань: Царско-народное русское общество, 1906, с.5].
Кронштадские священники организовали во время погрома черносотенный крестный ход с иконами и хоругвями, который «заметно утишил бурю» «и способствовал сохранению имущества городских обывателей», за что получили благодарность от Императора Николая II, Синода, городского головы и множества купцов и мещан [Б.П. Кандидов «Религия в царской армии» М.: Безбожник, 1929, с.49].
Н.Е. Марков в 1917 г. дал исчерпывающие объяснения ЧСК относительно деятельности СРН и позднее в эмиграции убедительно отвечал на каждую либеральную клевету: забывая про тысячи убитых революционерами монархистов, «в этих погромах обвиняли войска, обвиняли полицию, обвиняли власти (обвиняли, конечно, ложно). Но ни на местах, ни в иеремиадах еврейских радетелей в Гос. Думе ни слова не было сказано об участии Союза Русского Народа в белостокском или седлецком погромах» [«Возрождение» (Париж), 1931, 16 января, с.5].
Ответственность за всю совокупность насилия полностью ложится на революционное движение, которое будучи разгромленным черносотенцами, стало вести пропаганду, клеветнически совмещающие вызванные революционным насилием погромы с Императорским правительством и монархическими организациями. Хотя они, в отличие от стихийного народного возмущения, такие погромы никогда не организовывали, а боролись с ними по мере возможностей. Естественно, что приоритет борьбы с революционерами оставался на первом месте, т.к. стихийные погромы против них нельзя было предотвратить, не устранив сперва причину, их вызывающую.
Среди целей таких нападений на революционеров становились и губернские здания земской управы, где собирались либералы и социалисты, стрелявшие в народ из окон [А.С. Лаппо-Данилевский «Методология истории» М.: Академический проект, 2013, с.399-400].
Другой тип революционных погромов имел чисто грабительскую природу: еврейские погромы и погромы помещичьих усадеб совершали в 1905-6 г. одни и те же уголовники, отнюдь не монархисты [Н.А. Цуриков «Прошлое» М.: НЛО, 2006, с.178]. В частности, утверждали, что в Киеве в 1905 г. при разгроме банкирской конторы Я.Б. Эпштейна было похищено ценностей на сумму более 700 тыс. руб. [«Яков Борисович Эпштейн, Киевская контора государственного банка и присяжный поверенный Вильгельм Финн» Киев, 1912, с.23].
Н.Е. Марков стремился очистить СРН от всех недостойных личностей вроде пьяных хулиганов, а против погромщиков предлагал «заводить пулемёты» [А.А. Иванов «Вождь чёрной реакции. Николай Евгеньевич Марков» СПб.: Владимир Даль, 2023, с.249].
Уполномоченный Нежинского отдела СРН в телеграмме Царю указывал, что Союз предан «делу умиротворения народных масс и борьбе с изменниками» [«Вече» (Москва), 1906, 29 августа, с.1].
3 июня член совета министра внутренних дел Фриш был отправлен в Белосток для расследования истории погрома и обстрела революционерами полицейского управления из окон соседних домов. Террористы были разогнаны войсками. Ситуацию в Белостоке характеризует и немногим ранее, в апреле, брошенная в фабриканта бомба. За три дня до погрома революционеры убили белостоцкого полицмейстера П.П. Дергачёва, который обеспечивал сохранение порядка в городе.
До И.Л. Горемыкина доходили просьбы о помощи пострадавшим от погромов. В «м. Богополе, Подольской губернии, был в прошлом году страшный погром, во время которого совершенно сгорели два корпуса экономических лавок, вследствие чего я понесла более 50 тыс. убытков. Реставрировать лавки на свои средства я не могу» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1436 Л.73].
В начале июня 1906 г. представлявшийся И.Л. Горемыкину пермский губернатор, мемуарист А.В. Болотов получил от него однозначное напутствие: «действуйте решительно, решительно и решительно» в борьбе с революцией. Но обладавший узким кругозором недавно назначенный при П.Н. Дурново губернатор, игнорируя положение других губерний и не интересуясь общим положением Империи, не оценил идейного настроя И.Л. Горемыкина и вместо того чтобы проявить требуемый дух служения опорой Престола, напротив, висел на Троне, т.е. эгоистически жаловался на наличие только двух пехотных полков на 500 тысяч рабочих. Не понятно, сколько же ещё полков затребовал бы себе перепуганный губернатор, почему-то считающий такое оптимальное сопоставление войск и населения недостаточным. И.Л. Горемыкин мог только развести руками перед губернатором, встретив такую слабость духа вместо требуемой им решительности.
Другие же, как вятский губернатор С.Д. Горчаков, крайне энергично, с полной идеологической убеждённостью сражались в 1906 г. с революционной заразой в земстве и печати [Т. Сабурова, Б. Эклоф «Дружба, семья, революция: Николай Чарушин и поколение народников 1870-х годов» М.: НЛО, 2016, с.263]. Важную вспомогательную роль играли монархические организации, отделения Русского Собрания и СРН. Из Полтавы непременный член губернского присутствия писал А.И. Соболевскому 14 октября 1906 г.: «почти всё лето ездил по губернии частью для водворения порядка, частью для производства разных расследований. Затем я получил несколько брошюр от Бутми, но от Моск. Союза р. людей, если им были посланы брошюры собственно на моё имя, я не получал». «Недавно открытый нами киоск для продажи газет работает отлично: очень ходко идут «Друг» Крушевана, «Русское Знамя», «Вече», «Киевлянин» и «День». По недостатку средств и за отказом редакций дать нам газеты на комиссию, мы выписали их в незначительном количестве экземпляров, а теперь приходится увеличивать их втрое и вчетверо. Здесь в Полтаве организуется вторая монархическая партия «отдел Союза Русского Народа». Что из этого выйдет – пока судить нельзя, но что [революционный] угар начинает выветриваться – это не подлежит сомнению» [СПФ АРАН Ф.176 Оп.2 Д.531 Л.52-53об.].
Депутат Г. Думы Богдан Залевский 5 июня 1906 г. сообщал в письме, что правительство «без сомнения» «ещё настолько сильно, что справится со всякой революцией» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1982 Л.36].
На заседаниях правительства 7 и 8 июня обсуждался принципиальный пункт охранительной борьбы с террором: «начиная с французской революции 1789 года пресса всегда являлась сильнейшим разрушительным орудием в руках революционной партии». Правая печать мала и заглушена. Коковцов, Кауфман и Извольский считали опасным немедленный роспуск Г. Думы. Остальные министры постановили, что «выжидательная по отношению к Думе политика в расчёте на падение её авторитета в глазах мыслящего населения была бы политикой приемлемой», но ввиду ожидания мятежа нужны решительные меры [«Особые журналы Совета министров Российской империи. 1906» М.: РОССПЭН, 2011, с.28-30].
Правительство Горемыкина продолжало держаться оптимальной линии, по которой учреждение Г. Думы запускало контролируемый самоподрыв идеи парламентаризма и упадок революции.
Такую сознательную стратегию приходилось втолковывать недальновидным торопыгам, не желающим вникнуть в замысел учреждения Г. Думы. Когда руководитель Петербургского охранного отделения Герасимов призвал разделаться с революционной говорильней, Горемыкин остановил его: «ну, ну полковник, не надо так горячиться. Вы слишком молоды и потому принимаете всё всерьёз. Поживёте с моё, будете спокойнее. Всё устроится. Надо предоставить события естественному ходу вещей». На ответную реплику, что Г. Дума порочит министров и дискредитирует власть, Горемыкин отозвался самоуверенно: «ну, если министров так оскорбляют, то им не нужно и ходить в Думу. Пусть они там варятся в собственном соку. Таким путём Дума сама себя дискредитирует в населении» [А.В. Герасимов «На лезвии с террористами» Париж, 1985, с.75-76].
В одной из предыдущих моих книг про систему организации февральского переворота уже выяснилась полная недостоверность отдельных эпизодов воспоминаний Герасимова, особенно касающихся Г.Е. Распутина [С.В. Зверев «Генерал Краснов. Информационная война 1914-1917» Красноярск: Тренд, 2015, с.55].
Это накладывает серьёзные сомнения, насколько верны утверждения Герасимова о мере влияния на Горемыкина П.И. Рачковского. Якобы на Фонтанке, 16 они стали проводить вместе целые дни, Рачковский стал политическим советником Горемыкина, по его поручению организовывал правые партии, руководил Союзом Русского Народа, наблюдал за работой Г. Думы. Многое, начиная с того, будто Рачковский инициировал отставку Витте, либо не имеет точных сторонних указаний, или же опровергается множеством доводов. Назначение И.Л. Горемыкина происходило совершенно не так, как описывает и характеризует его Герасимов. Только весьма давний замысел Горемыкина по разложению репутации Г. Думы вполне соответствует реальности и потому его стоило воспроизвести.
В упоминавшейся уже серии статей «Карьера Рачковского» в 1912 г. говорилось, по-видимому, с повышенной сравнительно с книгой Герасимова точностью, что в качестве председателя Совета Министров Горемыкин взял себе Рачковского в качестве «ближайшего» сотрудника. Он получил комнаты для канцелярии в доме МВД на Фонтанке. Секретарём его стал Веригин, будущий вице-директор. У Рачковского толпилось много просителей, среди которых называют и доктора Дубровина, они помногу и часто общались на неизвестные темы.
Это никак не указывает на то, будто организацией Союза Русского Народа занимался Горемыкин. Дубровин и руководство СРН всегда гордилось своей независимостью от властей. Ведение переговоров с представителями правительства обусловлено задачами согласований направлений общественной борьбы с революционным движением, а вовсе не созданием или управлением СРН Горемыкиным или Рачковским.
Автор используемых статей утверждал, что ввиду давнишних хороших отношений, Горемыкин обращался к Рачковскому за советами по важным вопросам и прислушивался к нему. Такой тип консультирования характерен для Горемыкина, принятие решений которого всегда было принципиально обусловлено политической целесообразностью и эффективностью. Уход Горемыкина выбьет почву из-под Рачковского, т.к. Столыпин тоже совещался с ним, но по более узкой теме сыска. Идейного совпадения, как в случае с Горемыкиным, с ним быть не могло, отсюда и значение Рачковского в министерстве определялось именно Горемыкиным, при котором Рачковский мог вести официальную переписку с французскими политиками и пользуясь своими связями, заниматься иностранным делами дополнительно к МВД.
Если Герасимов использовал этот конкретный источник или любой такой же по памяти, этим объясняются допущенные искажения. Даже газетные статьи – не самый убедительно надёжный материал, например, про некий подробный дневник Рачковского. Но они точнее годами отдалённых от событий мемуаров и во многом подтверждаются. На недостоверность Герасимова обращал внимание и П.Н. Милюков, отрицая непонятно откуда взятый пересказ своего разговора с П.А. Столыпиным, состоявшийся в присутствии одного А.П. Извольского.
На судебном процессе над революционерами адвокат Грузенберг обзавелся копией письма А.А. Лопухина П. Столыпину от 14 июня 1906 г., в котором сообщалось что Рачковский распространял прокламации через Дубровина и Грингмута [«По законам Российской империи» М.: Юрид. лит., 1976, с.292].
То что А.И. Дубровин выступал при И.Л. Горемыкине в качестве просителя, оказывается достоверным фактом, как и передача денег на нужды СРН через П.И. Рачковского. Но эта поддержка правых организаций безусловно имеет вспомогательный разовый, а отнюдь не учредительный характер. Точнее всех это описал в отчёте о денежных суммах доктор Дубровин в недатированном письме И.Л. Горемыкину. Оно относится ко времени после 15 мая 1906 г.
А.И. Дубровин упоминает, по-видимому, ставший известным факт его встречи с И.Л. Горемыкиным: «прошу извинить меня за те неприятности, которые нечаянно причинил Вам своей назойливостью. Тот сочувственный приём Ваш и обмен мнений, бывший между нами и послужил теперь причиной недоразумений. Поверьте, что всё это мне очень больно. Десять тыс., полученные мною через Петра Ивановича переданы мною в Союз – пять в редакцию газеты «Русское Знамя», без чего газета прекратила бы уже своё существование, а пять в кассу Союза (расписку назначения препровождаю для удостоверения), (редакционной расписки не имею, потому что деньги занесены в чековую книжку банкирской конторы Алфёрова). Я имел в разговоре с Вами мысль, что лично не преследую никаких целей и ничего не ищу: никогда не страдал ни честолюбием, ни корыстолюбием. Работал и продолжаю свою работу только из сознания долга. Не дальше как в ночь на среду, т.е. с 13-го на 14-е подвергался опасности быть убитым поджидавшими меня революционерами и не придаю этому ровно никакого значения. Что буду в силах, то сделаю, что сделано, известно только мне. Союз наш крепчает и разрастается несмотря ни на какие препятствия. На днях я получу нужные мне средства из Кредитного Общества под залог моего дома и буду в состоянии вести своё дело пока что. А там… Всё в руках Божиих; может не понадобится больше! Надеюсь обойтись без субсидий. Ещё раз прошу простить меня и верить, что если я беспокоил Вас, то не из личных побуждений. Ни Вы, ни дорогой Пётр Иванович больше не будете тратить дорогого времени напрасно в разговорах с человеком, не знаю как выразить… Примите уверение в совершенном почтении и преданности» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д. 735 Л.3-4].
Современный биограф А.И. Дубровина оставил без внимания его встречи с И.Л. Горемыкиным и не приводит сведений об упомянутом покушении на руководителя СРН. На данный момент выглядят малоубедительно попытки отрицать, что в дальнейшем Дубровин уничтожил свою положительную репутацию и подставил под удар всё черносотенное движение своей причастностью к убийству Герценштейна [Д.И. Стогов «Черносотенцы: жизнь и смерть за Россию» М.: Институт русской цивилизации, 2012, с.58].
Хотя во многом из-за подобных неправомерных действий Дубровина с ним порвали все другие лидеры СРН, что привело к образованию отдельной дубровинской организации. А.И. Дубровин, допрашиваемый перед убийством чекистами, ни разу не назвал имени И.Л. Горемыкина среди министров, занятых делами СРН.
Другой влиятельный руководитель Союза Русского Народа, Виктор Соколов, резко критиковавший Витте и Столыпина за конституционализм, в скором времени скажет, поддерживая мифологию о безразличии в духе Клячко, что ему не известно отношение И.Л. Горемыкина к монархическому движению, не упоминая несомненный факт поддержки СРН. «Враждебных шагов с его стороны мы не видели. Отношение его можно охарактеризовать безразличием. И думается мне, что оно покоилось главным образом на убеждении, что мы не представляем никакой реальной силы» [В.П. Соколов «Страшная правда!» СПб.: Отечественная типография, 1907, с.11].
Судя по тому же извиняющемуся письму, А.И. Дубровин и его окружение считали разовую помощь от И.Л. Горемыкина недостаточной, и были не в восторге от его нежелания открыто связывать себя с СРН. Но дальнейшее некрасивое и даже преступное поведение Дубровина подтвердило, что Горемыкин повёл себя весьма предусмотрительно.
Минский губернатор П.Г. Курлов 6 июня 1906 г. в циркуляре, обращённым ко всем полицейским силам, предписал всего лишь «не чинить препятствий к распространению» изданий Союза Русского Народа, посвящённых служению Царю и защите православной веры «законными средствами». Несмотря на предельно ясные выражения Курлова, изуверская либеральная пресса снова начала лгать, будто циркуляр доказывает организацию правительством погромов. «Новое Время» зато сообщало о благодарностях, полученных Курловым от Минского еврейского общества, за меры предотвращения беспорядков.
По данным переписки минской губернской администрации с Пинским отделом СРН, видно, под каким гнётом революционного террора находились русские монархисты в июне 1906 г. и кем раздувалось насилие: «жизнь членов Союза [Русского Народа] находится в опасности, т.к. получение разрешений на ношение оружия крайне затруднено» [Н.Н. Ново-Аксайский «Политическая эволюция западнорусской чёрной сотни» Минск, 2016, с.165].
Революционные издания, ничем не стесняясь, печатали самый отъявленный бред, будто Курлов резал «евреев в Минске», а Нейдгардт опустошал «огнём и мечом еврейские кварталы Одессы» [А.В. Амфитеатров «Происхождение антисемитизма. Ч.1. Еврейство и социализм» Берлин, 1906, с.10]. Сплошное перечисление ложных сведений по любому вопросу продолжено у современных либеральных конспирологов, усматривающих в единстве монархических взглядов существование «созревшего антисемитского заговора» и повторяющих прямую ложь, будто в 1906 г. Курлов «не преследовал мародёров» в Минске, «позволит вершить самосуд» [Э. Левин «Дело Бейлиса и миф об иудейском заговоре в России начала ХХ века» М.: НЛО, 2022, с.47, 78]
«Московские Ведомости» уведомляли о происходивших 8 и 9 июня на квартире А.С. Стишинского совещаниях с участием Столыпина и Гурко, правых членов Г. Совета, даже К.П. Победоносцева.
Собравшиеся в Москве представители Союза Русского Народа в июне послали телеграмму И.Л. Горемыкину, доводя до его сведения, они едва сдерживают «справедливое негодование верноподданных самодержавного царя – своих единомышленников от стихийного взрыва и самосуда над врагами православной церкви, государя и русской народности, они вынуждены настоятельно просить правительство о немедленном принятии твёрдых и решительных мер к обузданию» Г. Думы и клеветнической печати [«Союз Русского Народа по материалам ЧСК» М.-Л: Госиздат, 1929, с.8].
10 июня продлено положение усиленной охраны в Бердичеве, Гомеле Таганроге, Нижнем Новгороде, где происходили революционные погромы.
11 июня 1906 г. Л.И. Шестов писал из Киева, что благодаря генерал-губернатору В.А. Сухомлинову евреям нет оснований бояться погромов: «ему можно верить вполне. Губернатор Савич утверждает то же. А раз власти не захотят, беспорядков не будет, тем более что Киев теперь на военном положении. Вот мы и спокойны» [Наталья Баранова-Шестова «Жизнь Льва Шестова. По переписке и воспоминаниям современников» Париж, 1983, Т.1, с.86].
«Русское Слово» передавало, что Горемыкин был недоволен «болтливостью» Столыпина в Г. Думе, моментальными ответами на вопросы депутатов. Горемыкин хотел первым получить результаты расследований погрома в Белостоке. Столыпин, Кауфман и Щегловитов, по сведениям газеты, оказывались левее Горемыкина, который уверенно смотрел на победу правительства над революционерами и на бессилие Г. Думы.
А.Ф. Редигер вспоминал об этом в письме от 27 декабря 1906 г.: «Самая противная мысль – это о будущей Думе». Он должен был выступить в защиту Армии относительно Белостокского расследования, «но утром того же дня получил указание Государя (по телефону) не ехать в виду совершенной бесполезности подвергать меня неизбежному скандалу» [РГИА Ф.1698 Оп.1 Д.68 Л.44об.].
12 июня Николай II принял Горемыкина после чая. 13 июня Половцов получил от Горемыкина подтверждение решения после небольшой паузы распустить Г. Думу, этот шабаш на лысой горе, как её звали монархисты. 13 июня правительство рассмотрело работы по соединению Уссурийской железной дороги с Сибирской магистралью.
По сообщению «Нового Времени» 13 июня у Горемыкина состоялось совещание правительства с обсуждением вызывающего поведения депутатов Г. Думы относительно министров. Министры решили, продолжая отвечать за запросы, не вступать в пререкания. Обсуждалась также проблема предотвращения и подавления революционных погромов. Существенным обстоятельством министром признали несомненную бездеятельность Г. Думы, утонувшей в безполезных словопрениях. Решение о роспуске в связи с этим подразумевалось, но пока ещё скрывалось от газетчиков.
Столыпин сообщал Горемыкину 15 июня, что близкий к председателю правительства правый монархист князь Касаткин-Ростовский, ссылаясь на Горемыкина, всюду рассказывает о принятом 7-8 июня решении Совета Министров распустить Думу. Преждевременное раскрытие этого считалось нежелательным.
В начале июля Касаткин-Ростовский будет избран председателем Всероссийского союза собственников, учреждённого членами Г. Совета, предводителями дворянства и землевладельцами. Среди учредителей были А.С. Ермолов и граф А.П. Игнатьев.
Юморист Л. Львов в «Бюрократических силуэтах» (1908) приписывал Н.Ф. Касаткину-Ростовскому фразу на сессии Г. Совета: «шесть лет тому назад была решена участь России на Сионистском конгрессе». Его же утверждение, что евреи «уплатили японцам» миллионы «за их согласие начать войну» в определённой степени оказывается справедливым и подтверждается в исторической литературе относительно Я. Шиффа.
Согласно мемуарам В.Н. Коковцова, И.Л. Горемыкин вовсе не был склонен к разговорчивости о роспуске, «неохотно реагировал» на доводы А.С. Стишинского об опасности промедления. Оставалось только ждать когда Царь определит точную дату роспуска.
В.Н. Коковцов писал Николаю II об «опасности престолу» со стороны к.-д., если дать им министерские посты. В Петергофе Коковцов говорил о необходимости «готовиться к роспуску Думы» и пересмотреть избирательный закон [Е.А. Соколова «Эволюция общественно-политических взглядов В.Н. Коковцова (1866-1943)» Воронеж, 2009, с.51].
М.О. Меньшиков всё ещё судорожно пытавшийся превратить «Новое Время» в орган к.-д., угодливо писал 15 июня: «если кадеты не называют себя ни русской партией, ни национальной, то это именно признак того, что они партия в лучшем смысле национально-русская». Зато такие сочинения показывают, что предатель Меньшиков, в своём стремлении держать нос по революционному ветру, дошёл до самых позорных нелепостей. Подлинные националисты активно выражали свою поддержку И.Л. Горемыкину, всецело опасаясь партии к.-д. Их успокаивали газетные сообщения, что составление смешанного правительства с участием к.-д. при части министров Горемыкина Император Николай II считает совершенно невозможным.
А.С. Суворин, хотя и сдержанно, но критиковал к.-д. за губительную связь с революционерами, которая лишает их всякой вероятности претендовать на власть. По его словам, к.-д. просчитались, полагая, что уже захватили Россию, т.к. правительство И.Л. Горемыкина проявило прямолинейное грубое упорство и не собирается никуда уходить.
А.Д. Нечволодов 17 июня 1906 г. прислал ещё одно письмо И.Л. Горемыкину: «лидер демократической партии Соединённых Штатов Северной Америки Вильям Брайан приехал вчера вечером в Петербург, а завтра 2 июля в 4 часа дня уезжает на пароход в Норвегию. К 12 часам дня он приглашён в Государственную Думу, а в 11 ½ ч. утра – очень хотел бы быть у Вашего Высокопревосходительства, чтобы лично засвидетельствовать Вам чувства своего глубокого уважения. Г. Брайан просит меня – узнать у Вас, можете ли Вы принять его в этот час, и потому прошу не отказать передать мне Ваш ответ через курьера» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1438 Л.203].
Опиравшийся на толстовство Уильям Брайан выступал против золотого стандарта, разжигая классовую неприязнь рабочих к держателям капитала, заявляя о противоположности их интересов, популистски нагнетая страсти о выдуманном «заговоре менял», чем пытались воспользоваться противники Витте в Российской Империи. Но предлагаемый им биметаллизм заметно более экономически уязвим сравнительно с тем что делал Витте, т.к. вносит лишние проблемы с обращением серебра и устойчивостью курсов [G.F. Herrick, J.O. Herrick «The Life of William Jennings Bryan» Chicago, 1925, p.123,150,212]. Антикапиталистические настроения Брайана историк американского консерватизма зовёт апокалиптическими и антисистемными [M. Continelli «The Right» Basic Books, 2022].
Американец Лойк де Лобель подготовил проект сооружения железной дороги от Канска до Берингова пролива, поддерживаемый Витте. Американский синдикат обязывался привлекать русских переселенцев, а не заселять иностранцев. И.Л. Горемыкин в июне 1906 г. дал согласие на розыскание предполагаемой трассы. Однако затем при Столыпине концессию не предоставили из-за сомнений в окупаемости [В.В. Лебедев «Русско-американские экономические отношения (1900-1917)» М.: Международные отношения, 1964, с.97].
В дневнике помешавшегося на ненависти к Витте Киреева упоминается, что против Лобеля были Коковцов, Шауфус.
19 июня Горемыкин навещал Государя в Петергофе, после чая. Газетное сообщение об экстренном выезде Горемыкина к Николаю II в этот день оказывается достоверным, но прибавление, будто Горемыкин решительно настаивает на роспуске Г. Думы, являлось надуманным, т.к. этот вопрос уже был окончательно предрешён.
Передача казённой земли в пользу Сибирского Казачьего Войска обсуждалась в Совете Министров 20 июня. Были рассмотрены резолюции Императора на отчётах о состоянии губерний.
Русский националист А. Савенко, приехавший с письмом от Д. Пихно, был удивлён, что 20 июня вместо записи на приём И.Л. Горемыкин сразу встретил его в доме на Фонтанке.
«А я ведь пришёл только разузнать. Через минуту меня уже позвали к председателю совета министров. У самых дверей кабинета меня встретил красивый старик невысокого роста, с красивыми бакенами. Он был в мягких туфлях и бесшумно ходил по ковру. Во всей его осанке, в манерах чувствовался сановник. Держался он очень просто, слегка сурово.
– У вас письмо от Дмитрия Ивановича? Дайте его сюда!
Я дал И.Л. объёмистое письмо. Усадив меня, он тотчас стал читать письмо. Я рассматривал кабинет и его обитателя…
Чтение письма, видимо, произвело на И.Л. хорошее впечатление. Минуту помолчав, он спросил:
– Что ещё скажете?
– Дмитрий Иванович очень интересуется знать, каково общее положение, и что правительство намерено делать с революционной Думой, – сказал я.
– Гм! Но это, разумеется, не для печати?
– Разумеется!
– Передайте Дмитрию Ивановичу, что я вполне разделяю его взгляды. Правительство склоняется к тому, чтобы распустить эту Думу, так как никакая работа с ней невозможна. Но этот вопрос ещё не решён.
– Но скоро он решится?
– Да, скоро, я думаю, на днях».
И.Л. Горемыкин назначил А. Савенко другой приём через несколько дней. Д. Пихно распорядился передать письмо также А.П. Игнатьеву и другим правым монархистам. Разведывать их настроения Савенко должен был 2-3 недели. Он отмечает что и во второй раз его провели прямо в кабинет Горемыкина, чья доступность положительно выделяла его от пышных приёмов Столыпина в следующие годы.
«На этот раз И.Л. доверительно сообщил мне, что вопрос о роспуске Думы принципиально решён, что решено также произвести роспуск Думы без изменения избирательного закона, но что другие детали ещё не выяснены. Всей беседы я не могу передать и теперь».
Опасность роспуска Горемыкин отверг: «Революционный взрыв? Восстание? Какая чепуха!.. Ничего не будет, хоть сейчас роспустить Думу! – сказал И.Л. со спокойной уверенностью». Савенко вспоминает, будто во всём Петербурге только А.С. Суворин тоже считал что восстания не будет. А.П. Игнатьев допускал, что его легко подавят, но если оставить Г. Думу, она подготовит по-настоящему страшное восстание [«Киевлянин», 1914, 6 февраля, с.2].
А. Савенко не преувеличивает, что в те дни газета «Речь» говорила тоном победителя и поэтому монархисты опасались сдачи власти партии к.-д., как того желал Д.Ф. Трепов.
21 июня газета «Речь» сообщала курьёзный слух, что составить новый кабинет поручено А.С. Ермолову, и в нём В.Д. Набоков получит МИД, а Герценштейн – минфин. Такие сведения сообщали из группы центра Г. Совета, которой руководил Ермолов [«Агентские телеграммы», 1906, №2-3].
Группа центра подготовила запрос И.Л. Горемыкину по поводу беспорядков в области внутренних дел, путей сообщений, торговли и промышленности, системы образования. Комиссия, подготовившая запрос, включала Н.И. Петрова и Н.С. Авдакова.
Газеты передавали также, что А.С. Ермолов вносил группе центра не явно выраженное, но тем не менее предложение, подразумевающее недоверие правительству И.Л. Горемыкина, и оно было с уверенным перевесом мнений отвергнуто. Переписка Ермолова подтверждает, что он был сторонником ухода Горемыкина.
Военный министр Редигер в письме от 21 июня выражал «полнейшее сочувствие» переданным И.Л. Горемыкиным запискам и желал содействовать распространению «верных взглядов среди офицеров и нижних чинов», обещая участвовать в составлении брошюр, опровергающих революционную пропаганду. Редигер поручил командующим войсками дать нижним чинам истолкование правительственного сообщения по земельному вопросу, дабы солдаты «писали успокоительные письма на родину».
Затем 22 июня из Царского Села А.Ф. Редигер писал: «Глубокоуважаемый Иван Логгинович, Государю Императору было угодно, чтобы в Думе, при рассмотрении Белостокского дела, я выступил в защиту войска, но сегодня мне, по телефону, передано Высочайшее повеление, “что мне в Петербурге не надо быть”. О том, что в Думе не буду, я вместе с сим пишу П.А. Столыпину, прося его сказать то, что я имел сказать».
По результатам расследования истории погрома в Белостоке 23 июня петербургский комитет по делам печати возбудил 45 дел против редакторов газет за распространение заведомо ложных сведений о действиях армии и городских властей.
В.Н. Коковцов даёт очередной прекрасный пример как нужно понимать частые утверждения мемуаристов про «равнодушие», свойственное И.Л. Горемыкину. 23 июня министры просили его переговорить с председателем Г. Совета, чтобы заручиться его поддержкой против Г. Думы. Горемыкин отказал им: «Государственный Совет нам не поможет». «Прошу не придавать этому делу никакого значения». Правильство тогда хотело выделить для помощи крестьянству 50 млн. руб. на заготовку семян после неурожая 1905 г. Г. Дума, действуя, как всегда, во вред национальным интересам, снизила сумму поддержки крестьян до 15 млн. И.Л. Горемыкин предложил теперь же скорее отпустить 15 млн. и внести новое представление на недостающую сумму. Вместо Горемыкина поехал вести переговоры с Г. Советом Столыпин и потерпел неудачу, ничего не добившись. «Правым оказался Горемыкин».
Проявленное Горемыкин безукоризненно точное понимание расклада политических сил и категорическое неприятие бесполезной траты времени самым нелепым образом именовали равнодушием, безразличием или ленью. Несостоятельность таких оценок очевидна.
26 июня с устоявшейся регулярностью раза в неделю Горемыкин был у Государя, затем – 3 июля.
Вечером 27 июня под председательством И.Л. Горемыкина проходило заседание Совета Министров. На нём рассматривалось переселенческое движение, которое, по выражению авторов «Нового Времени», «заливает все свободные земли». За 5 месяцев 1906 г. через Челябинск в Сибирь последовало 86 тысяч крестьян. Отмечалась особенная привлекательность Енисейской губернии. Война привела к некоторому сокращению переселенческих кредитов, но бюджетная смета на 1906 г. увеличилась. Совет Министров одобрил передачу на заселение участков, предназначавшихся под частновладельческие хозяйства. На этом же заседании правительство продлило усиленную охрану в Закаспийской области ещё на год. Рассматривалась также возможность введения польского языка в частных школах, подобные дела были переадресованы Сенату для проверки соответствия законодательству. В Сенат отправили и дело о порядке жалования академикам – членам Г. Совета. Помимо того, И.Л. Горемыкин отклонил проект принятия подоходного налога ввиду малой пользы (на 40 млн. руб.) и сложностей с его администрированием.
Левым депутатам никак не давали покоя опубликованные телеграммы верноподданных монархистов. На вторичный запрос относительно напечатанных телеграмм на Высочайшее имя в «Правительственном Вестнике» 29 июня был оглашён новый ответ И.Л. Горемыкина, что предание гласности таких обращений не подлежит ведению Г. Думы. Когда вскоре после ухода Горемыкина телеграммы перестанут печататься, это станет одним из поводов для неприязни к П.А. Столыпину со стороны черносотенцев.
По запросам о смертной казни было оглашено другое объяснение Горемыкина. Точнее сказать, ровно такое же: никаких объяснений по данному вопросу не полагается. В.Д. Набоков каждый раз был в ярости: «мы заявляем, что и негодование наше прежнее» [«Восточный Край» (Иркутск), 1906, 4 июля, №3, с.1].
Изгоев отмечает, что ответив С.А. Муромцеву насчёт черносотенных телеграмм, Горемыкин взял огонь на себя, а Столыпин отмолчался, хотя это был вопрос по его части [А.С. Изгоев «Столыпин. Очерк жизни и деятельности» М.: Кн-во К.Ф. Некрасова, 1912, с.28].
Отказ в отмене смертной казни объясняется тем, что с 1 по 14 июля 1906 г. было совершено 143 покушения на должностных лиц, из них убито 65 и ранено 66, не пострадали 12. За те же 15 дней революционеры совершили 115 ограблений. С 1 по 15-е августа 1906 г. – 470 покушений и 164 ограбления [Х. Бьеркегрен «Скандинавский транзит» М.: Омега, 2007, с.87].
Министр путей сообщения Шауфус, как стало известно «Биржевым Ведомостям», признавался одному торговцу в скором конце правительства под началом Горемыкина, а «Речь» приводила заявление Коковцова о выходе в отставку всего кабинета. Газета «Слово», регулярно печатая дезинформацию, ожидала прихода коалиционного министерства во главе с Ермоловым и назначения Трепова министром Двора.
Время от времени изменявший принципам русского национализма М.О. Меньшиков в «Новом Времени» всецело поддерживал идею составления правительства из к.-д., поддерживая их программу и считая сильными людьми. В последнем Меньшиков через год разочаруется, но ясно что из себя представляет этот публицист исходя из таких оценок. Критикующий его Владимир Грингмут занимал более последовательные монархические позиции, но как многие в черносотенной прессе, запутался в конспирологическом тумане непонимания Императорского правительства, не особенно исправившись в этом отношении после замены Витте Горемыкиным. Согласно переписке Василия Розанова, Грингмут в 1906 г. распространял критику правительства лично на Императора Николая II.
На заседании Г. Совета получила продолжение история с семенами. В.Н. Коковцов в мемуарах умолчал о том что не вписывалось в вымысел о равнодушии. Хотя И.Л. Горемыкин не видел смысла тратить время на кулуарные уговоры, он официально выступил 30 июня: «И.Л. Горемыкин доказывал полную невозможность обойтись 15 мил. р., утверждёнными Думой. Необходимы все 50 мил. р. теперь же и не заставлять министров входить каждый раз с ходатайством, по 15». О каком равнодушии может идти речь, когда И.Л. Горемыкин произнёс буквально следующее: «исполнительная власть делает всё от неё зависящее, чтобы не оставить народ без семян, и я заявляю здесь, что мы его не оставим без семенной помощи, чего бы это нам ни стоило».
Там же выступил и В.Н. Коковцов. Г. Совет, однако, погряз в прениях. Репортёры сообщали, что выступление И.Л. Горемыкина началось недостаточно громко для заседания Г. Совета, но постепенно крепнет, «сильно» повышает тон и чеканит фразы. Он назвал непонятной выбор Г. Думой суммы в 15 млн. руб., т.к. если её и хватит на семена, то она недостаточна для удовлетворения продовольственных нужд. И.Л. Горемыкин указал также на срочность помощи, т.к. посев озимых следует произвести в 20-х числах июля, иначе будет поздно. Недопустимо тянуть и с посылкой хлеба нуждающимся в продовольствии, помимо семян: «надо закупить хлеб, отправить его в нуждающиеся губернии, раздать населению, – на всё это потребуется время. Я настаиваю, чтобы все меры были приняты заблаговременно» [«Новое Время», 1906, 1 июля, с.2-3].
Долго революционная пропаганда и петербургские сплетники выдумывали клевету о том, будто медлительный Горемыкин не даёт никому бороться с голодом. А на деле оказалось что И.Л. Горемыкин всех торопит и подталкивает, а учреждение Г. Думы никак не помогает народу. Напротив, демократически настроенные депутаты только служат помехой правительству Горемыкина. На это указал и А.С. Стишинский, говоря о несправедливости обвинений в запаздывании продовольственной помощи правительства. Стишинский назвал недопустимым и посягательство Г. Думы на сокращение переселенческих кредитов – везде социалисты стремились навредить крестьянству.
Показательно, что при почтении Г. Советом памяти убитого революционерами в Севастополе вице-адмирала Г.П. Чухнина, некоторые представители партии к.-д. и академики-интеллигенты не встали с места.
Как отмечалось в посвященном ему издании, левые партии проиграли монархистам: успешная «работа умного, спокойного и энергичного адмирала уже сулила успокоение в возмущённом Севастополе», «верные присяге начали глубоко сознавать тлетворное влияние горсти революционеров». 1-е неудачное покушение на убийство Г.П. Чухнина совершила в январе 1906 г. террористка, которая «оказалась еврейкой». Соответственно с этим при Витте в донесении морскому министру Г.П. Чухнин писал: «мы победили здесь революцию», но «всё русское общество парализовано – в этом главная опасность». «Русских людей невидимо для них евреи ведут к междоусобной войне, к самоуничтожению, на чём они хотят устроить свою силу. Все это понимают, но нет величия духа для противодействия. Необходимо открыть карты, чтобы государство знало куда идёт» [«Вице-адмирал Григорий Павлович Чухнин по воспоминаниям сослуживцев» СПб.: Голике и Вильборг, 1909, с.225-227].
Отпор, который дал либералам и революционерам И.Л. Горемыкин, вполне соответствует желанию Г.П. Чухнина определённой поддержки позиций монархистов правительством.
Г. Совет пошёл на поводу В. Вернадского и других левых вредителей, отвергнув поправки И.Л. Горемыкина 74 голосами против 47 из страха поссориться с Г. Думой. А.С. Ермолов выразил эту трусость и беспомощность центристов: «Я готов разделить соображения Горемыкина и Коковцова», «но я не вижу никакого выхода, кроме того, который оставляет нам Г. Дума». Поддерживая позицию И.Л. Горемыкина, А.Б. Нейдгардт в своей речи тоже упомянул распространившийся страх перед Г. Думой и протестовал: «Нам нет дела до того, что Г. Дума желает иметь ответственное министерство», Г. Совет обязан рассматривать законопроекты «ради пользы народа». Представитель Виленской губернии в Г. Совете, И.О. Корвин-Милевский, игнорируя эту пользу, обиделся на чрезмерную решительность Горемыкина: «Председатель Совета Министров очень твёрдо, с преднамеренною настойчивостью сообщил нам, что обсеменение им будет произведено во что бы то ни стало и даже уже производится». Заигравшегося в парламентаризм депутата огорчила такая «конституционная некорректность», даже при фактическом несогласии с Г. Думой. Епископ Антоний (Храповицкий) целиком поддержал позицию И.Л. Горемыкина, не скрывая возмущения угодливостью перед Г. Думой: «в продолжение двух дней, к моему удивлению, тут идут прения не о том, как лучше помочь голодающим, а» «о том как бы не обидеть Думу». «Это грозит гораздо худшим безобразием, чем наша прежняя бюрократия, на которую все так нападают».
И.Л. Горемыкин неопровержимо доказал превосходство монархического принципа над конституционными условностями, существующими ради самих себя в ущерб национальным интересам. Преимущество монархического правления в устранении возможности нанесения такого вреда сформированными пропагандистским аппаратом выборными представительствами.
Авторы «Нового Времени» считали что таким способом Г. Дума надеется «без передышки отравлять жизнь министерству Горемыкина» и предотвратить возможность её роспуска, отпустив средства только на 2-3 месяца и заставив выпрашивать кредиты снова. Расчёт депутатов навредить России и тем самым выгородить себя, не оправдается. Г. Дума ещё глубже закопала себя перед всеми кто следит за её работой и показала что в её существовании имеется только негативный смысл. Следовательно, Царю и И.Л. Горемыкину незачем терпеть её.
Левая пресса не понимала что в действительности происходит и пыталась сделать вид, будто Россия подчинена интересам Г. Думы и прислуживает ей, а не наоборот. По ложной версии газеты «Русское Слово» «последняя поездка в Петергоф Горемыкина окончательно решила судьбу кабинета. Высшие сферы признали, что дальнейшее существование кабинета угрожает подорвать престиж верховной власти, так как члены кабинета и их представители не только не сумели внушить к себе уважение со стороны народных представителей, но демонстративно старались выказать, что вся сила их заключается в том, что они назначаются верховной властью» [«Восточный Край» (Иркутск), 1906, 1 июля, №1, с.2, №2, с.2].
Те же либеральные газеты сообщали что Стишинский, Гурко, Шауфус, Редигер и Шванебах подали И.Л. Горемыкину и Совету Министров доклад о превышении Г. Думой должностных полномочий.
Между тем депутаты продолжали стараться нанести России как можно более разрушительного революционного урона. Депутат М.И. Михайличенко намеренно оскорбительно высказывался в адрес Царицы: «красыва, як свинья», и Царя: «маленький, дрянненький». «Я была глубоко оскорблена в своих сказочно-разукрашенных представлениях» [А.Н. Березина «Семья. Школа. Революция. 1902-1920» СПб.: Коло, 2015, с.24].
По записи в дневнике В.М. Безладновой от 30 июня 1906 г. о крестьянских беспорядках, «у нас много портят письма двух членов Думы, [В.И.] Бея и [П.Н.] Михаленко, из соседних деревень. Они подбунтовывают крестьян» [РГИА Ф.1102 Оп.1 Д.257 Л.58].
Попытки революционеров подобным образом навязать свою повестку и всем общественным организациям встречали сопротивление их участников: 7 июля во внутреннем отклике на издание Общества гражданских инженеров отмечалось, что пропаганда марксизма и эсеровщины преследует «узко партийные взгляды с примесью социализма и прочих революционных бредней» [П.Н. Гордеев «Гражданский инженер П.М. Макаров и его воспоминания» СПб.: РГПУ, 2022, с.26].
Согласно письму Н. Геккель из Чистополя, «благодаря беснованиям» Г. Думы, «снова разыгрываются аппетиты на всё чужое», но «теперь пропаганда уже не столь стихийно действует на ум и волю крестьян, которые начинают к ней относиться всё-таки несколько критически» [РГИА Ф.1282 Оп.2 д.1982 Л.6].
Завершение правления Горемыкина, вполне благополучно сумевшего переиграть революционеров, советские и либеральные историки стараются изобразить чем-то неудавшимся, для чего в ход идут откровенные вымыслы.
Д. Тредголд в американском журнале славянской и восточноевропейской истории за 1951 г. писал, что Милюков переоценил возможности своей партии управлять Г. Думой, а «особенно он недооценил Столыпина, который был на голову выше Горемыкина». Такой подсчёт голов – чистой воды политическая мифология, вне всякой исследовательской разработки.
Другой историк, который в СССР лично преследовал диссидентов, заимствуя очередное ошибочное мнение у Владимира Гурко, называет И.Л. Горемыкина аморфным, но премудрым царедворцем, которого будто бы «перехитрил» Столыпин, заняв его место [П.С. Кабытов «П.А. Столыпин» М.: РОССПЭН, 2007, с.137].
Возвышение Столыпина состоялось в соответствии с политическим планом Горемыкина и желанием Императора. Никакой тайной борьбы против Горемыкина Столыпин не вёл и потому отнюдь не побеждал его.
Недостоверны записи С.Ю. Витте, будто отставка была для Горемыкина неожиданна, что это была интрига Столыпина. Есть другое место из записок Витте: «судя по отношению Горемыкина к Столыпину, едва ли он не считает, что Столыпин желал его ухода». Такое додумывание у Витте в продолжении мемуаров выставляется уже за нечто конкретное, причём со ссылкой на мнение Горемыкина.
На самом деле, после отставки Горемыкин встречался с Витте и много чего с ним обсуждал. Зная взгляды и поведение Горемыкина и Столыпина можно найти много чем Горемыкин мог быть недоволен и с чем не согласен. Это нисколько не отменяет безусловно доказанного факта добровольного временного отхода Горемыкина и прямой рекомендации им на своё место Столыпина.
30 июня 1906 г. «Киевлянин» предупредил о том что И.Л. Горемыкин подаёт прошение об отставке, одновременно добиваясь роспуска Г. Думы. «И.Л. Горемыкин? Он был министром в иные дни, в дни величия России… Не для себя ему нужна власть в нынешние столь печальные дни, когда министр рискует жизнью, но не может оградить и свою честь от надругательств и посягательств проходимцев, разбойников и даже просто мошенников в любом уличном листке и в “законодательном учреждении”».
Редакция «Киевлянина» не вполне точно поняла прошение Горемыкина о роспуске Г. Думы как некое условие сохранения им власти. Такого рода ультиматума Горемыкин не мог поставить Николаю II. Другие министры, Столыпин или Коковцов иногда пользовались такой угрозой отставки, но не Горемыкин. А. Савенко в 1914 г. напишет что последний раз виделся с Горемыкиным 5 июля 1906 г. Поскольку «Киевлянин» получал информацию от него напрямую, можно точно удостоверить ложь Витте о неожиданности отставки. Позднее, в начале 1927 г. станет известно, что большевики нашли в архиве Савенко в Киеве письма, полученные им от И.Л. Горемыкина.
А.И. Савенко вспоминал, что когда другие пытались переубедить Императора Николая II, «умный, спокойный И.Л. Горемыкин, хорошо знающий жизнь, Россию и природу нашей революции, решил дело, и в то время, как другие снимали с себя ответственность, он принял на себя всю ответственность за последствия роспуска Думы…». На случай выступлений в пользу Г. Думы были приняты военные приготовления в С.-Петербурге, но перестраховка не понадобилась. Депутаты уехали в Выборг. Аладьин бежал обратно в Англию ещё за несколько дней до роспуска. Именно после этого спасительного удара И.Л. Горемыкина революционная волна схлынула, считал националист Савенко.
3 июля «Новое Время» опровергало «Биржевые Ведомости» насчёт отставки И.Л. Горемыкина и предполагаемой замены его правительства министрами из Г. Совета и Г. Думы. По сведениям газеты, в этот день Горемыкин отбыл в Петегроф на пароходе «Онега».
Согласно газетам, вечером 4 июля Совет Министров рассматривал проект устройства второго пути Сибирской железной дороги и порядок составления бюджетов ведомств на будущий год.
Г.О. Раух, бывший в это время генерал-квартирмейстером штаба С.-Петербургского военного округа вспоминал, что 4 июля Великий Князь Николай Николаевич, командующий войсками округа, приказал Рауху приехать к И.Л. Горемыкину и договориться с ним о встрече относительно военных приготовлений к роспуску Г. Думы. Они увиделись вечером в 20.30 во дворце на Михайловской площади, 13. На вопрос Великого Князя о мотивах роспуска отвечал П.А. Столыпин, объясняя, что нельзя допустить образования правительства из представителей партии к.-д., «Горемыкин молчал» [«Возрождение» (Париж), 1930, 19 сентября, с.3].
Однако незадолго до роспуска и некоторое время после переговоры с партией к.-д. о вхождении в состав правительства вели П.А. Столыпин и Д.Ф. Трепов. Их замысел был в устранении Г. Думы руками самих партийных радикалов. И.Л. Горемыкин не принимал в этом участия и явно считал такой план удара по революции излишним и рискованным. П.Н. Милюков пишет, что переговоры велись неискренне, т.е. Столыпин тоже далеко не был уверен в пользе включения оппозиции в Совет Министров и скорее выведывал планы оппозиции [П.Н. Милюков «Три попытки» Париж: Франко-русская печать, 1921].
Монархисты очень настороженно относились к манёврам Д.Ф. Трепова, считая что он продолжает совершать ошибки за С.Ю. Витте: теряя всю поддержку правых, таким путём никаких союзников слева найти невозможно. Видя противостояние между И.Л. Горемыкиным и Д.Ф. Треповым, русские монархисты всецело поддерживали первого в его планах роспуска Г. Думы против её сохранения по плану Трепова.
Бессмысленность переговоров П.А. Столыпина, помимо к.-д., с правыми либералами, показывают воспоминания Д.Н. Шипова, которому 25 июня передавал намерения Столыпина Н.Н. Львов. «Мне представляется несомненным, что если в образованный мною кабинет мне удастся привлечь только своих единомышленников, как например: графа П.А. Гейдена, князя Г.Е. Львова, то такой кабинет встретит в Государственной Думе такое же отношение, как и кабинет И.Л. Горемыкина» [Д.Н. Шипов «Записки» // «Руль» (Берлин), 1921, 2 августа, с.2].
Д.Н. Шипов прямо опровергает необоснованную мысль П.А. Столыпина (в пересказе Н.Н. Львова), будто его назначение на место И.Л. Горемыкина сделает правительство авторитетным в глазах Г. Думы. Зато, как считал далее Шипов, такое новое правительство, в отличие от И.Л. Горемыкина, не сможет опереться на русские монархические традиции и сразу же вынуждено будет подать в отставку.
Интересно сравнить эти позднейшие воспоминания с заблуждениями Д.Н. Шипова 3 мая 1906 г., высказанными в письме: «пока кадеты не будут призваны составить кабинет, до тех пор революционное настроение не утихнет». Шипов добивался полной капитуляции Императора, Правительства и Г. Совета перед к.-д., т.е. собственно, перед их революционным настроением, предлагая сдать Россию партии к.-д. Шипов высказывал недовольство правыми монархистами в Г. Совете, ориентирующимися на политику Императора Николая II, а не на к.-д., которых Шипов ошибочно отождествлял «с новым строем» [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1980 Л.28].
Новым строем был тот Самодержавный режим, который желали видеть Император Николай II и И.Л. Горемыкин, а не к.-д.
В интервью «Новому Времени» 26 июня анонимный высокопоставленный чиновник неодобрительно отозвался о вредных высказываниях Д.Ф. Трепова, план которого составить правительство из к.-д. является его личной инициативой, не поддерживаемой Императорским правительством. И.Л. Горемыкин показал себя с лучшей стороны, не отплачивая Д.Ф. Трепову публичным отрицанием его значения. В этом видели «скромность, опытность и осторожность Ивана Логгиновича. Он не станет подражать графу Витте, который так любит беседовать с корреспондентами». Генерал Трепов повёл себя менее корректно, осуждая И.Л. Горемыкина за то что тот не сидит в Г. Думе «ежедневно» и не отстаивает там «каждый шаг правительства». Хотя со стороны Горемыкина явится бессмысленной тратой времени такое поведение, заменившее бы настоящую продуктивную политическую работу.
Как потом напишет в «Старорежимном чиновнике» В.Ф. Романов, 1-я Г. Дума показала «полную свою деловую импотенцию».
М.О. Меньшиков 5 июля 1906 г. продолжал поддерживать идею сильного правительства к.-д. против “слабого” И.Л. Горемыкина и, устраивая позорную пляску на костях убитого адмирала Чухнина, выдумал “драму” в его подчинении «высокопревосходительству г. Горемыкину». Слабость же проявлял только перепуганный революцией Михаил Меньшиков, побежавший поддерживать к.-д. дабы снискать расположение ненавидевшей его левой интеллигенции.
Ещё годом ранее П.В. Никитин жаловался монархисту В.Р. Розену на предательскую неустойчивость газеты: «каково «Новое Время». Если бы как-нибудь случилось, что верх взяли бы окончательно и официально радикалы, не оказалось бы оно со своим Меньшиковым в самых передних их рядах» [СПФ АРАН Ф.777 Оп.2 Д.312 Л.12об.].
Вопреки всякой логике левые либералы и социалисты пытались представить монархическую политику Горемыкина разрушительной для системы Самодержавия. Милюков утверждал: «министерство г. Горемыкина, по слухам, хочет дать новую пищу народному уму». «Конфликт между Думой и министрами Горемыкин широко популяризировал в среде населения при помощи своей декларации и министерских прокламаций. Этот конфликт народная мысль переварила по-своему, сделав из него те конституционные выводы» [«Российские либералы: кадеты и октябристы» М.: РОССПЭН, 1996, с.138-139].
П.Н. Милюков тем самым уверился в своём умении читать мысли на расстоянии. Но его утверждения о революционных последствиях действий Горемыкина оказались ошибочны: первому министру Императора удалось показать политическую ничтожность Думы сравнительно с бюрократическим профессионализмом и монархической верностью. Три монархические организации подали И.Л. Горемыкину такую докладную записку о 1-й Г. Думе: «недостойное зрелище сразу оттолкнуло от Думы многие десятки тысяч культурных людей, непривыкших к столь неприятным формам политического общежития» [Г.А. Ивакин «Черносотенство в политической системе Российской империи начала ХХ века. Диссертация д.и.н.» М.: РАНХиГС, 2014, с.304].
Ленин написал статью, в которой в своих партийных интересах также посчитал заявления Горемыкина играющими на пользу революции: «крестьяне будут учиться уму-разуму от Горемыкина, а не от Муромцева», возомнившего Г. Думу настоящим правительством, а Совет Министров лишь министерством. Ленин считывал народные мысли иначе, чем Милюков. Ленин полагал, что из отрицаний Горемыкина крестьяне увидят, какие должны быть настоящие требования к властям и «захотят посчитаться» с Г. Думой [«Ленин и революция: 1905 год» Л.: Лениздат, 1980, с.281].
С другой стороны, в статье про роспуск меньшевик Ф. Дан писал, что депутаты пришли в Г. Думу для захвата правительственной власти. Иначе «они слишком очевидно осуждали себя на полное ничтожество, на полную зависимость от господ Горемыкиных и К». Но в партии к.-д. писали законопроекты для ответственного министерства, как будто для премьер-министра Милюкова, когда правительство возглавлял Горемыкин. «Вопрос о том, как поставить Милюкова на место Горемыкина, они решали так, что нужно предположить, будто Милюков уже занял место Горемыкина, будто уже вопрос о государственной власти решён» [«Отклики» СПб.: Слово, 1906, Сб.1, с.16, 21].
6 июля правительство рассмотрело введение в Киевской губернии военного положения ввиду вооружённых столкновений крестьян, настроенных агитаторами против войск и полиции.
Будучи участником подготовки устранения 1-й Г. Думы, А.С. Стишинский 6 июля писал И.Л. Горемыкину: «вопрос слишком важен. От удачного изложения Манифеста о роспуске Думы многое зависит. Не признаете ли вы полезным просить В.И. Гурко составить свой проект? Если будет несколько версий, тем лучше, будет из чего выбирать, хотел бы соединить отдельные части одного проекта с частями другого. А талантливое перо Владимира Иосифовича может нам очень помочь. Я уверен, что по Вашей просьбе он не откажется от этой трудной задачи и своевременно её исполнит» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1231 Л.14].
Купец 1-й гильдии Григорий Александрович Крестовников 7 июля 1906 г. просил Горемыкина уделить несколько минут по делу основанного в 1902 г. Московско-Кавказского нефтепромышленного товарищества. В 1906 г. Г.А. Крестовников вошёл в Г. Совет и председательствовал в Московском биржевом комитете. Его записку передал Горемыкину Коковцов, судя по расположению бумаги среди их переписки. Однако едва ли Горемыкин успел поучаствовать в данном деле.
Бумагопрядильная фабрика т-ва бр. Крестовниковых ещё до 1902 г. выстроила для рабочих многоэтажные каменные дома с водопроводом, освещением и отоплением [В.В. Святловский «Жилищный и квартирный вопрос в России» М.: РОССПЭН, 2012, с.202].
По дневнику Императора и другим документам точно следует, что указ о роспуске Г. Думы был подписан Горемыкиным 7 июля, но 8-м числом: «принял Горемыкина; подписал указ о роспуске». Горемыкин после частного совещания с несколькими министрами, включая Столыпина и Щегловитова, прибыл в Петергоф 7 июля на яхте «Разведчик», выехав в 16.30 и вернувшись в 22.20.
Отставка же Горемыкина была оформлена вечером 8 июля. В 16.30 он выехал в Петергоф на пароходе «Онега», в 18.55 его со Столыпиным принял Император: «от 5 до 8 ½ разговаривал с Горемыкиным, который уходит, и со Столыпиным, назначаемым на его место».
8-м числом подписан и рескрипт: «снисходя на просьбу Председателя Совета Министров, члена Государственного Совета, сенатора, действительного тайного советника Горемыкина – Всемилостливо увольняем его от занимаем им должности председателя Совета Министров с оставлением членом Государственного Совета и в звании сенатора».
По воспоминаниям Владимира Гурко, 8 июля 1906 г. Фредерикс пытался убедить Императора и И.Л. Горемыкина в преждевременности роспуска Г. Думы. Ему это не удалось. Французский посол М. Бомпар утверждал, что те же попытки предпринимал Д.Ф. Трепов, желая предварительной встречи Государя с С.А. Муромцевым. В воспоминаниях Бомпара, изданных в Париже в 1937 г., содержатся малоизвестные сведения о том, что вечером 8 июля Горемыкина в Петергофе Государь принимал с заготовленным текстом указа о роспуске, и Горемыкин опасался отмены подписанного днём ранее решения [С.В. Тютюкин «Июльский политический кризис 1906 г. в России» М.: Наука, 1991, с.50-55].
Если так, то точно не соответствуют истине вымыслы о том, будто таковая отмена состоялась, а Горемыкин не исполнил распоряжения Царя. Неверны и записи А.А. Киреева 12 июля 1906 г., будто Горемыкин очень обиделся на порядок увольнения – Царь не сообщил ему об этом прямо и в любезной форме, А.С. Стишинский узнал от своего чиновника. Если насчёт Стишинского необходимо проверить отдельно, то проведённая реконструкция роспуска Думы исключает горемыкинскую версию Киреева, ошибающегося чрезвычайно часто.
Вечером 8 июля до редакции «Нового Времени» уже дошли сведения об увольнения Горемыкина и Стишинского, но кто их сменит оставалось неизвестным.
Весьма курьёзным недоразумением выглядит версия, будто И.Л. Горемыкин был назначен и уволен по настоянию Д.Ф. Трепова, из-за того что Горемыкин не исполнял требований Трепова, в т.ч. инструкцию об обращении с Г. Думой на её заседаниях. Под грифом АН СССР можно было сочинять и печатать любой вздор [А.М. Давидович «Самодержавие в эпоху империализма» М.: Наука, 1975, с.185].
Сопоставление записок Витте с достоверными данными о разногласиях между Горемыкиным и Треповым приводит к совершенно иным заключениям. Витте опирается на рассказ Горемыкина, бывшего у него в гостях в 1908 г. (что трудно согласуется с утверждениями Витте о бесконечных интригах Горемыкина, враждебного отношения со стороны Горемыкина опять не видно). Отношения Горемыкина с Треповым стали «невозможными», по пересказу Витте. Затем, инструкция Д.Ф. Трепова о необходимости активно посещать Г. Думу и отстаивать позиции правительства появилась «незадолго до закрытия Думы» (и обсуждалась в прессе). Не владея ситуацией, Витте и за ним многие историки не поняли, что вопрос о роспуске разрешён был вполне себе задолго. Т.е. для Николая II предложенное в инструкции касалось политики по следующему созыву, а не этому. Горемыкин отвечал Царю, что следование инструкции ни к чему не приведёт. Что и произойдёт, когда Горемыкин попросил увольнения и предложил взамен Столыпина, который начал заниматься словопрениями и «не давать никому спуска в Г. Думе», но 2-я Дума кончилась ровно как 1-я. Лично Горемыкин не только не хотел вступать в споры с депутатами ввиду бесполезности. Сама личность, репутация Горемыкина не годилась для этого пути, в отличие от «приспособляющегося» «либерального» Столыпина, расположение которого к Г. Думе секрета не составляло. Тем самым политической стратегией Николая II было после оглушительного провала 1-й Г. Думы доказать всем, что причина неудач выбранных депутатов отнюдь не в Горемыкине, а в них самих. Это прекрасно удалось, что докажет необходимость смены избирательного закона.
Приписанное же Горемыкину утверждение, будто Трепов убедил Царя уволить его, противоречит собственному несомненному желанию Горемыкина уйти. Поэтому Витте ошибся, как всегда, когда клеветал насчёт лицемерия и непоследовательности Николая II.
Столь же недостоверен что и дневник Киреева, дневник Половцова, согласно которому 10 июля он слышал от Горемыкина, будто его увольнение со Стишинским, в отличие от запланированного устранения Г. Думы, произошло неожиданно.
А.С. Стишинский в августе сам рассказывал Богданович, что был недоволен формой своей отставки, о которой он узнал из газеты, однако ж Горемыкин предупредил Стишинского о своём уходе, но старался оставить его в составе правительства и потому просил подождать хотя бы один день и не подавать в отставку. Про Стишинского в газетах писали, что он только начал развешивать гардины в новой министерской квартире, когда чиновник, испытывая неловкость, порекомендовал ему открыть новый номер «Правительственного Вестника».
В.Н. Коковцов в 1917 г. вспоминал, что И.Л. Горемыкин «был в таком восторге, что его уволили»: воспринимал власть как тяжёлое бремя (что никак нельзя назвать эпикурейством). Простодушное весёлое настроение Горемыкина, сообщавшего о роспуске Г. Думы Коковцову, может дополнительно объясняться и удовлетворением от того что Монархии удалось взять над депутатами верх, устранить создаваемые ими проблемы.
Как узнал Стишинский, Горемыкин говорил Царю 8 июля, что «весьма охотно» покинет Совет Министров, т.к. сам не желает власти и принял её только по распоряжению Его Величества. История с неразбуженным Горемыкиным впервые появляется в дневниках Богданович в феврале 1907 г. со ссылкой на Шауфуса, который скорее всего передавал чужие рассказы, нежели придумал это сам. Это выдумали те же остряки, которые называли Кабинет Горемыкина сонным и нашли забавным его окончание оформить красивой легендой о проспавшем министре. Эпоха была богата на бесконечные анекдоты, стишки, эпиграммы, исполнявшие роль политической карикатуры.
Исследователи политического фольклора, однако, уверяют, что антисоветские анекдоты намного злее, чем более лояльные и мягкие антимонархические, начала ХХ века [М. Мельниченко «Советский анекдот. Указатель сюжетов» М.: Новое литературное обозрение, 2014, с.9].
Е.А. Нарышкина в «Моих воспоминаниях» пишет в соответствии с Царским рескриптом, что «уставший Горемыкин» «попросил об увольнении», причём она не списала это из самого рескрипта, т.к. за давностью лет решила, что роспуск Г. Думы произошёл после смены Витте на Горемыкина на посту министра внутренних дел. А.Ф. Редигер также уверен, что И.Л. Горемыкин сам попросил отставку, хотя точно и не знает этого. Во всяком случае это соответствует именному указу Государя. В.Н. Коковцов пишет что Горемыкин очень радовался своему уходу из правительства.
А.Н. Куломзин писал, что Столыпин был против роспуска Думы. Е.Н. Шелькинг утверждал, что при обсуждении вопроса о роспуске Г. Думы за были только Царь, Горемыкин и Столыпин. Николай II сказал: «что же, Иван Логгинович, нас победили». – «Государь, от вашей державной воли зависит всецело поступить так, или иначе. Я своего мнения не меняю». Царь покрутил ус в раздумии, перекрестился и ответил: «пусть будет по-вашему, Иван Логгинович». Горемыкин «тотчас» отправился в типографию и распорядился печатать указ о роспуске. «В типографии он, между прочим, нашёл оттиски прокламации кадетской партии народу с требованием ответственного кабинета. Он приказал отнести эти оттиски в свою карету и вернулся домой. Надо отметить, что престарелый премьер, вообще, обладал олимпийским спокойствием, не покидавшим его в самые критические дни его долгой карьеры. Как ни в чём не бывало, он сел за стол, пообедал и, выкурив обычную сигару, отправился на покой». В полночь от Царя прибыл курьер с приказанием не распускать Думу и явиться в Царское Село. Курьер был отпущен под предлогом того, что он спит, хотя с его письмом министр ознакомился. Когда указ вышел, «Горемыкин отправился в Царское Село принести монарху свои верноподданнейшие извинения, подав при этом свою просьбу об отставке, которая была принята и, на его место, по его указанию, назначен был П.А. Столыпин. Через некоторое время, И.Л. Горемыкин с супругой отправились за границу, где провели несколько месяцев. Горемыкин покинул пост свой так же, как и занял его – без особенной радости, но и без всякой горечи» [«Историк и Современник», Берлин, 1923, Вып.4, с.154-155].
Шелькинг в начале 1918 г. позволял себе включать в мемуары множественные подтасовки, будто Коковцов был навязан Столыпину как полная его противоположность по принципу Николая II разделять и властвовать. В английском тексте у Шелькинга Горемыкин ссылается не на волю Монарха, а на права, предоставляемые конституцией. Что явно фальшиво. Там же есть дополнительная фраза Горемыкина: «Дума полностью превысила свои полномочия и должна быть поставлена на место». Слова Царя в ответ: «Во имя Господа, распустите Думу». Также, в версии 1918 г. за конституционное правительство из к.-д. высказывается созванный Николаем II Г. Совет. В 1923 г. Шелькинг меняет его на некий Верховный Совет. В ранней редакции кроме сигары упомянуто и раскладывание пасьянса, обед проведён с семьёй. Из мелочей, есть отличия о прибытии курьера точно в 23.30 с приглашением к Царю в 11 утра (всё ещё не в Петергоф). Горемыкин же поручил передать, что он не просто спит, а не вполне здоров.
Весьма существенное отличие в нежелании Императора Николая II утром принимать отставку Горемыкина. «Горемыкин, однако, проявил настойчивость. Он снова подал в отставку, сказав императору, что любое порицание за роспуск, которое может последовать, должно пасть на него, который действительно виноват, и настаивал на том, чтобы его отставка была принята. Император в конце концов уступил» [E. Schelking «Recollections of a Russian Diplomat» New York, 1918, p.263-265].
По рассказу начальника Главного управления по делам печати, И.Л. Горемыкин не просто лёг спать раньше времени и распечатал пакет только утром, но даже и целый день перед роспуском Г. Думы специально провёл вне дома [А.В. Бельгард «Воспоминания» М.: Новое литературное обозрение, 2009, с.286].
Шауфус рассказывал А.В. Богданович 23 февраля 1907 г. ту же историю об отмене роспуска в 3 часа ночи, но Горемыкина не разбудили. Нелепые истории, как обычно, пересказывает Куломзин, в его мемуарах неразбуженный Горемыкин на другой день «шепнул» Николаю II не набирать в новый кабинет популярных лиц.
Во всех этих историях лишь одна неувязка: ещё вечером 7 июля 1906 г. И.Л. Горемыкин явился на заседание Совета Министров от Царя с радостным для него известием о роспуске Думы на 9-е число и своей отставкой от нежеланного высокого поста. Столыпин в тот же вечер приехал к министрам в качестве их нового председателя [К.А. Соловьёв «Ситуация реформы. Несостоявшаяся революция 1906 г.» // «От «Кровавого воскресенья» к третьеиюньской монархии» М.: АИРО-XXI, 2015, с.23].
Очень странно, что либеральный историк после такого сообщения, не занимаясь сличением с другими вариантами этой истории, продолжает придерживаться записи В.Н. Коковцова, что пакет от Императора Горемыкин не читал, т.к. приказал себя не будить. Но Коковцов приводит этот фантастический рассказ только чтобы его полностью опровергнуть. Поскольку Горемыкин на то время уже оставил председательство над министрами, распоряжение об отмене роспуска должно было поступить не к нему, а к Столыпину. К тому же, дневник Царя от 9 июля 1906 г. выражает удовлетворение состоявшимся роспуском. Бесчисленны ложные легенды, сопровождающие Царствование Николая II, и с полной тщательностью надо избавиться от каждой. Кирилл Соловьёв, увы, оказывается склонен к подавляющему из числу.
Либеральный газетчик Л. Львов, похоже что ошибается, считая будто вечером 8 июля, приехав из Петергофа, И.Л. Горемыкин по телефону сообщил Коковцову, Шванебаху и Щегловитову о своей отставке. В действительности это произошло днём ранее.
Председатель Г. Думы С.А. Муромцев получит подписанное И.Л. Горемыкиным распоряжение передать государственному секретарю все дела и денежные суммы.
В.Г. Глазов в Москве записал в дневнике 8 июля: «не ехал, т.к. ожидается разгон Г. Думы и беспорядки» [РГИА Ф.922 Оп.1 Д.11 Л.211].
«Насколько охватывает глаз, видны совершенно пустые улицы», — писали в «Новом Времени» об отсутствии каких-либо выступлений 9 июля в защиту Г. Думы. «Н. Время» приветствовало перемены, поскольку П.А. Столыпин «искренно» сочувствует существованию Г. Думы и его назначение воспринималось как гарантия её сохранения. 9 июля, для дополнительного успокоения либералов, был уволен и крайне правый обер-прокурор А.А. Ширинский-Шихматов.
Академик В.Р. Розен написал 9 июля В.В. Бартольду, узнав о роспуске: «думаю, что это хорошо, ибо настоящая Дума кроме глупостей-мерзостей ровно ничего не делала» [СПФ АРАН Ф.68 Оп.2 Д.211 Л.70].
13 июля, пишет Государь: «после чая принял Горемыкина и простился с ним». Киреев 19 июля писал, будто приглашение Горемыкина в Петергоф сделано чтобы загладить «грубую беззастенчивую отставку. Показывали ему Наследника, сажали его ему на колени, заставляли его кричать «ура»…». Интересно, что уже в записи 23 июля Киреев опроверг собственную версию о неожиданной отставке Горемыкина. По последним данным, она была оговорена в одно время с роспуском Г. Думы, это явно точнее. И только 24 августа кто-то впервые запустил легенду о попытке Царя остановить роспуск Думы. В большинстве воспоминаний закрепится эта ошибочная версия, что служит показателем степени их недостоверности.
Относительно этого приёма ближе к истине письмо от 30 июля Б. Экеспарре, который слышал от лиц, близких к И.Л. Горемыкину, что Царь приглашал его обсудить предложение П.А. Столыпина сдвинуть перевыборы Г. Думы на более ранний срок. После приёма у Государя И.Л. Горемыкин выехал за границу. Ранее Столыпин соглашался с предложениями Горемыкина, но теперь перешёл на принципиально иную точку зрения. «В кругах Горемыкина его считают человеком без крепкого собственного убеждения» [«Представительные учреждения Российской Империи в 1906-1917» М.: РОССПЭН, 2014, с.40].
Справка Департамента Полиции в конце 1913 г. приводит запутанное обвинение от Иоанна Восторгова, сделанное в 1912 г. «через некоего Иосифа Фёдотова Петрова» в присвоении Б.В. Никольским 50 тыс. руб., полученных в 1906 г. от И.Л. Горемыкина через епископа Никона на нужды предвыборной борьбы правых партий ко 2-й Г. Думе [«Правые партии» М.: РОССПЭН, 1998, Т.2, с.651].
Историк Ю. Кирьянов безоговорочно поверил в это сомнительное обвинение Б.В. Никольского в растрате, несмотря на то что порядок роспуска 1-й Г. Думы не располагает верить, будто Горемыкин загодя мог давать какие-то деньги на подготовку к следующим выборам.
Признательность за прямую поддержку монархисты выражали дворцовому коменданту В.А. Дедюлину, назначенному в сентябре 1906 г. Его заместителем считался граф Ф.А. Келлер. Дедюлин придерживался гораздо более правых убеждений чем Столыпин, будучи ближе к П.Г. Курлову, не боялся открыто выказывать покровительство правым организациям и боролся с попытками их дискредитировать. Книжные издания монархистов одобряли и способствовали их ходу В.К. Саблер, Н.А. Маклаков, С.П. Белецкий. В комиссию по изданию «Книги Русской Скорби» о монархистах, убитых революцией, входил Н.В. Плеве [«Шестая годовщина Русского Народного Союза имени Михаила Архангела» СПб.: Главная Палата РНС, 1913, с.7-8, 31, 34].
Члены Г. Совета П.Н. Дурново и А.С. Стишинский соглашались принять участие в открытие всероссийского съезда СРН 10 февраля 1908 г. И.Л. Горемыкин, будучи несомненно правым, первое время в 1906 г. числился в беспартийной группе Г. Совета, не считая нужным участвовать во фракционных распрях. И только несколько позже официально присоединился к правой группе.
Выпустив никем не поддержанное Выборгское воззвание, партия к.-д. показала что не имеет за собой политической силы и лишена демократической власти. Профессор Владимир Герье писал, что многие из выборгских подписантов горячо оспаривали анархический текст, но вынуждены подчиниться партийной нагайке, находясь в рабстве внутренней дисциплины к.-д. Даже террорист В.Л. Бурцев признал в воспоминаниях: «я видел, что у этой Государственной Думы нет реальной поддержки в стране». По его словам, служивший в Департаменте Полиции эсер М.Е. Бакай в мае 1906 г. раскрыл, что жандармы не придают «никакого значения» возможности возникновения революционных восстаний, и надежды на Г. Думу беспочвенны.
В Сибири «с лета 1906 г. число политических стачек резко падает». Если в Европейской России тем же летом наблюдался один из подъёмов стачечной борьбы, то без связи с деятельностью Г. Думы или её роспуском [«Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период» Новосибирск: Наука, 1982, с.282-283]. Хотя В. Ленин писал о своём желании «назначить» всеобщее восстание на август [«Балтийский флот» М.: Воениздат, 1960, с.114].
К.-д. и с.-р. совместно занялись изданием прокламаций о роспуске Думы [Бен-Цион Динур «Мир, которого не стало. Воспоминания и впечатления (1884-1914)» М.: Мосты культуры, 2008, с.299]. На время были отставлены ожесточённые споры между левыми партиями, представителей которых Винавер звал: «милые друзья». После роспуска «пошли мы ведь вместе; но идти то уже было некуда» [М.М. Винавер «История выборгского воззвания» Пг., 1917, с.13].
Лидеры к.-д. не сделали актуальных выводов из того какие страшные беды несли всей России, никого не исключая, намерения их милых друзей. Хотя в переписке представителей к.-д. зафиксировано предостаточно наблюдений о том как, например, 7 ноября 1905 г. с.-д. ругают к.-д. «хуже чем бюрократию». Но поскольку всю тяжесть спасительной борьбы с социалистами взяли на себя монархисты, то либеральному интеллигенту «совестно было произнести громко: я не с соц.-дем.» [СПФ АРАН Ф.887 Оп.2 Д.197 Л.393об.].
Советские фальсификаторы пытались представить одних большевиков врагами к.-д. Будто бы на митинге 9 мая 1906 г. трудовик Водовозов, депутат Г. Думы, защищал от Ленина к.-д. [У.А. Шустер «Петербургские рабочие в 1905-1907 гг.» Л.: Наука, 1976, с.232]. Хотя 24 мая 1906 г. А.С. Лаппо-Данилевский писал: «только что встретился на пароходе с Водовозовым, который во всеуслышание называет «кадетов» – «болванами» и «лжецами»» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.3 Д.327 Л.2об.].
Роспуск И.Л. Горемыкиным Г. Думы «монархисты считали своей победой» [В.Н. Залежский «Монархисты» Харьков: Пролетарий, 1930, с.47]. В «Русском Знамени» в июле 1906 г. писали про ликующие колокола, благодарственные молебны и челобитные Царю про облегчение на душе от устранения думской крамолы [М.Ф. Таубе «К возрождению славяно-русского самосознания» Петроград: Тип. И.Н. Акинфеева, 1911, с.54].
Сколько-нибудь честные из депутатов 1-й Г. Думы не жалели о роспуске и признавали его закономерность, как князь Н.С. Волконский 17 июля 1906 г.: «я не слишком о ней жалею, так как покойница, надо ей отдать справедливость, была озорница порядочная и никак не могла развязаться с товарищами довыборного периода, господами революционерами, что конечно служило огромным препятствием производительному труду» [«Материалы. Письма разных лиц» // «Труды Владимирской Учёной Архивной Комиссии», 1913, Кн.XV, с.6].
«Дума в своём первом составе не завоевала уважения из-за бесплодных словесных баталий» [Ф.Ф. Врангель «Война. Революция. Россия. Историко-публицистические труды 1914-1918» СПб.: Блиц, 2017, с.220]. «Своими революционными речами она поджигала страну». «I Дума уже показала, что стоять на правых позициях, быть монархистом, нелегко» [Митрополит Евлогий (Георгиевский) «Путь моей жизни» М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006, с.87].
М.Н. Хомякова, дочь октябриста, 6 августа 1906 г. занесла в дневник: «Роспуск Г. Думы подействовал хорошо – почувствовали власть – а это для русских почти всё» [РГИА Ф.1102 Оп.3 Д.975 Л.72].
Вопреки партийным экстрасенсорным догадкам Милюкова и Ленина о том, будто роспуск 1-й Г. Думы усилит революционные настроения в народе, ничего такого не наблюдалось. Скорее удавалось убедиться, что план Горемыкина сработал. А.А. Чичерина писала 7 августа 1906 г.: «роспуск Думы никаким возбуждением пока не отозвался на наших крестьянах. Если чувствуется некоторая перемена, то скорее в отрезвительном отношении. Они точно поняли, что есть всё-таки власть вне Думы» [«Письма – больше, чем воспоминания…». Из переписки семьи Семёновых-Тян-Шанских и сестёр А.П. и В.П. Шнейдер. М.: Новый хронограф, 2012, с.154].
Даже революционные прокламации повсеместно убеждали после роспуска: «у Думы нет сил, нет власти». «Правительство, власть осталась прежняя» [«Екатеринославщина в революции 1905-1907» Днепропетровск, 1975, с.306].
Есть свидетельства, что «революционная агитация первой Думы и, особенно, Герценштейновские “иллюминации” вызвали более тесное единение правых кругов, преимущественно среди земельных собственников – помещиков и крестьян». Они образовали уездные и губернские союзы крупных и мелких землевладельцев, решивших бороться с грабительскими посягательствами левых депутатов [Г.Е. Рейн «Из пережитого» Берлин: Парабола, 1935, Т.2, с.16].
В составленной в конце 1906 г. записке А. Нечволодов привёл слова немецкого посла в Париже князя Радолина: «придёт время, когда Россия оценит политику Горемыкина, стоявшего за распущение Государственной Думы» [А.Д. Нечволодов «Император Николай II и евреи» М.: Институт русской цивилизации, 2015, с.389].
Судя по форме, записка составлена Нечволодовым по собственной инициативе и не имеет прямого отношения к формированию в МИД масонского дела, присвоенного позднее Б.Ю. Нольде. Однако поскольку Нечволодов в сентябре-ноябре 1906 г. опрашивал русских и европейских дипломатов о всём известном им по масонству, то его записка приблизительно отражает и результаты майской масонской анкеты И.Л. Горемыкина. Консул в Стокгольме В.А. Березников рассказал Нечволодову, как в Швеции «чтобы быть членом парламента, надо почти обязательно быть масоном». От французских авторитетных критиков масонства А.Д. Нечволодов получил точные сведения о принадлежности депутата 1-й Г. Думы Е.И. Кедрина к французскому «Великому Востоку». Милюков и Струве, по их мнению, составляли свою программу под руководством масонов, что является уже предположением, а не установленным фактом.
Правительственные документы о масонстве забрал себе Б. Нольде, внук которого Кирилл окажется приёмным сыном масонского руководителя ВВНР А.Я. Гальперна, английского агента, работавшего также на еврейского лидера Ахад ха-Ама [С.В. Фомин «Наказание правдой» М.: Форум, 2007, с.211].
Генри Кэмпбелл-Баннерман, британский премьер-министр от Либеральной партии, объявил: «Дума умерла, да здравствует Дума». Русский посол в Лондоне А.К. Бенкендорф вынужден был направлять свои усилия к тому, чтобы эта опасная демонстрация, показывающая поддержку английским правительством революционной идеологии, не привела к разрыву намечающегося союза с Россией [M.L. Biggerstaff «Aleksander Benckendorf. Russian Ambassador, First Gentleman of Europe» Texas Tech University, 1986. P.87].
Партия мирного обновления выпустила воззвание избирателям с призывом подчиняться решениям Императора Николая II, противостоять революционным насилиям и готовиться к новым выборам, т.е. не слушать депутатов, уехавших в Выборг, которых затем судили в Петербурге.
13 июля «Новое Время» сообщило что в правительство приглашены Столыпиным А.И. Гучков и Н.Н. Львов на министерства торговли и земледелия соответственно.
15 июля Ермолов, Гейден, Гучков уговаривали А.Ф. Кони занять министерство юстиции. П.А. Столыпин объяснял желание такого назначения стремлением повлиять на состав будущей 2-й Г. Думы. Переговоры велись неделю, однако к неудовольствию левых партий И.Г. Щегловитов останется на своём месте надолго [В.И. Смолярчук «А.Ф. Кони и его окружение» М.: Юридическая литература, 1990, с.119-121]. Ничего не вышло и из стараний А.И. Гучкова в июле 1906 г. навязать Столыпину конфликтовавшего с Ванновским и зарекомендовавшего себя в заграничной революционной печати П.Г. Виноградова в качестве министра народного просвещения [«Эпистолярное наследие академика П.Г. Виноградова» СПб.: Д. Буланин, 2020, с.6].
К И.Л. Горемыкину никто не посмел бы и сунуться с такими предложениями, что само по себе показывает ощутимую разницу со Столыпиным. Ввиду чего, вопреки вынужденному обстоятельствами расставанию с Горемыкиным, Император Николай II сохранил о нём самое лучшее мнение. В чём имели возможность убедиться руские монархисты.
В.Ф. Трепов 20 июля написал И.Л. Горемыкину: «Вчера имел счастье быть принятым Государем Императором и услышал от Его Величества справедливую Вам оценку. Государь назвал Вас патриотом, истинным благородным человеком, глубокого государственного ума и горячо Ему и Его семье преданного. Мне отрадно Вам это передать и пожелать, чтобы отдохнув за границей, Вы вернулись бодрыми и сильными к дальнейшему подвигу служения Государю и дорогой родине» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1270 Л.15].
В записке для Государя от 19 июля И.Л. Горемыкин точно предсказывает, что 2-я Г. Дума по составу будет ещё хуже 1-й. Поэтому он сразу предлагает Царю начать подготовку изменения избирательного законодательства, которое бы осуществил Земский собор, авторитет которого можно было бы противопоставить Г. Думе. Созыв его Горемыкин полагал осуществить «соответствующим народному сознанию способом», т.е. через выдвижение лучших представителей сословий не демократическим, а монархическим путём. Правильно понимая соборный принцип, Горемыкин предлагал его созыв не в качестве постоянного представительного учреждения, а для решения определённой задачи – в данном случае, для принятия избирательного закона. Помимо того, И.Л. Горемыкин обратил внимание Императора на необходимость заменить в Г. Совете членов по назначению, которые «не сочли себя солидарными с действиями верховной власти» [К.А. Соловьёв «Выборгское воззвание» М.: Кучково поле Музеон, 2021, с.35-37].
По вышедшим в августе-ноябре 1906 г. законам, согласованным с Горемыкиным, крестьяне получали земли кабинетские и удельные, но частновладельческие не подлежали принудительному отчуждению. Горемыкин отстоял незыблемость частной собственности в схватках с Г. Думой, социалистическими партиями, включая к.-д., и с запуганными ими чиновниками типа Витте. 27 августа 1906 г. эти важные действия правительства заслужили приветственные телеграммы со стороны И.Л. Горемыкина и К.П. Победоносцева.
Глубоко ошибочны имеющие характер левацкой революционной пропаганды утверждения отдельных монархистов, оторвавшихся под множеством опасных влияний от верной политической традиции, будто аграрные реформы 1906 г. ввели «новшества, открывшие путь к потрясениям». Признание факта стремительного экономического развития напрасно пытаются скомпрометировать заявлениями о духовном разложении, как будто тут есть взаимосвязь. Духовное разложение это следствие тех самых инородных влияний, которые и заставляют монархистов повторять революционный обман об упадке и настраивают против правой монархической политики. Принципы 1861 г., продолженные Горемыкиным в 1906 г., отбили попытки социалистов организовать уравнительное смешение, так что запутавшиеся писатели напрасно пытаются исказить смысл политического противостояния до полной противоположности [С.В. Фомин «Судья же мне Господь!» М.: Форум, 2010, с.118-119].
Л.М. Клячко приводит письмо С.Ю. Витте Э.М. Диллону от 22 августа 1906 г. про Столыпина: «всё-таки лучше этой сволочи Дурново, Горемыкина, Стишинского и т. д. Беда его в том, что он был в таком министерстве, как горемыкинское, и был с этой гадостью солидарен».
Объявляя Витте единственным государственным человеком после Петра I, Диллон затем писал о расовой неполноценности всех русских людей, не исключая из резкой критики и уход в Выборг партии к.-д. [E. J. Dillon «The Eclipse of Russia» New York, 1918].
В Лондоне Витте захвалил Столыпина в разговорах с английскими газетами: «Государь не мог сделать лучшего выбора». Витте остро завидовал набирающей силу популярности Столыпина, на которую 11 октября 1906 г. Николай II указывал в письме матери: «старый Горемыкин дал мне добрый совет, указавши только на него! И за то спасибо ему». Со временем эту общественную поддержку Столыпин растеряет, но пока на нём были сосредоточены надежды на преодоление смуты.
Д.Ф. Трепов умер 2 сентября 1906 г., и Горемыкин присылал его вдове соболезнования телеграммой. «Петербургский Листок» 16 сентября преждевременно ожидал возвращения Горемыкина к концу месяца, ссылаясь на собственные источники.
Не изменяя своей привычки путешествовать, в октябре 1906 г. Горемыкин жил в Париже на улице de Cambon – жена написала ему из Вержболово на границе, что её плохо встретили, т.к. не получали депеши с предупреждением о прибытии: ославленный позднее Мясоедов «уверял, что депеши не было».
Мошенники пера вместе с А.И. Гучковым, развязавшие против Мясоедова клеветническую газетную войну, не имели для этого никаких оснований, в чём убедился тогда главный военный прокурор А.С. Макаренко, подвергший допросу Гучкова. Тот «не дал ни одного факта». Ничего не нашли против Мясоедова ни Главный Штаб, ни Департамент Полиции [О. Грузенберг «Вчера» Париж, 1938, с.57].
В 1918 г. Е. Шелькинг вспоминал что И.Л. Горемыкин навещал его виллу в Тергензее – на озере в Баварских Альпах возле Мюнхена. Вместе они посетили Париж.
М.И. Горемыкин в письме из Петербурга 5 октября упоминал свою невесту Наталью и сообщал что передал барону Черкасову письмо отца, что помогало наладить отношения с родителями невесты: «самый факт письма был ему очень, кажется, приятен». «Мне поручили составить общий обзор литературы последнего времени по аграрному вопросу, составив попутно критику думских предположений» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.639 Л.2-3].
Убедительный разбор левых вредных программ, подготовленный Михаилом, будет издан в следующем году, ещё раз доказав правоту И.Л. Горемыкина в борьбе с Г. Думой. «Я люблю такого рода работу». «Дело хорошее, мне по душе». – рассказывал он далее отцу о своём старании освоить громадный печатный материал в обоснование политики Императора Николая II. По служебным делам Михаил ездил 14 октября к министру Шауфусу. 23 октября Михаил сообщил: «поздравляю тебя с новой внучкой», «я очень беспокоился за Таню». Из других новостей, записанных для отца, характерен рассказ о политических настроениях в обществе: «19го окт. в Лицее был скандал. За завтраком быв. лиц. Сабуров провозгласил тост за Муромцева и Кареева, как бывш. профессоров Лицея, с разными на их счёт патриотически-кадетскими похвалами. Поднялся страшный рёв, свист и крики «вон». Наконец его вывели с большим скандалом. Глупая история. Потом была патриотическая манифестация, но всё вместе очень глупо». Упоминалось также успокоение крестьян и благоприятное их отношение к землеустроительным комиссиям, чем М.И. Горемыкин оказался обрадован.
Супруга И.Л. Горемыкина почти ежедневно писала ему о состоянии здоровья близких. 23 октября: «у нас слава Богу лучше. Здоровье Тани совсем хорошо, вчера был молочный день, который она провела благополучно, без лихорадки, только лёгкая головная боль», «Соне тоже гораздо лучше», «Ники тоже лучше». «Моё здоровье так себе, всё очень кашляю, и потому совсем не выхожу. Всё-таки думаю ехать в субботу или воскресенье». «Обнимаю горячо. Кланяйся Маре. До завтра, дорогой» (т.е. до следующей открытки). Затем были переданы поздравления с днём рождения. 25 октября в 20 ч.: «совершенно благополучно добралась до Берлина, не устала, всё время была одна». «Имела глупость обедать в вагоне, страшная гадость после наших вкусных обедов!».
5 ноября 1906 г. И.Л. Горемыкин писал из далёкой Севильи в Испании, что 13-14 ноября планирует быть в Париже, а 5-6 декабря в Петербурге. «Погода стоит великолепная и летом очень довольны».
Столыпин 26 ноября ответил Горемыкину: «спешу поблагодарить Вас за письмо с вырезками, за Ваше доброе внимание и старания на пользу общего дела» [П.А. Столыпин «Переписка» М.: РОССПЭН, 2004, с.118].
И вот, уже 17 января 1907 г. Иван Горемыкин вновь встречается с Императором Николаем II.
В феврале 1907 г. открывать вторую Г. Думу по примеру Горемыкина, отказался А.С. Ермолов. Перепоручили дело Голубеву, старейшему члену Г. Совета. 20 февраля на открытии не встал во время Русского гимна бывший виттевский министр Н.Н. Кутлер, записавшийся в социалистическую партию к.-д., при том продолжая получить пенсию в 7 тыс. руб. Не встал и председатель Г. Думы Ф.А. Головин. Новоявленные парламентарии, кто продолжил, а кто начал разъезжать по заводам и открыто призывать к вооружённому мятежу. “Законодательствовать” до ареста и суда очередной преступной Думе оставалось недолго.
М.М. Ковалевскому Витте говорил 24 мая, будто стал премьером только потому что все отказались: «меня всунули из ненависти. Пусть, мол, бьётся». Сомнительная подтасовка задним числом. Витте активно расталкивал конкурентов, перед 17 октября добиваясь устранения важнейшего крестьянского Совещания Горемыкина. «Горемыкин и Шванебах были во главе всех подымавших против меня придворные круги. Был с ними и Коковцов». Витте хвалился что после возвращения из-за границы в ноябре 1906 г., долго не подавал им руки [«Власть и общество в Первой российской революции 1905-1907» М.: РОССПЭН, 2017, с.112-113].
Длиться такое могло в лучшем случае до 21 марта 1907 г., когда в Г. Совете С.Д. Шереметев наткнулся на Витте, сидящего в буфете с Горемыкиным [«Археографический ежегодник. 2004» М.: Наука, 2005, с.405].
На особой панихиде у гроба Э.В. Фриша в Мариинском дворце 2 апреля присутствовал весь Г. Совет, включая И.Л. Горемыкина.
В печати появились сообщения о назначении взамен Фриша Горемыкина председателем Г. Совета, вопреки действительности [«Речь», 1907, 8 апреля, с.4].
В Москве 26 апреля – 1 мая состоялся всероссийский объединённый монархический съезд с участием всех выдающихся деятелей черносотенного движения. Переписка И.Л. Горемыкина показывает что он очень интересовался происходящим среди крайне правых организаций. По просьбе Горемыкина идеолог Самодержавия Д.А. Хомяков много писал ему о положении дел в Союзе Русского Народа: «Дух собравшихся хорош». «Я не большой почитатель понимания и индивидуальности редактора «Московских Ведомостей», но в настоящее время он, кажется, очень хорошо выразил общее мнение». «Постановление Съезда с возложением упования на Собор несколько уклончивое» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1360 Л.14-16].
Съезд монархистов призвал немедленно распустить изменническую 2-ю Г. Думу и отменить положение о выборах. Согласно с принципами И.Л. Горемыкина в программе объявлялась «неприкосновенность частного владения» и совмещение «при сохранении общины» введения «преимущества личного землевладения» [«Правые партии. 1905-1910» М.: РОССПЭН, 1998, Т.1, с.317, 322].
23 мая 1907 г. В.Н. Коковцов прислал Горемыкину просьбу: «благоволите прочитать первую страницу прилагаемого письма Рафаловича». Это вышеупомянутый А.Г. Рафалович, автор множества аналитических записок по экономическим вопросам. Е.Н. Шелькинг 26 мая послал из Парижа пожелание: «Особенно поберегите себя, дорогой Иван Логгинович, при роспуске Думы!».
П.Х. Шванебах, единомышленник И.Л. Горемыкина, в письме от 27 мая выражал ему сильнейшее неудовлетворение нерешительностью запуганного левой интеллигенцией П.А. Столыпина. «Высокопочитаемый Иван Логгинович. Простите, что утруждаю Вас настоящим письмом. Но не могу не поделиться с Вами тою жгучею тревогою, которая меня всё более охватывает и дошла до крайности после вчерашнего заседания. Меня наполняет ужасом психология нашего правительства» (т.е. лично Петра Столыпина). «Мы только преисполнены одним: что скажут и подумают о мероприятиях правительства г.г. кадеты. Ими Россия для нас заслонена; широких масс населения мы перестаём видеть, как мы перестали учитывать то что происходит в народном сознании. Как не понять, что роспуск Думы в общественном сознании решён», и промедление «в исполнении ложится на правительство тяжким обвинением, изоблачая его в нерешительности, никому не понятной». «Тяготеет заговор против России, свивший себе прочно гнездо в Думе и мы продолжаем расшаркиваться перед Думою», когда там действуют «депутаты-террористы, вернувшиеся из Лондона». «И в такое время мы задаёмся мыслью сперва, впредь до роспуска, выработать несколько проектов избирательного закона и поднести их на выбор Государю Императору», что сравнивает с приостановкой тушения пожара для составления «плана будущей постройки горящего дома» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1390 Л.14-15].
П.Х. Шванебах из рвения патриотической бдительности преувеличивает реальную опасность со стороны депутатов-заговорщиков, но его письма показывают достоинства И.Л. Горемыкина, который не впадал в состояние парализующего гипноза перед толпой к.-д. и умел отличать русские национальные интересы от утопической мифологии левых партий.
В дневниках славянофильствующего мечтателя А.А. Киреева после роспуска 2-й Г. Думы и выхода нового избирательного закона 3 июня 1907 г. появляется запись, что закон составили Горемыкин, Булыгин, Щегловитов и Ермолов. «Горемыкин – человек, пользующийся доверием Царя и всеобщим уважением. Но индифферентный». При обсуждении того же вопроса с П.Х. Шванебахом Л.А. Тихомиров раздражался, что Столыпину правые противопоставляют Горемыкина. «Какой же “исторический деятель” Горемыкин?!» [Ю.Б. Соловьёв «Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг.» Л.: Наука, 1990, с.153].
Как можно убедиться, в непонимании превосходства Горемыкина над Столыпиным Тихомиров отличался от многих монархистов. В очередной раз хороший историк и теоретик, Тихомиров показал оторванность от понимания основных процессов в современной ему Империи.
Мнение Тихомирова основано на субъективных впечатлениях ввиду особенностей личных взаимоотношений. Тихомиров выступил с непродуманной критикой обновлённых Основных Законов. 16 августа 1907 г. Столыпин писал, что получил содержание брошюры «О недостатках конституции 1906 года» и хотел переговорить с автором. 21 февраля 1908 г. Столыпин писал во всеподданнейшем докладе: «Тихомиров всю силу своего таланта направил на пробуждение русского национального политического самосознание и научное обоснование русской государственности. Заслуги его в этом отношении имеют несомненное значение». Столыпин выказывал явное знакомство с основным его трудом «Монархическая государственность» и продвигал Тихомирова также перед А.С. Танеевым [П.А. Столыпин «Грани таланта политика» М.: РОССПЭН, 2006, с.197, 371, 397].
Заигрывания Столыпина с Тихомировым отнюдь не означали, что он собирался исправлять Основные Законы по проекту редактора «Московских Ведомостей».
П.Х. Шванебах вспоминал, что решение об изменении закона о выборах Император постановил решить на заседании под своим председательством. Участниками Столыпин рекомендовал: «Горемыкин, Акимов, Голубев, Гончаров, Ермолов, Самарин, Пихно».
В трёх заседаниях с участием Горемыкина, Акимова, Ермолова и Булыгина обсудили порядок издания закона и суть его проекта. Горемыкин считал, что издание следует провести через Г. Совет, как думал и Шванебах. Однако затем Горемыкин «не устранился от рассматривания законопроектов по существу», чем «обессилил свою позицию» [«П.А. Столыпин глазами современников» М.: РОССПЭН, 2008, с.113-116].
В самый день 3 июня 1907 г. И.Л. Горемыкин обедал у А.А. Половцова, где они обсуждали участия в суждениях правительства относительно роспуска Г. Думы. «Горемыкин поражён нерешительностью и трусливостью членов кабинета».
Слева принятые меры против захваченных и засаженных «сосьялистов» напротив, казались, слишком жестокими. Летом 1907 г. В.А. Серов, который слал деньги в ссылку террористу П.В. Карповичу, писал сестре про роспуск депутатов: «посредством Думы правительство намерено очистить Россию от крамолы – отличный способ. Со следующей Думой начнут, пожалуй, казнить» [Г.И. Чугунов «Валентин Серов в Петербурге» Л.: Лениздат, 1990, с.155, 171].
Ввиду того, как потом нянчился Столыпин с 3-й Думой, шутка художника стала сбываться только в сосьялистическом советском союзе. В 1945 г. в Праге был арестован депутат 1-й ГД князь Пётр Долгорукий, брат убитого в 1927 г. большевиками князя Павла Дмитриевича, депутата 2-й ГД. Пётра Дмитриевича, возраст которого приближался к 80 годам (1866 г. р.) на пять лет отправили во Владимирскую тюрьму, не отпустив и после истечения этого срока, пока он не умер.
14 июня, напротив, Половцов навестил Горемыкина. На этот раз Горемыкин высказывает неудовольствие чрезмерной быстротой написания нового положения о выборах С.Е. Крыжановским за 1 день и 2 ночи. Горемыкин был за рассмотрение нового закона Г. Советом, а не одним правительством, правда с привлечением нескольких бывших министров из Г. Совета. А.А. Половцов записывает, насколько важно для Николая II было согласование с мнением Горемыкина. «Горемыкин был вызываем Государем для выслушивания его мнений по главным вопросам, получившим законодательное решение. Горемыкин постоянно высказывался в весьма консервативном смысле, но Государь уступал требованиям людей, кои подобно Витте, запугивали его революционным движением. Горемыкин опасается, что предстоящей Думой или преемницей её будет истребовано министерство, из думских делегатов составленное, которое, без сомнения, поведёт к самому ужасному перевороту».
В начале 1907 г. возникновение правительства из к.-д. считалось вероятным для тех, кто не верил в административные способности Столыпина. Но такой ужасный переворот произойдёт только в феврале 1917 г. вопреки желанию Императора.
Итак, несмотря на то, что ряд авторов называет Горемыкина составителем закона 3 июня 1907 г., без которого не могло обойтись правительство, сам он находит своё воздействие на издание закона недостаточным.
Только А.С. Суворин записал, в чём заключались не принятые предложения Горемыкина. 9 июня он был у Горемыкина в гостях и узнал, что тот хотел пока не издавать нового закона, а просто распустить Г. Думу с созывом осенью 1908 г. Коковцов и Шванебах поддерживали эти намерения. Царь подарил Горемыкину брошюру Д.А. Хомякова «Самодержавие», которой предлагал руководствоваться. Горемыкин благодарил Государя за позволение делиться своими суждениями. Шванебах, записывал Суворин 17 июня 1907 г., «держится за Горемыкина», что весьма любопытно, ведь Горемыкина уже год как нет в правительстве, но похоже, его возвращение всеми ожидается и его влияние остаётся тем же без министерского кресла, как было заметно и до 1906 г.
23 июня бывший градоначальник Клейгельс передавал, что Горемыкин не соглашался ни с одним из трёх проектов нового выборного закона, считая необходимым вернуться к Г. Думе 6 августа 1905 г. Если А.В. Богданович верно записала и это действительно так, то Горемыкин довольно близко сходился с проектами Тихомирова.
Меж тем сразу после участия Горемыкина в издании закона 3 июня, у А.С. Суворина прибывший с рекомендациями от Горемыкина Е.Н. Шелькинг 4 июля 1907 г. говорил «о Горемыкине как министре иностранных дел» (в ущербном советском издании дневника 1923 г. эта фраза отсутствует).
26 августа 1907 г. в письме И.Л. Горемыкину из Парижа Шелькинг критиковал Извольского за предоставление министром ложных соображений «по поводу японской конвенции» (для напечатанной статьи Шелькинга). «С нетерпением жду документов по еврейскому вопросу. В виду того, что я запоздал с этою наиболее трудною и важною статьёй, у меня к Вам большая просьба. Вы были так добры, разрешив мне постать Вам на просмотр. Для выигрыша времени, – если бы поправки Ваши не были существенны – не будете ли столь добры, по просмотре статьи, её просто приказать напечатать на машинке и затем послать в «Нов. Вр.» на имя Михаила Алекс. Суворина. Этим была бы выиграна неделя, потребная на присылку статьи от Вас ко мне и от меня в Редакцию» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1393 Л.43].
Характер сотрудничества с И.Л. Горемыкиным в качестве высокопоставленного информатора показывает фраза из другого письма Е.Н. Шелькинга: «если у Вас есть какой материал – дайте – и я помещу в любой из них» (из французских изданий). Шелькингу подобные данные предоставлял и Шванебах.
2 сентября 1907 г. супруга телеграфировала Горемыкину просьбу отправить сочувственную депешу в Халахальню, Изборск Псковской губернии, по поводу смерти баронессы Марии фон Медем. «Отсутствие твоего сочувствия было замечено. Все здоровы».
Из с. Белое И.Л. Горемыкин 24 октября вернулся в Петербург.
Е.Н. Шелькинг 2 ноября сообщил о закрытии левой газеты «Русь». «Надеюсь Вы получили «Figaro»? Я послал его в Мюнхен и Берлин для перепечатки. Много есть о чём хотелось бы поделиться с Вами. Но приберегаю до личного свидания».
И.И. Шамшин 16 ноября просил И.Л. Горемыкина приехать на обед в обычное вечернее время. 9 декабря Шамшин снова приглашал к себе его же с супругой. К 18 декабря Горемыкин посылал Шамшину конфеты.
В 1908 г. Л. Львов с обыкновенным у него сатирическим гротеском писал, будто И.Л. Горемыкин продолжает заседать в Г. Совете «в своей неизменной позе с бакенбардой в руке. И не меняет позы даже для голосований: он предпочитает воздерживаться от него, чтобы только не нарушать своего спокойствия».
Начальник Главного управления по делам печати А.В. Бельгард говорил своему сотруднику Льву Тихомирову, что Столыпин выглядит очень уверенно и «как бы даже» не подозревает, что против него ведут ингригу П.Х. Шванебах и И.Л. Горемыкин. В отличие от Бельгарда, Тихомиров не считал, что они ощутимо угрожают положению Столыпина. Это несколько подтвердилось, когда 6 февраля в «Новом Времени» Шванебах по какой-то вынужденной причине выразил поддержку П.А. Столыпину и новому думскому строю, который прежде ругал устно и печатно [Л.А. Тихомиров «Дневник 1908-1910» М.: Научно-политическая книга, 2019, с.29, 38].
В январе 1908 г. октябристы опубликовали слух об отставке Столыпина. Согласно «Голосу Москвы», преемником выдвигали В.Ф. Трепова. «Речь» считала что это не так и Столыпину противостоит М.Г. Акимов. Сохранение власти П.А. Столыпиным к.-д. объясняли тем что «он завоевал себе репутацию самого импонирующего оратора» в Г. Думе, а М.Г. Акимов не обладает такими качествами.
12 февраля 1908 г. В.Н. Коковцов отправил Горемыкину телеграмму: «я нахожу Ваше мнение о нежелательности скорого приезда совершенно правильным».
Бывший министр юстиции Н.В. Муравьёв, по слухам, предлагался в министры иностранных дел теми же правыми, что и М.Г. Акимов. Предполагалось, что А.П. Извольский будет назначен послом в Берлин, а «Горемыкин – послом в Париже» [«Приазовский Край» (Ростов-на-Дону), 1908, 26 февраля].
Желаемым среди монархистов кандидатом в диктаторы Горемыкин мелькает в апреле 1908 г. наряду со Столыпиным, Акимовым и Дубасовым. 27 апреля 1908 г. Половцов виделся с Горемыкиным у графа Палена, где слышал рассказы о прошлом управлении Горемыкиным МВД. Другие газеты сообщали о выдвижении И.Л. Горемыкина послом в Берлине, а в довесок ему приписывали репутацию англофила.
Есть издания, столь же безосновательно именовавшие его «германофилом», при рассказе как в апреле 1908 г. Горемыкин, Дурново и Витте осуждали Столыпина за внесение в Г. Думу вопроса о выделении 50 тыс. руб. на создание штаба ВМФ [«Le Petit Journal» (Paris), 1909, 11 mai, p.1].
24 мая 1908 г. Горемыкин переписывался со священником Иоанном Доброхотовым по вопросам устройства школ. Сообщал свой фактический адрес Моховая, 21. Горемыкин прожил там несколько лет, из высокопоставленных лиц на этой улице также жили В.Н. Коковцов, П.Н. Дурново, В.И. Тимирязев, В.И. Ковалевский, Б.А. Васильчиков, и многие бывшие министры. В газетах в качестве номера дома на Моховой, где когда-то жил Горемыкин, называли 39.
П.И. Балинский 23 июня 1908 г. прислал И.Л. Горемыкину телеграмму, что «финансовые друзья» Джексона «требуют дело окончить немедленно ибо большой капитал ждать долго не может. Джексон требует так же немедля ответить ему когда его приезд желателен [в] Петербурге». Такие же жалобы на затягивание озвучивались и в 1899-м.
В 1908 г. Горемыкин опять отправлялся в необычные путешествия: как рассказывает Владимир Гурко, Горемыкин в том году плавал с греческим королём Георгом на яхте английского миллионера Бэзила Захарова. Дальнейших уточнений по датам нет, полагаю что тур Горемыкина мог состояться в июне-июле.
О Б. Захарове И.Л. Горемыкину неоднократно писал Е.Н. Шелькинг. 9 мая (1907?) Шелькинг писал что дал Захарову «три брошюры о вреде финансовой олигархии во Франции. Во многом они отражают наши воззрения. Я их дал Захарову на прочтение». Т.е. Б. Захаров взаимодействовал с русскими агентами во Франции, через которых ещё в 1899-м сумел выйти на И.Л. Горемыкина. В общении с ними Б. Захаров подавал себя за видимого союзника.
Шелькинг выступал против образования несколькими крупнейшими банками: «Парижский», «Лионский кредит» и др., финансового синдиката, которым «забили мелкий кредит». «Вред, приносимый подобной централизацией, громадный». «Он убил мелкую предприимчивость в провинции, лишив её кредита».
В другом, не датированном письме Шелькинга Горемыкину упоминается П.И. Рачковский: «он и на Ваш счёт прошёлся по случаю Вашей поездки с Захаровым». По какой-то причине желание лишний раз не приближаться к Захарову есть и в письме М.И. Горемыкина отцу 15 октября 1906 г.: «между прочим я хотел тебя просить, не можешь ли ты узнать под рукою, только не через Захарова, а через Рачков. или кого другого, что такое точно из себя представляет» какое-то общество с парижской 43, rue Taitbaut. «Чьи это деньги? И кто такой в названном обществе г. Fabricius (Rue Thebr 3). Я с ним постоянно имею дело и до сих пор не могу толком разобрать. Что он: директор, представитель или что. Вообще это господин с которым нужно держать ухо востро, и я был бы очень благодарен если бы ты мог мне кое-что о нём». М.И. Горемыкин с подозрением относился к ещё одному знакомому Фабрициуса: «тоже в этом отношении источник ненадёжный – их с Фабрициусом чёрт верёвочкой спутал и они все друг на друга кивают» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.639 Л.8].
Как отсюда следует, Б. Захаров в ответ на услуги И.Л. Горемыкина предоставлял ему какую-то конфиденциальную информацию о деятелях политического или финансового толка. Семейство Горемыкиных, пользуясь особыми международными связями, относилось к ним с должной осторожностью.
Если Захаров пытался каким-то образом повлиять на Горемыкина, чего опасался Рачковский, он явно потерпел неудачу. Горемыкин с неудовольствием рассказывал, что на яхте греческий король пытался убедить его, что для Николая II самое главное соблюдать конституцию – это будет гарантом его безопасности. Но по воспоминаниям Вл. Гурко, И.Л. Горемыкин, рассказывая об этой встрече, остался убеждён, что Самодержавный Царь должен проявлять личную власть и тем усиливать свои позиции в интересах России.
Греческий король Георг I в марте 1913 г. будет застрелен социалистом. В русской правомонархической печати подозревалась причастность мирового масонства к данному убийству. Однако месяц спустя террорист выбросился из окна, и предполагаемые заказчики не были установлены. Конечно, как показывает перевираемое советской пропагандой убийство Д. Кеннеди и многие другие совершённые одиночками теракты, теории заговора часто не верны. Следует учесть, что после мировой войны Захаров пойдёт против Венизелоса, пытаясь заставить его сохранить монархию в Греции.
Дополнительные сведения о путешествии пока не обнаружены. 29 июля 1908 г. Иван Овчинников благодарил И.Л. Горемыкина за приглашение в Белую [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1046 Л.4].
15 августа из С.-Петербурга П.И. Балинский отправил в с. Белое письма Б. Захарова, полученные им на имя И.Л. Горемыкина. Балинский пожаловался на свалившиеся на него неприятности (болезнь). Письмо Горемыкина он перевёл на английский и отправил Джексону, ответ которого Балинский тут же прилагал. Балинского и Джексона смущало отсутствие ответа от В.Н. Коковцова.
«Ваша опытность и Ваши пророческие слова Иван Логгинович положительно на меня производят какое-то гипнотическое действие, я чем больше Вас слушаю тем больше вижу, что Вы обладаете каким-то пророческим даром. Я позволил себе высказать Вам эту тираду глубокоуважаемый Иван Логгинович потому что приехав в Петербург я узнал многое и главное всё, что Вы мне предсказывали сбылось, как по писанному. Помните, Вы как-то мне сказали однажды: «Пётр Иванович Бострём не государственный человек он болтун вспомните меня он напутает и уйдёт». Буквально так и вышло слово в слово, что Вы сказали: Бострём напутал, причём напутал во всём страшно и ушёл». «Бострём желая глубоко провести дело «Виккерса» испортил сколько мог». «Ваши слова были пророческими, Вы говорили – «не надо было идти «Виккерсу» на конкурс» и это были золотые слова, я их понимал, но ни Захаров ни «Виккерс» не зная России их не поняли и теперь горюют что не послушали Вас» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.389 Л.23-24об.].
Письма Балинского опять показывают полную безосновательность подозрений в коррупционном характере взаимоотношений Б. Захарова и Ивана Горемыкина. Все финансовые решения принимались правительством помимо И.Л. Горемыкина, а он не только не лоббировал интересы английской фирмы, а, когда это требовалось, предпринимал меры обратного предупредительного характера, выступая в качестве независимого эксперта. Восхищение Балинского соответствует высказаниям многих других мемуаристов о свойственной Горемыкину поразительной способности угадывать исход политических дел по их внутренним закономерностям.
Е. Шелькинг в американском издании за 1918 г. в разоблачительно-антимонархических тонах утверждал, что после Японской войны Б. Захаров представил через И.Л. Горемыкина план восстановления русского военного флота через строительство в Англии и Франции под выгодный иностранный кредит под 4,5% на 50 лет. Николай II дал Захарову высокую награду, но в итоге отказался от его проекта ради строительства в России. Шелькинг постоянно приплетал к таким историям мифологию о слабоволии [E. Schelking «Recollections of a Russian Diplomat» New York, 1918, p.146].
В эмиграции Шелькинг не присоединился к монархическому движению, лидеры которого заметили его продажность в пользу демократов, почему называли Шелькинга роялистом в кавычках. «Ещё задолго до революции г. Шелькинг должен был оставить русское министерство иностранных дел после одной скверной истории в Гааге отнюдь не политического свойства, по той же причине и тогда же он лишился придворного звания». Монархисты заметили что Шелькинг пристроился к демократическому чешскому правительству, которое поддерживало только левых эмигрантов [«Высший Монархический Совет. Еженедельник» (Берлин), 1925, 25 января, №134, с.8].
Владимир Гурко был замечен вблизи Горемыкина. 30 августа 1908 г. барон Александр Нольде отправил Л.А. Тихомирову письмо, в котором среди противников П.А. Столыпина обозначен Дмитрий Хомяков. Сам по себе он не опасен, но подле него «группируются деятели, и на совещании в Петербурге участвовали Стишинский, Горемыкин, ещё два-три человека и Гурко». А.Э. Нольде опасался влияния Горемыкина, если его поддержит Двор, и они смогут выдвинуть на место Столыпина кого-нибудь из провинциальных губернаторов. П.Н. Дурново такую роль не потянет.
Дневники Тихомирова служат интересным подспорьем для уточнения фактов биографии множества русских монархистов, если его сведения проходят перекрёстную проверку. Во многих случаях этого не происходит. Скорее всего, записи об интриге Горемыкина, ранее со Шванебахом, а теперь со Стишинским, указывают на выдвижение Горемыкина в качестве самой лучшей более правой альтернативы Столыпину со стороны православных монархистов и националистов. Но не о стремлении самого Горемыкина свергнуть Столыпина с пьедестала.
В августе 1908 г., продолжая мечтать о признанном главе Г. Совета и Г. Думы, Киреев считает, что Горемыкин мог играть эту первую роль, «умён», но «отказался – не хочет! Ленив».
Имя Д.А. Хомякова говорит о группе правых монархистов в Москве, которые тесной связи с Горемыкиным не имели. Можно тут отметить, что в брошюре «Клир и Государственная дума», изданной в Туле в 1908 г. (она зачитывалась на собраниях черносотенцев в Москве), Дмитрий Хомяков чрезмерно нападает на участие священнослужителей в делах Г. Совета и Г. Думы. Можно согласиться с ним, что дела Церкви всегда важнее Г. Думы, но это говорит не в пользу поражения священства в политических правах, а о политической нецелесообразности самого факта существования Г. Думы. Прискорбно, если священники вынуждены покидать свои церкви ради участия в политической работе, но гораздо лучше, если ею будет заниматься Церковь, а не либералы и социалисты. Сочинение Д.А. Хомякова одновременно показывает сильный настрой монархистов против новых думских учреждений, с которыми срослось имя Столыпина. Горемыкин в качестве противника депутатов и любых проявлений демократического принципа был монархистам идейно ближе.
24 августа И.Л. Горемыкин написал свой ответ, который дошёл до Балинского 7 сентября. Тот снова подтверждал правоту предупреждений И.Л. Горемыкина, ссылаясь теперь и на чинов Морского Министерства: «Вы правы, правы и правы до мельчайших подробностей во всех своих предположениях и в особенности предсказаниях. Буквально всё, что Вы мне говорили сбылось, продолжает сбываться, и ясно вижу что будет продолжать сбываться до мельчайших подробностей. Это прямо ужасно, как вообще все иностранцы, и в том числе англичане нас ещё не могут понять». Балинский считал нужным следовать совету Горемыкина и ожидать более подходящего момента для действий.
22 сентября 1908 г. Н.В. Клейгельс отправил И.Л. Горемыкину письмо: «из газет знаю, что высшие учебные заведения опять в бурливом настроении – думаю, что их всех свобод ничего не будет, а высшие учебные заведения не придут к порядку, пока революционных профессоров не уволят, на каждый курс не назначат по хорошему штаб-офицеру, а к дверям стражу, чтоб бродяг и девиц не впускать. Без работных домов, думаю, тоже к порядку прийти нельзя, а главное надо меньше говорить и больше делать. У нас положение тоже не важное». «Как жаль П.Х. Шванебаха. Это был большой Ваш почитатель и верный человек». Из Моховой, 30 это письмо переслали в с. Белое.
М.И. Горемыкин 1 октября 1908 г. информировал отца: «у Кривошеина ещё не был и доклада ещё не подавал. Я его значительно переделал и дополнил и теперь, по-моему, он знач. лучше. У Риттиха имел очень длинный (3 1/2 часа) доклад, которым остались очень довольны. Записка моя будет также направлена и к Петру Аркадьевичу и мне предстоит личный у него доклад. Мне предложено написать статью в «Нов. Вр.» что я и исполню на днях. Совершенно не имею времени, т.к. меня приглашают в разные совещания, в которые ранее меня не звали. Позавчера было заседание Комитета – Криво[шеин] председательствовал великолепно, хотя очень резко. Вообще он величественен. Euxin nans poussons. Мой приятель Тхоржевский persona gratissima и играет большую роль. После доклада у Р. [Риттиха] мне предложено было через 2 недели или три ехать снова в целый ряд губерний с чрезвычайными поручениями для производства ревизий. Кривошеин, в принципе, мою командировку решил, но окончательное слово принадлежит Петру Аркадьевичу и лишь после моего доклада это может стать официальным. Командировка очень ответственная с гласными и негласными поручениями». «Ив. Алекс. [Овчинников] вместо «здравствуйте» говорит «Босния», и всё Министерство Ин. Дел сошло с ума» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.639 Л.25-28].
Пример недобросовестной газетной болтовни с упоминанием имени И.Л. Горемыкина можно увидеть в неподписанной Розановым статье для «Нового Времени» от 15 октября. В ней повторяется лживая легенда, будто администрация Горемыкина представила 1-й Г. Думе законопроекты и прачечной и оранжерее для пальм, с чем сравнивался текущий депутатский запрос МВД об аренде «Московских Ведомостей» монархистами. «С исходом печальнее, ибо престиж министерства Горемыкина затрагивал только личность Ивана Логгиновича Горемыкина, а престиж Г. Думы показывает разум всей страны. С этим нужно считаться и около этой величины надо бережно ходить» [В.В. Розанов «В нашей смуте. Статьи 1908 г.» М.: Республика, 2004, с.286].
Руководитель правой группы Г. Совета П.Н. Дурново 19 октября 1908 г. отправил телеграмму в с. Белое, где часто жил Горемыкин: «Ваше присутствие на заседании 23 октября необходимо».
13 января 1909 г. А.А. Половцов написал, что видел Ивана Горемыкина, поправившегося после тяжёлой болезни. Они обсуждали доминирование П.Н. Дурново в Г. Совете, от которого оба хотели отделаться (все утверждения Половцова следует ставить под сомнения до получения надёжного подтверждения). Но, к огорчению Половцова, Горемыкин в ближайшие дни уезжает лечиться в Германию.
23 января 1909 г. Государь принял Горемыкина в 18 ч., что может указывать на предложение ему занять министерские посты и отказы по состоянию здоровья.
На празднование 25-летия 2-го департамента Сената И.Л. Горемыкин пришёл в сенатскую церковь. В качестве подарка он получил 2-й том истории департамента. Далее в зале 1 департамента был поднят тост за бывшего обер-прокурора Горемыкина, а Иван Логгинович в ответ почтил плодотворность работы департамента [«Н. Время», 1909, 1 февраля, с.4].
На состоявшемся 27 февраля 1909 г. чествовании 50-летних литературных трудов А.С. Суворина в Дворянском собрании присутствовало 4000 приглашённых по именным билетам. Прибыл практически весь Совет Министров и многие кто состоял в правительстве раньше, как Витте и Куропаткин [Б.Б. Глинский «Алексей Сергеевич Суворин» СПб.: Новое Время, 1912, с.44].
И.И. Шамшин 1 марта просил И.Л. Горемыкина заехать к нему.
В начале марта 1909 г. Киреев записывает, что «называют» подходящими людьми Горемыкина и генерала Сухомлинова, но Г. Дума за Горемыкиным не пойдёт. Император вновь принял у себя Горемыкина 19 марта, после Ермолова, другого ближайшего сотрудника Царя до 1905 г.
А.С. Ермолов, оставив правительство, стал управляющим Двором Его Высочества принца А.П. Ольденбургского и принцессы Евгении Максимилиановны.
П.М. Кауфман, недавно состоявший в правительстве Горемыкина, в марте сообщал заместителю военного министра Поливанову, что И.Л. Горемыкин предлагает Царю назначить председателем правительства Кривошеина на место Столыпина.
Французы в связи с ожидаемым назначением в МИД составляли новости, что Горемыкин «по общему мнению был самой прочной опорой самодержавной монархии», «уезжает в Баден-Баден, где отправится на воды». В качестве обязательного для поддержки демократической мифологии анекдота прибавляли, будто сменив Витте, Горемыкин в 1906 г. предавался чтению романов, забросив столы с документами [«L’Information financier, economique et politique» (Paris), 1909, 6 avril, p.5].
Октябристы передавали упорную молву, которой сами не доверяли, будто И.Г. Щегловитов претендует стать премьером, Д.И. Пихно министром финансов, А.С. Стишинский – земледелия, Ф.Ф. Трепов – МВД. Такое усиление правых для октябристов было нежелательным, предусматривало роспуск Г. Думы в случае поддержки ею кабинета Столыпина. «Наиболее серьёзной считается кандидатура статс-секретаря Горемыкина на освобождающийся с уходом Извольского пост» [«Голос Москвы», 1909, 27 марта, с.2-3].
Октябристы считали политическую карьеру И.Л. Горемыкина законченной и выражали удивление неожиданной близости его возвращения в правительство.
Газеты писали о вероятности назначения министром иностранных дел, будто на Страстной неделе И.Л. Горемыкин дважды был принят Императором в Царском Селе и довольно долго пробыл там. «В бюрократических сферах много говорят о пасхальной поездке И.Л. Горемыкина за границу; по слухам, И.Л. Горемыкин будет принят в аудиенции германским императором» [«Рижский Вестник», 1909, 2 апреля, с.3].
5 апреля Киреев пишет о МИД: «министром бы Горемыкина». Личные мнения Киреева почти ничего не стоят, но частота упоминаний Горемыкина связана с какими-то реальные проектами возвращения его в правительство Империи. 8 апреля Н.А. Зверев, член Г. Совета, говорил в салоне Богданович, что Горемыкин может получить МИД. В тот же день из С.-Петербурга разлетелись новостные телеграммы, будто Горемыкин бесспорно получит МИД. Эти сообщения оказались настолько же ненадёжны, как и новые приписывания Горемыкину репутации англофила. Владимира Гурко при этом звали сторонником сближения с Германией.
Бывавший у сплетницы Богданович Е.Н. Шелькинг, часто общавшийся с И.Л. Горемыкиным, подтверждал в эмиграции, что «ходили слухи о назначении Горемыкина министром иностранных дел. Узнав об этом, Витте сказал мне: «вот это было бы прекрасное назначение; Горемыкин обладает удивительною способностью, которой не достаёт нашей дипломатии, а именно: способностью пассивного сопротивления. Я был бы рад служить с ним, напр., на месте посла в Константинополе». Я передал слова Витте Ивану Логгиновичу. – «Я не верю в моё назначение» – возразил он – «но если бы оно состоялось, то от сотрудничества с Витте я бы не отказался». На следующий день они обменялись визитами».
Действительно, несмотря на длительное соперничество в прошлом, И.Л. Горемыкин поддерживал доброжелательные отношения с Витте и не держал камня за пазухой, как Витте, тайком писавший оскорбительные заметки о всех своих сослуживцах. Шелькинг сожалел что Горемыкин и Витте не объединили свои силы, называя их в 1918 г. величайшими личностями, наиболее прочными и самыми независимыми русскими политиками.
В 1909 г. Горемыкина вспоминали в печати и в откликах на пьесу Колышко «Большой человек», где искажённо преподносили историю Витте, осуждая его оппонентов во власти [Э. Сагинадзе «Реформатор после реформ» М.: НЛО, 2016]. В эмиграции бывший сотрудник Мещерского И.И. Колышко будет печататься в левой газете и специализироваться на антимонархической пропаганде, от ядовитой рецензии на роман П.Н. Краснова «За чертополохом» до комментариев к мемуарам Витте. Колышко выдумывал, будто Витте подсобил Д.С. Сипягину получить МВД, через записку Гурлянда о земстве: «свалили либерального (!) в сравнении с Вами Горемыкина» [Баян «Ящик Пандоры. Письмо в преисподнюю» // «Время» (Берлин), 1922, 29 мая, с.1].
Актуальность возвращения И.Л. Горемыкина определялась падением значения Г. Думы. Конституционалисты считали нужным стараться, чтобы «в широких слоях населения укрепилось сознание необходимости Г. Думы, сознание, что возврат к прошлому нежелателен и немыслим». Беспокойство о непопулярности депутатов выражено в апреле 1909 г.[«Партия «Союз 17 октября». 1907-1915 гг.» М.: РОССПЭН, 2000, Т.2, с.47].
Это так раз когда пресловутый возврат связывали с именем Горемыкина, который символизировал усиление Самодержавия.
11 апреля «Рижский Вестник» сообщал, будто бы стоявший на первом месте в списке кандидатов И.Л. Горемыкин сам отказался от предложенного МИД и премьерства, а больше никто не мог соперничать со Столыпиным.
П.И. Балинский 14 апреля писал в Париж И.Л. Горемыкину, передавая через него привет Б. Захарову: «я исполняю Вашу просьбу и присылаю Вам вырезки из газет за время Вашего отсутствия». Дело Джексона не продвинулось. «Конечно, буду надоедать всем и торопить, но не знаю что из этого всего выйдет. В Вашем письме Вы пишете что будете в Висбадене до 14-го апреля поэтому настоящее письмо я адресую на имя Захарова». «Жду от Вас новостей, может быть, Ваша поездка принесёт какое-либо радостное известие. Молю Бога о Вашем здоровье» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.389 Л.30].
«Голос Москвы» 18 апреля назвал Горемыкина непромокаемым ни в какую политическую погоду – т.е. остающимся претендентом на возвращение в правительство вместе с правой группой Г. Совета, включая Дурново, Стишинского, Акимова, Витте и В.Ф. Трепова. Все они, по мнению октябристов, выдвигали против Столыпина обвинение в нарушении прерогатив Короны. ЦК партии Гучкова выпустил официальное заявление против крайне правых относительно защиты ими прерогатив Монарха, противопоставляя им Г. Думу. 18 апреля появилась и новость, что те же организаторы похода против Столыпина хотят добиться звания канцлера для И.Л. Горемыкина – вместе с портфелем МИД.
Взглядам И.Л. Горемыкина, самодержавным принципам и самой политической целесообразности соответствует записанное А.А. Поливановым высказывание Государя В.А. Сухомлинову 22 апреля 1909 г.: «Я создал Думу не для того, чтобы она мне указывала, а для того, чтобы советовала» [А.А. Поливанов «Из дневников и воспоминаний» М.: ВВРС, 1924, с.69].
25 апреля 1909 г. А.А. Киреев записал: «Государь будто бы послал (курьера (?)) за границу к Горемыкину, которому предлагается министерство (и премьерство) внутр. дел, а Столыпину – канцлерство». 27 апреля ещё раз записывает, что Столыпин получает утешительное звание канцлера с увольнением. Некоторая несообразность такого проекта связана с тем, что Столыпин не выслужил себе чина нужного класса по табели о рангах. Согласно газетам, одновременно рассматривалась возможность назначения канцлером либо И.Л. Горемыкина, либо Столыпина.
Барон Давид Гинцбург говорил 27 апреля, что новое правительство скоро возглавит И.Л. Горемыкин, с ним останутся Кривошеин, Рухлов, Шварц и Коковцов [И.И. Толстой «Дневник. 1906-1909» СПб.: Лики России, 2010, Т.1, с.612].
Газета «Слово» тогда же сообщала, что И.Л. Горемыкину послано в Висбаден приглашение (от Царя) вернуться в С.-Петербург, а С.Ю. Витте передал Горемыкину что готов принять должность посла в одной из европейских столиц. 27 апреля появилась новость о вызове Горемыкина в Царское Село. В кулуарах Г. Думы считали, что Горемыкин получит МИД, если Столыпина уволят, а В.Ф. Трепов – МВД.
В эти дни в печати появилась интересная подробность, что при недавнем пребывании в Париже Горемыкина сопровождал «очень известный и высоко ценимый во французских правительственных кругах русский деятель и встречался с несколькими политиками для подготовки почвы перед назначением» Горемыкина в МИД. Сам же Горемыкин будет просить Царя «убрать от него эту чашу» [«Echo de Paris», 1909, 13 mai, p.3].
Иронически настроенная к правым монархистам столичная газета сообщала, что вопрос о штатах морского генерального штаба привёл к тому, что сейчас «более настоятельно говорят о неизбежности кабинетного кризиса. Говорят уже и о новом председателе совета министров И.Л. Горемыкине, называют и новых министров, которые будут назначены». Ожидание ухода Столыпина было так сильно, что рядовой факт заседания правительства под его председательством 28 апреля уже рассматривался как доказательство сохранения за ним должности [«Родина», 1909, 3 мая, №18, с.2, 4].
5 мая Киреев уже пишет, что канцлером станет Горемыкин при сохранении Столыпина премьером. «Должно быть, торгуются с Горемыкиным». «Не есть ли это переход к замене Столыпина Горемыкиным вообще?».
В прессе сообщалось, будто в С.-Петербург И.Л. Горемыкин вернулся 11 мая, что подстегнуло новые разговоры о назначении его канцлером, о чём запестрели газетные заголовки.
Н.В. Клейгельс 16 мая 1909 г. писал ему: «заходил к Вам несколько раз, узнавая из газет, что Вас поджидают в Петербурге, но оказалось, что Ваш приезд всё откладывается, а мне хотелось повидать Вас и передать те слухи, которые не без основания, как мне кажется, вращались в обществе и у представителей печати. Дай Бог, чтобы всё бы состоялось так, как я многократно слышал. Рассчитываю вскоре быть в Петербурге и передам тогда все подробности». Клейгельс продал имение чтобы выйти «из того состояния, которое Вы назвали пленом Вавилонским» (это выражение о плене использовано и в письме Клейгельса за сентябрь 1908 г.). Клейгельс писал что переговорил с Б.В. Фредериксом и готов принять должность Виленского губернатора. Высоких назначений Клейгельс более не получит, но в апреле 1910 г. получит чин генерала-от-кавалерии за отличие.
18 мая Государь вновь принимал И.Л. Горемыкина у себя. По-видимому, Горемыкин отказался от всех предложений Государя и сохранил место Столыпину.
Действуя своими, отличными от горемыкинских, методами забалтывания и удушения в объятиях, П.А. Столыпин добивался определённых результатов идеологической капитуляции врагов Монархии. К примеру, родственница масона М.М. Ковалевского писала о нём на то время: «был (о тень первой Думы перевернись в гробу) на чашке чая у Столыпина и вообще ведёт жизнь весёлую» [СПФ АРАН Ф.45 Оп.5 Д.237 Л.136об.].
19 мая у Скалона был губернатор Зиновьев. Киреев обескуражен, как Зиновьев называл Горемыкина выдохшейся мумией. «Вот и кандидат, выставленный (нами) правыми на замену Столыпина!». 25 мая тот же Гинцбург говорил о Дурново на месте Столыпина. Затем в записях Киреева затишье до 28 октября 1909 г., когда снова в консервативных кругах заговорили о смене Столыпина на Дурново и Горемыкина.
Некоторые оборонительные меры предприняли правительственные газеты, перепечатывающие похвальбу про умение «вести беседу» «нашего первого государственного человека», «после неудачи Горемыкина, который был не только действительный тайный советник, но и действительный бюрократ и по карьере и по натуре» [«Иркутские губернские ведомости», 1909, №4991]. В наши дни историки соглашаются с этим, называя Горемыкина политиком уходящей «непубличной эпохи» [«Первая революция в России: взгляд через столетие» М.: Памятники исторической мысли, 2005, с.435].
Эти замечания стоит разъяснить: они о том, что Горемыкин настоящий политик, а не популист и шоумен. Поскольку время, когда надо было забалтывать Г. Думу, проходило, потребность в Горемыкине во главе правительстве возникла вновь.
На заседаниях Г. Совета 4-8 июня обсуждались разногласия с Г. Думой по бюджетной росписи. Разница в проектах Г. Совета и Думы достигла 345 млн. руб. По желанию В.Н. Коковцова, одобрили повышение табачных акцизов. 12 июня состоялось последние собрание Г. Совета до 10 октября.
Укрепление сил монархистов отразилось на том как 27 июня 1909 г. под влиянием восторженного празднования Полтавской победы Столыпин сказал Великому Князю Константину Константиновичу, что теперь с революцией покончено.
23 сентября М.И. Горемыкин писал матери из Петербурга: «в городе пусто», из друзей только двое, включая И.И. Тхоржевского. «Ничего нового не слышал. Скажи папа что я узнавал относительно К.С.М. Вакансия вероятно будет зимой, но младшего оклада (4 ½)» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1512 Л.22].
18 ноября 1909 г. И.Л. Горемыкин писал Иоанну Доброхотову о состоянии супруги: «Александра Ивановна вся больна с самого нашего отъезда» из с. Белое.
Художник С.В. Житомирский опубликовал в журнале С.М. Проппера набросок с натуры заседания, где на первом плане И.Л. Горемыкин запечатлён в профиль, со сложенными на столе ладонями сидящим на самом правом фланге Г. Совета. Он присутствовал на закончившихся 27 марта прениях по семейной собственности, где А.С. Ермолов критиковал общинное владение, а А.С. Стишинский выражал несогласие с выступавшим там же П.А. Столыпиным [«Огонёк», 1910, 3 апреля, №14, с.8].
31 марта 1910 г. Горемыкин рекомендовал священнику И. Доброхотову обращаться прямо к Императрице Александре Фёдоровне. В результате, её секретарь сообщил Горемыкину 21 апреля, что Царица пожаловала их церкви 300 руб. О благотворительной работе Государыни ценные сведения сообщает её сотрудник Владимир Шуленбург в парижском издании 1928 г. «Воспоминания об Императрице Александре Фёдоровне». Среди священников, получавших поддержку Царицы, там упоминаются и жертвы террористических нападений 1906 г.
Дабы избежать чествования 50-летия государственной службы, Горемыкин специально выехал за границу 13 мая, за 4 дня до памятного дня окончания Училища Правоведения. Тем не менее, на квартиру отсутствующего Горемыкина явились министры: В.Н. Коковцов, А.Н. Шварц, С.И. Тимашев, А.А. Макаров, а также М.Г. Акимов, А.П. Струков, В.К. Саблер, Вл. Гурко, П.В. Верёвкин, адмирал А.А. Бирилёв, граф Олсуфьев, барон Таубе, Ратьков-Ражнов и др. [«Петербургская Газета», 1910, 18 мая, с.4].
В числе многочисленных гостей из Петербурга в имение Медемов Березки прибыл поздравить Горемыкина А.В. Кривошеин. Помимо сенаторов, чиновников и светских дам поздравления передала ему депутация крестьян и духовенства из села Белое. Всех гостей перечисляет Олег Капгер в книге о представителях своей фамилии. На упомянутый душевный адрес И.Л. Горемыкин 18 мая отправил телеграмму с просьбой «принять мою душевную благодарность и передать моим соприхожанам готовность и остаток дней моих служить им чем смогу».
Горемыкин искренне отстаивал веру и благочестие не только ради поддержания порядка и права, но и по полной силе убеждений. Его личный пример доказывает правоту блаженного Епископа Феофана Затворника: «хороший христианин будет и хорошим гражданином» [«Выборгские торжества» Гельсингфорс, 1910, с.10].
Судя по тому, что совсем недавно, в апреле 1910 г. к 50-летию службы П.Н. Дурново, он получил много поздравлений от правомонархических организаций, они удостоили тем же и Горемыкина.
23 мая, вероятно по поводу юбилея, Горемыкина принял у себя Государь. Не могло обойтись без значительных наград. К примеру, 1 января 1902 г. Д. Сольский был возведён в графское достоинство к пятидесятилетию службы.
И.Л. Горемыкин получил почётное звание статс-секретаря Его Величества. Оно давало ему право на личные доклады Императору, что служило знаком близкого доверия. В начале ХХ века в России было всего 27 статс-секретарей [В.Н. Коковцов «Обрывки воспоминаний из моего детства и лицейской поры» М.: Русский путь, 2011, с.278].
Звание статс-секретаря не было пожизненным, в отличие от сенатора и члена Г. Совета, и к 1915 г. их осталось всего 19, но И.Л. Горемыкин совмещал все эти звания до последних дней Царствования Николая II, не потеряв положения ближайшего советника Монарха [Л.Е. Шепелев «Титулы, мундиры, ордена» Л.: Наука, 1991, с.152-155].
Михаил Иванович Горемыкин в 1910 г. принимал активное участие в подготовке Лицейского клуба, объединяющего выпускников Александровского Лицея. Он действовал совместно с помощником управляющего делами Совета Министров А.Н. Яхонтовым, окончившим с ним один курс [«Императорский Лицей в памяти его питомцев» СПб.: Наука, 2011, Кн.II, с.523]. По некрологу, написанному Иваном Тхоржевским, Яхонтов был близок к семье И.Л. Горемыкина, т.е. дружил с его сыном, и состоял «одно время личным его секретарём». «А.Н. Яхонтов умный, дельный, блестящий работник», после И.Л. Горемыкина работал директором канцелярии министра путей сообщения А.Ф. Трепова [«Возрождение» (Париж), 1938, 7 октября, с.8].
Благополучное бурное развитие Российской Империи последних лет заставило многих позабыть про некогда шумевшее “освободительное движение” 1905-6 г. В рецензии на книгу В.В. Розанова писали: «мы так далеко уже отошли от того своеобразного времени, что оно представляется нам теперь чем-то сказочным и небывалым; и многое в нём уже позабылось» [Приложения к журналу «Нива», 1910, Том II, стлб.467].
20 октября 1910 г. Бурцев, донимавший Зубатова своими изысками, просил его писать воспоминания про Горемыкина, Дурново, Рачковского, о которых должен много знать.
7 декабря в Училище Правоведения состоялся бал в присутствии принцев Ольденбургских, Великой Княгини Ольги Александровны и именитых правоведов, был заместитель председателя Г. Совета Голубева, статс-секретарь Булыгин, граф Толь, И.Г. Щегловитов и других членов Г. Совета и министров. Весьма вероятно нахождение среди них И.Л. Горемыкина [«Голос Сибири» (Иркутск), 1910, 10 декабря, №1, с.2].
Наиболее значительный современный исследователь, С.В. Куликов старается показать, что Император Николай II активно поддерживал Столыпина. Следует считать, что Государь оставлял его на своём посту, пока считал нужным, даже несмотря на значительные расхождения между ними, заметные с первого дня его появления при Горемыкине. Другой историк, И.В. Лукоянов в статье «П.А. Столыпин и камарилья» приводит отдельные ценные материалы – дневник приближённой Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны: 11 декабря 1910 г. – Столыпину «запрещено следить за Распутиным, и в безнравственность Распутина не верят», 20 марта 1911 г. записаны слова Великого Князя Михаила Александровича: «Столыпин вряд ли останется. Государь на него сердится» [«П.А. Столыпин и исторический опыт реформ в России» М.: Русский путь, 2012, с.143-145].
Шталмейстер Н.Ф. Бурдуков в эмиграции превосходно писал о противниках Г.Е. Распутина и Царя: «пьянство, бани, дебоши, рестораны, девицы, потерявшие головы дамы общества – всё это ставилось Распутину в вину, но» «противники Распутина сами были во многом не лучше его». «На этих ставках игра против Распутина выигрыша дать не могла. Карта – заранее битая». «Когда теперь много лет спустя вспоминаешь об этой борьбе с царской властью под личиной защиты её», «невольно задаешь себе вопрос что же думали, как смотрели они в глаза Государю, умоляя его верить в их любовь к России, верность и преданность ему… держа за пазухой камень» [«Иллюстрированная Россия» (Париж), 1939, 27 мая, с.14-15].
В Русском Собрании 24 января 1911 г. состоялось совещание правого крыла Г. Совета с представителями Киевского и Подольского губернских земских комитетов. А.С. Стишинский активно проявлял интерес к мнению приезжих. Против обсуждаемого законопроекта о введении земства в Польше открыто выступал Зиновьев. При голосовании проект о национальных куриях не поддержали П.Н. Дурново, А.А. Ширинский-Шихматов, В.Ф. Трепов, А.П. Струков, всего 25 представителей правых Г. Совета. Нашёлся повод обвинять их в солидарности с С.Ю. Витте и в личной борьбе со Столыпиным, но сложность вопроса заключалась в верховенстве общеимперского принципа вероисповедальных курий.
Октябрист Н.В. Савич, противник правых монархистов, напоминал, что введения земства добивался И.Л. Горемыкин в 1899 г.: «не забыт был ещё эффект провала Горемыкина». Но он ошибается, следуя легенде, будто западное земство сыграло «роковую роль» в судьбе Горемыкина и потому правые в Г. Совете тем же способом решили скомпрометировать или свалить Столыпина. Не понятно, как на это мог бы рассчитывать В.Ф. Трепов, которого сам Государь предупредил насчёт важности прохождения законопроекта, но Трепов скрыл это от правых членов Г. Совета [Н.В. Савич «Воспоминания» СПб.: Logos, 1993, с.64-67].
Явно преувеличивает тот же мемуарист, утверждая, что И.Л. Горемыкин, «циник и скептик, полная противоположность Столыпина». Претензии Н.В. Савича сводились исключительно к старческой внешности Горемыкина и невозможности услышать от него сильных речей в Г. Думе. В результате своей деятельности в 3-й Думе октябристы потеряют поддержку правых монархистов на следующих выборах.
Вдова Д.С. Сипягина 15 февраля 1911 г. передавала И.Л. Горемыкину просьбу графини Эмилии Николаевны Комаровской: «очень она вас просит приехать навестить её дня на два – на три – в Москву гостиница Дрездена на Тверской и остановиться в той же гостинице».
19 февраля 1911 г. И.Л. Горемыкин принимал участие в торжественном обеде в честь 50-летия раскрепощения крестьян. Обед проходил на большой министерской квартире Столыпина на Морской улице. Присутствовали другие министры, В.Н. Коковцов, И.Г. Щегловитов, а также А.С. Стишинский [В.Ф. Романов «Старорежимный чиновник» СПб.: Нестор-История, 2019, с.142].
К 200-летию Сената 2 марта 1911 г. И.Л. Горемыкин был приглашён на праздничное мероприятие.
Продолжая демонстрировать правоту аграрной политики Императора Николая II, Михаил Иванович Горемыкин в 1911 г. выпустил «Предметный указатель узаконений и распоряжений правительства по землеустроительным делам» на 119 стр.
Перед убийством Столыпина в прессе продолжали писать, что «при всём националистическом рвении он не смог завоевать расположение придворных кругов. Они предпочитают такого человека как Горемыкин, одного из своих» [«L’Univers Israelite» (Paris), 1911, 25 aout, p.759].
15 сентября 1911 г. М.И. Горемыкин из С.-Петербурга сообщал матери о своём возвращении из Каменец-Подольска и сдаче доклада. «Дальнейшая моя судьба ещё не известна». «В городе ещё пусто, товарищей моих почти никого». «Ещё вчера в вагоне, по пути в Гатчину, куда ездил обедать, встретил А.С. Стишинского, который убедительно просит меня передать Вам поклоны и разные чувства». Разговоры в городе «вертятся» вокруг назначения на место убитого П.А. Столыпина. «Кандидатура М. в МВД кажется вполне обеспечена, хотя в самые последние дни снова всплывает мой министр», т.е. А.В. Кривошеин[РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1513 Л.15].
А.А. Макаров, упомянутый как М., получил назначение 20 сентября. В.Н. Коковцов 10 сентября в письме Императору Николаю II просил не назначать А.Н. Хвостова или Н.А. Маклакова, которых хотел выдвинуть Царь.
Малодостоверные сообщения прессы пытались связать с именем И.Л. Горемыкина одного из лиц, обвиняемых в допущении убийства Столыпина. Веригин был преподавателем сына Рачковского Андрея. Когда министр внутренних дел Горемыкин стал искать себе личного секретаря, Рачковский порекомендовал ему Веригина. Это крайне сомнительный источник [«Русское Слово», 1911, 16 сентября].
По другим газетам, Веригин в 1906 г. был секретарём Рачковского, а не Горемыкина 10 лет раньше.
Михаил Горемыкин 10 октября 1911 г. писал родителям: «по дороге, в Казани, встретил А.В. Кривошеина, который ехал из Ялты вместе с Коковцовым. Беседовал с ним несколько минут и спросил его, получил ли он папино письмо. Он быстро и многословно стал говорить что вместо письма всё хотел сам приехать, но… и т.д. Что он жаждет видеть папа и просит об этом ему написать. Со мной был очень любезен, и даже более того». М.И. Горемыкин занимал должность представителя ГУЗиЗ в Крестьянском Поземельном банке.
П.Г. Курлов, пытаясь привлечь заступников на свою сторону, написал И.Л. Горемыкину 25 ноября 1911 г. о наступлении своей политической гибели. «Милостивый государь Иван Логгинович. Вы при нашем кратком знакомстве были ко мне очень благожелательны. Ввиду возможной клеветы по моему адресу, мне очень бы хотелось именно Вам передать всю правду». «Прошу Вас назначить мне время» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.893 Л.2].
10 декабря 1911 г. И.Л. Горемыкин сообщил священнику И.Н. Доброхотову «радостную весть: вчера я получил от В.К. Саблера письмо, которым он сообщает мне, что Св. Синодом отпущено на постройку нашего храма 3000 рублей». Горемыкин принял непосредственное участие в закупке строительных материалов. 12 февраля 1912 г. он писал: «многоуважаемый отец Иван Николаевич. Сегодня я купил цемент, а равно железо и гвозди. Всё это будет Вам выслано на этой неделе» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1805 Л.44-48].
Между описанными хлопотами, 12 января 1912 г. в 16 ч. Горемыкин получил аудиенцию у Государя Императора. А.И. Горемыкина тоже не сидела сложа руки: она была попечительницей приюта для сирот в селе Белое и заботилась о пособиях им.
Илиодор, предатель черносотенного движения, вспоминал что он приезжал к И.Л. Горемыкину 14 января 1912 г. вместе с епископом Гермогеном и Иваном Родионовым, участвовавшими в обширной интриге по клеветнической дискредитации Г.Е. Распутина. Пользуясь громкой репутацией ярых монархистов, порядочно дискредитированной последней их борьбой с правительственными властями, Гермоген и Илиодор просили устроить им аудиенцию у Царя. Проявляя должную разборчивость и благоразумие, Горемыкин отказал: «Нет, нет, не могу! Придворный этикет этого не позволяет». По утверждению Илиодора, 15 января Горемыкин приезжал к епископу Гермогену на Ярославское подворье, но ничем ему не помог. А ещё через 2 дня Николай II, много раз прежде прощавший обоих за ценимые многими монархистами старые заслуги, но не сумевший добиться раскаяния и исправления, распорядился о ссылке Гермогена и Илиодора за умножающие смуту,выгодные революционерам действия против Царя и Синода [С.В. Фомин «Ложь велика, но правда больше» М.: Форум, 2010, с.57].
Биограф свмч. Гермогена уточняет, что Император распорядился об увольнении епископа 3 января, а 15 января Синод приказал Гермогену выехать из Петербурга. Справедливости ради, нельзя не отметить, что современный совковейший фарисействующий сталинист, безобразный апологет изменнических заблуждений Гермогена, выгораживает его ценой революционной левацкой дискредитации всего правительства Николая II, приводя исключительно негативные оценки выдающейся работе В.К. Саблера, П.Г. Курлова, а П.А. Столыпина обвиняя даже в «гибели монархии», компилятивно ссылаясь на не проанализированную должным образом, исторически несостоятельную мемуарную болтовню. Безмерная наглость фальсификатора дошла до объявления, будто В.Н. Коковцов добил черносотенное движение [А.А. Калмыков «Страж недремлющий и верный» СПб.: Царское Дело, 2020, с.577-609, 718].
Ни следа подобного не обнаруживается в наиболее компетентном итоговом исследовании о правых партиях, в посвящённом В.Н. Коковцову подразделе. Если Н.Е. Марков считал Коковцова продолжателем финансовой политики Витте, то это всего более походит на невольный комплимент. Сокращение партийных субсидий и отказ Коковцова дать Маркову 1 млн. руб. на выборы в 4-ю Г. Думу заслуживает самой положительной оценки за сбережение денег налогоплательщиков — актуальный пример настоящей правой, а не демократической политики [А.А. Иванов «Консервативные партии» М.: РОССПЭН, 2022, Т.1, с.216-223].
Перефразируя известное выражение, можно заметить, что благодаря Николаю II ни из одной партии не получалась КПСС. По тем же причинам И.Л. Горемыкин отказывал в субсидиях даже самым правым газетам.
С.Ф. Ольденбург 24 января 1912 г. написал сыну: «Здесь все рассуждают о церковных делах: Гермоген и Илиодор. Думаю, что это в сущности глубокая открытая рана Церкви» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.10 Л.310об.].
В связи с приездом английской делегации И.Л. Горемыкин 16 января передал вопрошающим журналистам несколько предложений, отчётливо формально любезных. Но типично для Горемыкина миролюбивых с отпором недоброжелателям: «с Англичанами я всегда был в очень близких отношениях. Ещё в бытность мою министром внутренних дел, а потом председателем Совета Министров, я по мере моих сил способствовал сближению нашей родины с Англией. Торжественная встреча английских гостей и то радушие, которое я вижу во всех отдельных моментах этого большого праздника, радуют меня до глубины души. Я особенно подчёркиваю ту ласку, с которой относятся к своим гостям русские люди. Не сомневаюсь, что и сегодня в Г. Совете английским гостям будет оказан самый любезный и радушный приём, и не верю тем слухам, которые кто-то распускает в городе о каком-то холодном отношении кого бы то ни было из членов Г. Совета» [«Вечернее Время», 1912, №43, с.1].
Относительно этого в статьях серии «Карьера П.И.Рачковского» чуть позднее, 31 мая 1912 г., говорилось, что по поручениям министра Рачковский ездил в Лондон и наводил там «благожелательную атмосферу» относительно Российской Империи. Тогда же, в августе 1899 г. приезд министра Горемыкина в Лондон «имел несомненное значение».
На 18 января И.Л. Горемыкин и его супруга присутствовали при парадном обеде у В.Н. Коковцова на 24 персоны из числа придворных дам, дипломатов и сановников. После кушаний гости играли в бридж на нескольких столах. Великосветский обед в парадных комнатах министерского дома длился 4 часа до полуночи.
Встретившийся примерно в те же недели с Г.Е. Распутиным издатель В.П. Мещерский, к ярости либералов, увидел в нём оригинальную крестьянскую натуру, имеющую духовные, а не политические устремления, паломнически обличающие празднословие.
27 февраля 1912 г. был замечен выезд И.Л. Горемыкина из Петербурга.
М.И. Горемыкин 13 июня 1912 г. писал отцу из с. Белое: «Большую работу С.С. Хрип[унову] сдал и он немедленно засадил меня за другую».
3 августа И.Л. Горемыкин отправил Ивану Овчинникову письмо с просьбой исполнить «поручение» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1046 Л.10об.].
Дочь Ивана Родионова утверждала, что два доклада её отца «Неужели гибель?» и «Что же делать» против винной монополии и народного пьянства были прочитаны в Г. Совете перед началом Первой мировой войны. «Отца ввёл в Гос. Совет любивший его И.Л. Горемыкин, но делу это не помогло» [И.А. Родионов «Забытый путь» М.: АИРО-XXI, 2008, с.14].
Точно названные оба доклада были прочитаны в 1912 г. не в Г. Совете, а в Русском Собрании – элитарном объединении монархистов в С.-Петербурге. Тесный контакт имел с Родионовым и министр А.А. Макаров. Иван Родионов несколько преувеличивал, возводя все революционные идеи к еврейскому источнику, когда обращал внимание на зловредное революционное идейное влияние, захватившее школу и газеты, через них воспитывающее в антимонархическом духе уже не первые поколения молодёжи. Подтачивание монархического сознания – основы Российской Империи, приняло самые угрожающие размеры. Естественно, что эту угрозу отлично видел И.Л. Горемыкин наряду с ценимым им писателем. В 1918 г. атаман Краснов сделал его директором Донского Телеграфного Агентства и редактором-издателем журнала «Часовой». Краснов хотел возвести Родионова в генералы, но тот предпочёл остаться полковником по назначению Императора Николая II.
Среди бумаг И.Л. Горемыкина сохранилось весьма интересное письмо Ивана Родионова от 30 августа 1912 г. о характере их близких взаимоотношений: «Глубокоуважаемый Иван Логгинович, получил Ваше любезное письмо только вчера. Его мне переслали сюда, в область Войска Донского, куда я переехал больше недели назад. Очень бы хотел воспользоваться Вашим любезным приглашением побывать у Вас, поговорить с Вами, да боюсь, что это не удастся п.ч. как бы весь сентябрь не пришлось провести здесь, а там в новгородских краях, в октябре пожалуй наступит настоящая распутица. Впрочем по возвращении моём домой будет виднее. Теперь моя покорнейшая просьба: если для Вас не будет это затруднительным, передайте или перешлите Его Величеству мою книжку. Сейчас я пишу жене моей в деревню, чтобы она немедленно выслала Вам два экземпляра. Два эти доклада и возникли из задуманного мною письма к Государю, о котором я говорил Вам прошлою зимою. Но письмо это так разрослось, что явилось уже неудобочитаемым. Тогда я разбил его на два доклада, а теперь по настоянию многих лиц напечатал».
И.А. Родионов признался, что не всю критику современного состояния России он высказал, «об армии умышленно умолчал. Слишком больно. Рука не поднималась. А в армии плохо, очень плохо. Дисциплина жестоко хромает» и ведётся левая пропаганда. «Многие генералы, занимающие высокие посты, сами развращают нижних чинов, заигрывая с ними и унижая в их глазах офицеров. Это своего рода либеральный способ искания дешёвой популярности, когда нет иных заслуг». «Сейчас живу среди казаков в глухой станице, в 150 верстах от желез. дороги». «Это ещё чудесный народ, простодушный, доверчивый, с глубоким государственным инстинктом».
Иван Родионов перечислял все наиболее актуальные проблемы и несколько преувеличивал их, хотя в дальнейшем революционное крушение подтвердит его худшие опасения. «Жидовское гуманничание решительно связало наши власти по рукам и ногам. Ну что ж? Дождёмся второй революции, а может быть и полной гибели». Все надежды Родионов возлагал только на силу Самодержавной Монархии, считая что управлять народом надо «по-богатырски. Слюнтяйство ему надоело». «Только державная воля ещё может всё спасти, если же она не захочет быть грозной, то на России надо ставить крест» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1133 Л.2-3].
Подобные предупреждения французский журналист Клод Ане приписывал И.Л. Горемыкину, что при нарушении устойчивости выстроенного здания Империи «всё рухнет с ужасным грохотом и от руин поднимутся смертоносные миазмы» [«L’Action Francaise», 1918, 30 juin, p.3].
По утверждению Илиодора, в начале декабря 1911 г. он встречал Ивана Родионова «каждый день» на квартире епископа Гермогена, и Родионов рассказывал про Г.Е. Распутина «невероятные вещи» со слов И.Г. Щегловитова [С.В. Фомин «“Царское дело” Н.А. Соколова» М.: Русский издательский центр, 2021, Кн.1, с.31-32]. Потоки революционной лжи тогда направлялись на В.К. Саблера, о котором, повторяя клевету вероотступника Илиодора, разносили чушь о земных поклонах, отвешенных Г.Е. Распутину за назначение обер-прокурором Синода [Н.Н. Евреинов «Тайна Распутина» Красноярск: КГУ, 1990, с.45].
Сын И.А. Родионова Гермоген, родившийся в 1912 г., в 1944-45 г. состоял адъютантом при П.Н. Краснове, вместе с ним был выдан на преступную расправу большевикам и оказался в сталинских лагерях [«Переписка Лидии Фёдоровны Красновой с генерал-лейтенантом С.В. Денисовым 1947-1949» Подольск, 2022, с.186].
Михаил Горемыкин 12 октября 1912 г. писал матери из С.-Петербурга: «на службе всё благополучно, но тихо. А.В. Кривошеин приехал. Я ещё его не видел», «говорят что грудной жабы у него нет. Болен Ст. Хрипунов». 15 октября для отца Михаил выделил: «в городе большое возмущение по поводу Балканских событий и болезни Цесаревича. Говорят Бог знает что. Писать затрудняюсь».
В докладах А.В. Кривошеина Царю 19 ноября и 3 декабря 1912 г. имелись пункты обсуждения вопроса о назначении И.Л. Горемыкина во главу правительства, как утверждает историк Ю.Б. Соловьёв.
План Императора Николая II и И.Л. Горемыкина по задачам учреждения Г. Думы и укрепления Самодержавия оказался полностью реализован. «Вера в Думу утрачена, идея Думы унижена, состав Думы оскоплён законом 3 июня, деятельность её бессильна и бесправна перед самовластием Государственного Совета, а если Совета мало, так есть ещё мортира 87 статьи» [А.В. Амфитеатров «Эхо» М.: Московское книгоиздательство, 1913, с.12]. К.-д. С.Ф. Ольденбург 16 января 1913 г. писал своему сыну из Парижа, что демократическая идея дискредитирована и в Европе: «парламентаризм переживает острый кризис, почти повсюду» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.5 Д.11 Л.725об.].
П. Милюков в январе 1913 г. заявил, что к.-д. не могут законодательствовать, «остаётся лишь пропагандистская работа» для разжигания недовольства в стране [«Вопросы истории», 1994, №12, с.49]. Эксперт Департамента Полиции в апреле 1913 г. пришёл к выводу, что Милюков является «точным исполнителем» постановления учредительного съезда партии к.-д. об устремлении к Учредительному собранию на основе всеобщего голосования [В.Б. Шепелева «Революциология. Проблема предпосылок революционного процесса» Омск, 2005, с.117].
4 января 1913 г. Император принял у себя И.Л. Горемыкина в 18 ч. Подробностей о встрече в дневнике Государя, как и всегда, не записано. В.Н. Коковцов, знавший о таких знаках внимания Николая II к И.Л. Горемыкину, написал в воспоминаниях, что «время от времени» Царь приглашал Горемыкина «на совещания или просто для разговоров и что многие решения принимаются после таких бесед».
Следующая запись с его именем приходится уже на 9 января 1913 г.: «в 4 часа у меня был Горемыкин». Не всякий министр попадал на приём к Императору столь часто. К примеру, в те же недели перерыв между приёмом В.Н. Коковцова, министра и главы правительства, составил две недели между 4 января и 18-м. Чаще других записан С.Д. Сазонов с периодичностью в одну неделю: 1 января, 8-го, 15-го, 22-го. По разу Б.В. Фредерикс 1 января. И.Г. Щегловитов 9 января, И.К. Григорович 7 января, в тот же день – 1-й доклад Н.А. Маклакова. Есть вероятность, что встречи Императора с И.Л. Горемыкиным связаны именно с этим назначением нового главы МВД, с выбором кандидатуры и направлением его действий. Не исключено также что Император приглашал Горемыкина для предложения именно ему министерского поста.
В письмах С.С. Ольденбургу его отца за 9 января значится: «все говорят о переменах в Мин. Внутр. Дел и о новых назначениях, напр. Джунковского».
Николай Маклаков, по воспоминаниям заместителя прокурора Н.Н. Чебышева, стал заметной фигурой ещё на скромной должности суздальского податного инспектора. «Н.А. был такой же молодой, элегантный, свежий, спокойно-холодный, находчиво-иронический, немножко надменный, с лёгкой отточенной речью, как 12 лет спустя в качестве министра внутренних дел» [«Возрождение» (Париж), 1935, 21 июня].
13 января Государь принимал у себя В.П. Мещерского, с чьим именем связывали выбор Н.А. Маклакова для МВД. 14 января: министров Кассо, Кривошеина и Тимашева, снова Григоровича.18 января помимо Коковцова у Императора был Маклаков, а в «4 часа приняли доброго Григория, который остался у нас час с 1/4». В.Н. Коковцов в дальнейшем представляется Императору уже раз в неделю.
15-м января 1913 г. датировано полученное Горемыкиным письмо анонимного полицейского агента, который утверждал, что потратил 10 лет и до 100 тыс. руб. своего состояния на изучение Юань Шикая (Витте), и состоял на полицейской службе с 1904 по 1913 г. Он предупреждал что Витте готовит публикацию около 100 документов, в которых все русские политики будут «смешаны с грязью» и «среди этих документов будет фигурировать и Ваше имя в качестве ничтожнейшего человека». «Я лично о Вас и Вашей чисто русской государственной деятельности самого высокого мнения». О том что сочинениями Витте «даже Государь будет сильно скомпрометирован» аноним предупредил также председателя Совета Министров В.Н. Коковцова. Автор письма предлагал, что может, загримировавшись, выкрасть документы, на что просил финансирование [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.334 Л.1-2].
С.Ю. Витте в самом деле готовил компрометирующие всех на свете публикации, содержанием которых заранее интересовалась политическая полиция, однако И.Л. Горемыкина это нимало не волновало, поскольку ничто не могло опорочить его и Государя, о чём они своевременно заботились на протяжении каждого дня государственной службы. Дав своим поклонникам упрощённое до примитивности моделирование событий, удобное для тех кто не хочет вникать в подлинные сложные перипетии, записки Витте дискредитировали только его самого, и Горемыкин заранее относился к нему с великодушным снисхождением.
28 января по докладу А.В. Кривошеина Император пожаловал И.Л. Горемыкину учреждённый в прошлом месяце знак отличия «За труды по землеустройству». Вместе с ним знак получили несколько министров: Маклаков, Коковцов, Щегловитов, Харитонов. Из других сановников: Макаров, Стишинский, Риттих, Акимов, Васильчиков. В эту достойную компанию втёрлись и несколько болтунов-депутатов во главе с Родзянко. 11 февраля такой знак получил и камер-юнкер Михаил Горемыкин.
20 февраля А.И. Горемыкина, графиня Толь и барон Таубе были на обеде у Марии Казем-Бек.
К 300-летию Династии Государь возвёл В.Б. Фредерикса в графское достоинство, В.Н. Коковцову пожаловал портрет, украшенный драгоценными камнями, как и И.И. Воронцову-Дашкову. Старейший офицер Преображенского полка генерал-от-инфантерии И.Д. Татищев, член Г. Совета, получил орден Андрея Первозванного. Граф С.Д. Шереметев за полувековую службу также получил рескрипт Царя и бриллиантовые знаки ордена Святого Александра Невского. А.Г. Булыгин получил благодарность за работу в Г. Совете по части административных дел и в комитете по устройству празднований Дома Романовых.
Отмечая «мятущееся море современщины, громадный рост России» Н.П. Муратов в выступлении 21 февраля 1913 г. в зале Курского Дворянского Собрания в честь Династии Романовых обратил внимание, что среди крика, шума, мечтаний, «когда мы суетимся, беспокоимся, спорим, сводим счёты», Император Николай II «один спокоен» «незлобив и благостен», более всех любит Россию «и горячее всех нас молится за неё». Видя достоинство Святости Николая II, монархисты желали ему «долго править Россией самодержавной рукой» [«Труды Курской Губернской Учёной Архивной Комиссии», 1915, Вып.2, с.68].
Дома у И.Л. Горемыкина 2 марта М. Казем-Бек встречала министра А.В. Кривошеина.
Позднее во французском военном журнале напечатали письмо Артура Рафаловича от 26 апреля 1913 г. о влиянии компании «Виккерс» преимущественно на продажных журналистов, а не министров: «коррупция принимает все формы, начиная с хорошего ужина с винными возлияниями и хорошенькими женщинами». К письму прибавлен комментарий публикатора, где Горемыкин именуется первым министром и сообщается что при каком-то из приездов в Париж И.Л. Горемыкин остановился не у русского посла и не в отеле. «Нет, Горемыкин поселился в особняке торговца оружием Захарова» [«Le Crapouillot» (Paris), 1932, mai, p.67].
Такое наблюдение остаётся поверхностными, не давая раскрытия всех сторон взаимоотношений Горемыкина с Захаровым. Более чем осведомлённый Рафалович никаких претензий к Горемыкину не имел.
5 мая в 50-летний юбилей Центрального Статистического Комитета на благодарственное молебствие в церковь МВД прибыл Н.А. Маклаков и его заместители, а также бывшие министры И.Л. Горемыкин, А.Г. Булыгин, А.С. Ермолов. Министр внутренних дел в зале совета МВД зачитал благодарность Государя бывшим и нынешним сотрудникам ЦСК, обеспечивающим направление обустройства России и правильное понимание её достижений. Профессор Георгиевский обрисовал выдающуюся работу комитета. Чтобы подсчитать урожайность в 12 млрд. пудов прошлого года пришлось собрать сведения от 180 тыс. обществ в числе 16 млн. показаний.
Император принял графа С.Ю. Витте 29 мая 1913 г., 30 мая – В.П. Мещерского.
В 1913 г., критикуя С.Д. Сазонова, сменившего Извольского, И.Л. Горемыкин отпускал фразы вроде: «если б я был министром иностранных дел». Горемыкин стоял за невмешательство крупных держав в конфликт на Балканах. Он говорил, что европейским дипломатам надо предложить: «Господа, не мешайте славянам и туркам резать друг друга. А когда это занятие им наконец надоест и они заключат мир, тогда и только тогда наступит момент созвать конференцию и повергнуть условия этого мира на обсуждение Европы». Можно убедиться в том, что Горемыкин не считал нужным втягивать Россию в балканские войны и желал удержать от того же все крупные державы. Совсем по-другому себя вела Австро-Венгрия, чья последовательная оккупационная политика, поддерживаемая Германией, вызывала нарастающую угрозу войны.
Е.Н. Шелькинг, переписывавшийся с И.Л. Горемыкиным и встречавшийся с ним, рассказывает о событиях 2-й Балканской войны 1913 г., когда сербский посланник в России Мирослав Спалайкович консультировался с И.Л. Горемыкиным относительно плана правительства Сербии в случае начала войны занять столицу Болгарии и низложить царя Фердинанда. С.Д. Сазонов категорически запрещал проводить такой план, в то время как И.Л. Горемыкин говорил: «вам, сербам, надо было действовать, не спрашивая никакого разрешения». В июне 1913 г. Болгария первая напала на Сербию, спустя несколько дней после этого разговора, как уверяет Шелькинг.
Поскольку в 1913 г. Горемыкин не возглавлял Совет Министров, вопреки записи Шелькинга, к нему обращались за рекомендациями, принимая во внимание значительность его государственного опыта и авторитетность мнения. Могла играть роль и длящаяся вероятность назначения Горемыкина в МИД, или же беседа со Спалайковичем, состоялась всё-таки в 1914 г., и в ней обсуждались минувшие дела.
В 1938 г. в М. Спалайкович прямо поддержит желание Собора РПЦЗ канонизировать Императора Николая II и будет рассчитывать что Сербская и Болгарская Церкви первыми присоединятся к такому признанию следования за Христом: «для всех православных славян он сделался царём-великомучеником», «он спас душу России в самые ужасные годы», «жил подвижнической жизнью» [«Сегодня» (Рига), 1938, 18 августа, с.3]. О необходимости этого прямо писали русские монархисты: «на первый план должен быть выдвинут вопрос о прославлении Царя и Его Семьи, как Святых мучеников» [«Царский Вестник» (Белград), 1934, 15 апреля, с.1].
Как видно по всему изложенному, И.Л. Горемыкин, идейно развитый монархист, стоял на принципах национализма, согласно которым сохранение и развитие культурных особенностей и политического суверенитета в своей стране означает непременную сопутствующую заинтересованность в существовании чужого культурного своеобразия и политической самостоятельности, независимого от деспотического глобализма, принимающего различные формы порабощения: экономического, дипломатического, культурного. Славянофильство Горемыкина выражалось в предоставлении дружественным России государствам права на самостоятельность. Такова идея национализма как составляющей части идеологии русского монархизма
23 августа 1913 г. министр народного просвещения Л.А. Кассо уведомил Горемыкина, что вносит в Совет Министров испрошение разрешения на преобразование ремесленного отделения при двуклассном училище в ремесленную школу в Боровичском уезде. Кассо дал распоряжение попечителю СПб. учебного округа об открытии школы и разыскании сумм из казначейства на содержание, сверх 300 р., ассигнуемых уездным земством [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.789 Л.9].
В 1913 г. И.Л. Горемыкин получил приглашение на торжественное открытие памятника Императору Александру II в Великом Новгороде. Он возводился на общенародный денежный сбор. Телеграмма губернатора об открытии вызвала одобрение Государя. Газетные сообщения не фиксируют присутствия Горемыкина.
После родов супруги М.И. Горемыкин писал 2 сентября 1913 г. из Петербурга: «Наташа потихоньку поправляется, хотя слабовата. Маленький, кажется, здоров. Завтра будем его взвешивать». «Кажется, разговор, о котором я тебе говорил, между мною и генералом Влад. Николаевичем – состоится. Но когда не знаю» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.639 Л.47].
В октябре 1913 г. В.Н. Коковцов ездил в Рим на полуторамесячный отпуск. Встречался там с итальянскими министрами и пережил воспалительный процесс. Затем в Париже также провёл высокопоставленные встречи. После его возвращения, в середине ноября газета «Новое Время» распространила слух, что в ближайшее время выйдет назначение И.Л. Горемыкина главноуправляющим ведомством учреждений Императрицы Марии, после чего последуют перемены в личном составе ведомства.
Корреспондент «Речи» сообщал, что ещё до официального назначения И.Л. Горемыкина в Париже начали распространяться слухи о запланированном приезде Горемыкина для знакомства с Пуанкаре. Дата не определена, но значится в пределах первой половины 1914 г. В монархической печати Пуанкаре называли противником масонов и дрейфусаров. Трудно сказать, насколько это основательно, но от прежней крайней левизны он далеко отошёл.
Часть 4. Русский Великий Визирь.
Много лет подряд разговоры о том, что Иван Горемыкин вот-вот непременно вновь возглавит правительственную политику Российской Империи и вернётся к официальным обязанностям ближайшего доверенного лица Николая II, не смолкали не зря.
21 января 1914 г. после Коковцова и Акимова ближе к вечеру Горемыкин вновь посетил Государя.
Агентурная записка Департамента Полиции за 28 января сообщала о попытках собраний к.-д., прогрессистов и левых октябристов через В.Д. Набокова и фрейлину Нарышкину передать Государю что Горемыкина назначать не надо, ибо править всеми станет Кривошеин, министром финансов сделается Витте, чьё влияние на Кривошеина безгранично [«Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. 1906—1916 гг.» М.: РОССПЭН, 2002, с.496].
Невероятные фантазии, имевшие хождения среди либералов, разительно ошибочны. Такой голос “народа” депутаты старались доносить Государю сквозь бюрократические препоны, недоумевая, почему их словами пренебрегают.
С утра 29 января различные источники неофициально раскрыли для газет, что отставка Коковцова состоялась. Относительно возможных комбинаций называлась та, где при Горемыкине министром финансов станет Рухлов. Или же придёт связка Харитонов-Барк.
К вечеру появилось уточнение насчёт его замены Горемыкиным и Барком. Рескрипт П.Л. Барку был составлен А.В. Кривошеиным в присутствии Горемыкина. Кривошеин в тот же день выехал из Петербурга за границу.
Распространившиеся слухи о готовящемся уходе Сухомлинова, Кассо и усилении влияния Витте, Кривошеина одинаково оказались неверны.
Депутаты Г. Думы от возвращения Горемыкина растерялись и робко надеялись, что он не будет вмешиваться во внутреннюю политику и не станет посещать Г. Думу. «Политический заколдованный круг», – записал за ними Ксюнин. Никак врагам России не удавалось избавиться от Горемыкина.
Русские монархисты в Белграде позднее вынесут коллективный протест против Ксюнина за подрыв «основы Великой Императорской России». Согласно худшим подлейшим привычкам, которые пропагандировал Ксюнин и ему подобные, «нельзя осуждать Родзянко и [М.В.] Алексеева, а можно жестоко шельмовать Штюрмера» [Н. Свитков «Внутренняя линия. Язва на теле русской эмиграции» Сан-Пауло, 1964, с.2-3].
Зато группа правых Г. Совета очень радовалась. «Вечернее Время» и «Киевлянин» одинаково оценили прежнюю длительную работу Горемыкина в этой группе как деятельную (а отнюдь не пассивную), газеты отметили значительное единомыслие с П.Н. Дурново и отличные отношения с ним И.Л. Горемыкина. Группа правых стала рассчитывать, что займёт более значительное положение, чем прежде при Столыпине и Коковцове.
В декабре 1914 г. П.Н. Дурново напишет про «моё глубокое уважение к Ивану Логгиновичу, с которым нахожусь в течение многих лет в наилучших добрых отношениях» [РГИА Ф.1617 Оп.1 Д.274 Л.1].
30 января в 13 ч. Горемыкин принял своего управляющего делами, Н.В. Плеве. С 10 утра на его квартире стали собираться министры, сановники и «многочисленные почитатели» Горемыкина. Из них, однако, Горемыкин принял только племянника Бюнтинга, а Плеве всё время был при нём.
Замена Коковцова Горемыкиным, как сообщалось в агентурной записке, вызвала ликование правых монархистов на состоявшихся банкетах и собраниях в Ярославле, Казани, Киеве и многих других городах [«Монархисты (1900 – февраль 1917 г.)» Новосибирск: НГУ, 2016, с.81].
Горемыкин отправлял ответные благодарственные телеграммы обществам русских патриотов, в которых рассчитывал на помощь верноподданных в предстоящих ему трудах. Такой ответ получило, в частности, Николо-Бутырское общество трезвости в Москве, имевшее свою железнодорожную артель и проводившее исторические изыскания.
«Московские Ведомости» увидели в назначении Горемыкина лучшее доказательство постоянства политического направления Императора Николая II. «Власть вверялась ему в трудные и опасные времена, – и он везде и всегда оставался самим собою. Это – цельная, яркая и определённая личность». Горемыкин в 1906 г. «с честью держался среди безобразий революционного сборища, не уступая его натиску ни на пядь». И теперь он приступает к знакомым ему обязанностям с тем же спокойствием, уверенностью и уравновешенностью.
По оценкам слева тоже получалось, что рост контрреволюции начался с удушения И.Л. Горемыкиным 1-й Г. Думы, а назначение его в 1914 г. означало завершение эры успокоения и утверждение неограниченного господства Самодержавия [Б.В. Яковенко «История великой русской революции» М.: Викмо-М, 2013, с.40, 83].
В начале 1914 г. к назначению Горемыкина Струве написал про «парадоксально-бессильное положение, в котором находится Государственная Дума», фактическая власть принадлежит Г. Совету, утвердилась монархическая власть, а не парламентаризм и идеи 17 октября [М. Колеров «Пётр Струве: революционер без масс» М.: Циолковский, 2020, с.298].
«Новое Время» отметило, что Горемыкин и впредь будет отстаивать могущество и закономерную деятельность государственной власти, как заявил об этом в декларации 1906 г., отразив попытки социалистической Г. Думы устроить переворот. «Преклонный возраст не ослабил, а скорее усилил его авторитет». М.О. Меньшиков добавил к этому, что тонкое воспитание, приличие и политический рассудок Горемыкина одолели бунт и насилие выступивших против него депутатов. «Уже тогда престарелый и нуждающийся более всего в покое Иван Логгинович нашёл в себе в те бурные дни гораздо больше твёрдости, чем многие более молодые представители власти». Публицист при этом пересказал легенду, будто во время решения вопроса о роспуске Г. Думы, Горемыкин сказал не согласному с ним генералу, занимавшемуся охраной Петербурга и опасающемуся бунта революционной черни, что она из Петергофа «назад не вернётся», если дойдёт. На самом деле слухи об решительных фразах Горемыкина относятся ко времени опубликования манифеста 17 октября.
31 января Государь принял последний доклад Коковцова и отметил его сильное огорчение отставкой. Назначение Горемыкина Императором в дневнике названо очень важной для него переменой. По воспоминаниям Коковцова, 31 января он пожелал Горемыкину успехов. Горемыкин же произнёс излюбленное им скромное сравнение себя со старой енотовой шубой. Горемыкин всегда демонстрировал, что у него не кружится голова от высоты правительственной власти и он готов в любой момент от неё отказаться. Это превосходные качества со стороны политика, который никогда не будет ставить свои личные интересы выше России и не будет представлять угрозу деспотической узурпации.
Записанные почти 20 лет спустя слова Горемыкина едва ли переданы с полной точностью, учитывая склонность Коковцова к одностороннему самовосхвалению за счёт окружающих. Приписываемые Горемыкину утверждения о неосуществимости рескрипта Барку несколько откорректированы Коковцовым, можно сравнить с тем как сам Барк вспоминает о сдержанности Горемыкина и отсутствии у него оптимизма относительно ограничения продажи алкоголя. Зато Горемыкину вполне может принадлежать другая мысль, укор Коковцову, что тот слишком часто шёл против желаний Императора Николая II: «Это непрактично. Государю не следует противоречить».
2 февраля особое почтение Государя выразилось в записи полного имени собеседника: «от 4 до 5 у меня сидел добрый Иван Логинович Горемыкин. Пили чай вдвоём. Читал. После обеда приехал Григорий, поговорили вместе часок». Оба эти собеседника были чрезвычайно приятны Императору.
Е. Шелькинг в 1918 г. вспоминал такие же сентиментальные отзывы Горемыкина о Николае II: «я чрезмерно привязан к нему. Я знаю его очень давно». Шелькинг называет несправедливым сделанное Витте сравнение Горемыкина с дворецким при Императоре. Он полагает что уместнее сравнить Горемыкина с учителем Царя. Горемыкин при этом тоже сравнивал себя с камердинером Императора.
Роман Розен тоже обращал внимание на очаровательную манеру общения И.Л. Горемыкина, делавшую работу с ним для Императора Николая II предпочтительнее сравнительно с утомительным Коковцовым. Барон Розен поверхностно знал Горемыкина по Г. Совету и чувствовал себя с ним в хорошей компании. По опыту общения он определял Горемыкина культурным, открыто и непредвзято мыслящим, очень консервативным, но нисколько не реакционным, убеждённым в спасительной силе монархической правительственной политики [R.R. Rosen «Forty years of diplomacy» London, 1922. Vol.II. P.150].
Эти воспоминания можно сравнить с тем как в те же недели в письмах Розен сообщал о Горемыкине, что тот «очень просвещённый и разумный», далёк от всякого опасного фанатизма.
Газеты также сообщали о приёме Горемыкина в Царском Селе 3 февраля в 15 ч.
Непреклонный монархист С.С. Ольденбург, естественно, не разделил всеобщего недовольства левых от возвращения И.Л. Горемыкина, не переживал и насчёт возможности отхода правительства от столыпинского конституционализма. 4 февраля он написал дяде: «Происходящее теперь «в сферах» перемещенье мне кажется сдвигом ещё вправо, хотя и нерешительным». «Мне назначение Горемыкина и Барка не представляется особенно важным». «Что касается Думы – то напр. по себе даже чувствую, как к ней ослабевает интерес. Отчёты Гос. Совета читаешь гораздо внимательней» [СПФ АРАН Ф.887 Оп.2 Д.156 Л.7].
Сергей Сергеевич, успокоительно заявляя об отсутствии радикальных сдвигов, конечно, не выражал желания какого-то более решительного разрыва с прежней политикой, а напротив, подчёркивал преемственность в результативных решениях Императора Николая II. Самодержавие идеологически победило демократический парламентаризм. Схватка, начатая в январе 1895 г. либералами, завершилась для них разгромно.
Зачитывать Г. Думе новую правительственную декларацию Горемыкин не торопился, первым делом уделяя внимание ежедневным переговорам с министрами. В связи с этой подготовительной работой и первое официальное заседание правительства откладывалось на несколько дней до 10 февраля. Выступление в Г. Думе не могло произойти раньше этой даты.
Французский посол М. Палеолог более часа беседовал с Горемыкиным 5 февраля.
Правый историк и политический публицист Д.И. Иловайский из Москвы 5 февраля отправил приветствие И.Л. Горемыкину: «Слава Богу, исполнилось моё сердечное желание, выраженное в моём «Кремле» года три тому назад: видеть Вас снова во главе министерского синклита. Само собою разумеется, с Вашим возвращением к власти оживляются надежды на поворот правительственного направления в сторону русских национальных интересов. Но я не буду отнимать у Вас другоценное время и только вкратце приведу два из своих ближайших пожеланий». Иловайский хотел, чтобы Горемыкин использовал «выдающийся административный талант» Б.В. Штюрмера, предлагая дать ему МВД или Св. Синод, или хотя бы сделать Московский городским головой. Другим сильным средством борьбы с «жидо-кадетской» печатью Иловайский предлагал запрет торгово-промышленных объявлений вне органов «безусловно правого и национального направления». Признавая, что столь «радикальную меру» не решилась поддержать сама правая пресса, Иловайский оправдывал чрезвычайный характер спорного предложения, тем что иначе «нам грозят великие бедствия и потрясения. А более всего опасность грозит самой династии» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.795 Л.1-2].
8 февраля 1914 г. во главе с Сазоновым состоялось совещание военных и дипломатов, без участия Горемыкина, и было решено провести операцию по захвату проливов, но никаких шагов к этому сделано затем не было [Ю.В. Лунева «Босфор и Дарданеллы» М.: Квадрига, 2010, с.203].
Отсутствие Горемыкина может служить лишним доказательством того, что ни к какой военной партии он отношения не имел. Великий Князь Николай Николаевич ровно 6 лет назад также требовал брать Константинополь, но не просто так, а в случае войны с Турцией.
Во французской прессе появлялись сообщения, будто С.Д. Сазонов, зная что И.Л. Горемыкин иногда критически высказывался о его внешней политике, сразу же предложил свою отставку, а потом повторил её. Император Николай II дал отказ [«Le Temps», 1914, 4 mars, p.2].
Корреспонденту «Temps» Горемыкин сказал, что законоположения 1905 г. были введены излишне поспешно, без должной подготовки, но он не стремится к конфронтации с Г. Думой и желает чтобы Россия управлялась на базе Основных Законов. Естественно, Горемыкин признал задачей правительства бороться с любыми административными злоупотреблениями. Относительно существовавших тогда представлений, будто Горемыкин являлся германофилом, то последняя беседа с Делькассе показала, что он вполне симпатизирует Франции. Горемыкин прямо сказал, что Россия заинтересована в более крупных вложениях французского капитала в русскую промышленность, чем имеющиеся до сих пор. Союз с Англией Горемыкин также счёл пока ещё недостаточно прочным, желая достигнуть большей определённости в дружеском характере её отношений с Россией. Нисколько не противоречило этому и прямое заявление Горемыкина о желании добрососедских отношений с Германией (только следуя этой программе И.Л. Горемыкина и можно было предотвратить Первую мировую войну).
Новый министр П.Л. Барк имел совсем другие заботы. 8 февраля он писал А.В. Кривошеину о занятии докладами и визитами. И.Л. Горемыкин одобрил приём, устроенный после прощания с В.Н. Коковцовым в министерстве финансов. П.Л. Барк в письме подчеркнул, насколько он ценит расположение Горемыкина: «с ним видаюсь очень часто, и отношение чрезвычайно благожелательное». Все перестановки в Комитете финансов производились Барком исключительно с одобрения Горемыкина, «который преисполнен желания возможного сближения».
Тем самым разоблачаются слухи, ходившие ещё в начале января в Г. Совете. А.Д. Зиновьев в письме к А.А. Гирсу 11 января 1914 г. называл Кривошеина пружиной интриги против Коковцова, Горемыкина – ширмой, Барка – пешкой. То, как и кем принимались после ухода Коковцова ключевые политические решения, показывает действительные роли Горемыкина и Барка. Опровергает слухи и то что Г. Совет взялся за решение питейного вопроса без участия Кривошеина. Во французской печати под влиянием этих слухов также распространялась дезинформация, будто Кривошеин отказался от должности, считая что глава правительства должен иметь опыт управления МВД. Быть может Кривошеин подобным образом и пытался занять место Н.А. Маклакова, но отнюдь не смог его получить, как предполагали те кто желал его продвижения.
Не способный к критике исторических источников К.А. Кривошеин напрасно распространял удобную ему мифологию о выдвижении И.Л. Горемыкина своим отцом, желании А.В. Кривошеина остаться за ширмой и быть фактическим правителем. Ложная концепция К.А. Кривошеина порождена его не сдерживаемыми никакими разумными рамками родственными пристрастиями и поразительной либеральной слепотой, при которой все правые монархисты характеризуются исключительно негативно и их самостоятельной политической роли не придаётся никакого значения. Изучение биографии И.Л. Горемыкина показало что его выдвижение связано с особыми личными предпочтениями Императора Николая II, которые тот не выказывал Кривошеину. Поддержка И.Л. Горемыкина со стороны А.В. Кривошеина являлась лишь одним из доводов в его пользу. Причём, когда Кривошеин предаст Горемыкина, перейдя на сторону его оппонентов, это будет означать потерю лояльности Государю и сделает неизбежным уход Кривошеина из правительства. Такую, обратную закономерность, действительно удаётся обнаружить.
Новым директором Департамента Полиции был назначен В.А. Брюн-де-Сент-Ипполит, бывший прокурор Омской судебной палаты. Практически все высшие лица Империи предварительно вели обширную полезную работу в различных русских губерниях. Газетная и партийная болтовня, будто чиновники не знали Россию, не подтверждается ни на одном примере.
8 февраля Горемыкин в частном порядке навестил Родзянко. На вопросы газетчиков Родзянко объяснял, что убедился в намерении Горемыкина достигнуть умиротворения и спокойной законодательной работы, что совершенно не понравилось партии к.-д. Горемыкин провёл переговоры и с руководителем земской группы М.М. Алексеенко. Горемыкин встречался также с графом Э.П. Беннигсеном и, по его воспоминаниям, спрашивал с кем ещё из октябристов можно переговорить. При общении Горемыкин отказался отвечать, как именно будут устроены отношения правительства с Г. Думой.
9 февраля в Царском Селе Николай II утвердил положение Совета Министров о программе празднования 50-летия крестьянской политики Александра II в Привислинском крае и Холмской губернии. Программа включала юбилейные торжества, заупокойные богослужения по убиенному Царю, молебствия за Царствующий Дом, раздача среди учащихся и сельских жителей юбилейных брошюр на русском и польском языке. Войска привлекались к устройству торжественных парадов близ памятников Александру II, в правительственных театрах устраивались парадные спектакли. Проводники крестьянской политики удостаивались почётного внимания и на них распространилось право на ношение нагрудного знака для участников акта 19 февраля 1861 г. Распоряжения о распорядке торжеств скрепил для представления в Сенат И.Л. Горемыкин.
Столь подробная торжественная программа позволяет полагать, что она была подготовлена правительством заблаговременно, задолго до первой недели февраля, а это в свою очередь означает, что назначение И.Л. Горемыкина во главе Императорского правительства было задумано Николаем II расчётливо точно к данному юбилею, что ещё раз опровергает легенду о будто бы предложенной А.В. Кривошеину высшей должности и о его отказе в пользу Горемыкина.
Изданная земским отделом МВД история крестьянского дела в Привислинских губерниях М.И. Корниловича положительно ссылалась на исследование И.Л. Горемыкина на ту же тему.
10 февраля в Зимнем дворце состоялось заседание Совета Министров в присутствии Горемыкина, председателем выступил сам Государь. Вечером министры были на парадном обеде у Н.А. Маклакова. В.Н. Коковцов по-прежнему выражал сильное озлобление своим уходом, выказывая тем самым разительное отличие в уровне политической культуры от И.Л. Горемыкина. 21 февраля В.А. Сухомлинов написал жене об этом превосходстве нового главы правительства: «давно нам нужен был такой председатель Совета министров, как И.Л. Горемыкин, человек вневедомственный, опытный государственный человек, умеющий беречь свои и наши силы без ущерба для дела. Теперь наши заседания протекают без многословия, мирно и продуктивно» [«Генерал В.А. Сухомлинов. Дневник. Письма. Документы» М.: РОССПЭН, 2014, с.274-279].
11 февраля совещание правительства прошло дома у Горемыкина. Оно носило частный характер, обсуждались проекты отдельных ведомств и, сообщало «Новое Время», в соответствии с полученными от Государя предначертаниями, вырабатывался согласованный общий политический курс. Правые газеты сообщали, что финляндскую политику Горемыкин намерен поддерживать в установившемся направлении к достижению единения Империи. Финляндские дела были намечены на ближайшее рассмотрение в Совете Министров.
12 февраля Император Николай II собственноручно подписал именной указ Сенату, в котором перечислялись имена, отчества и фамилии 4-х крестьян Олонецкой губернии, с точным указанием площадей земельных участков, подлежащих выкупу за вознаграждение ввиду нужд министерства путей сообщения. Каждое дело об отчуждении частных земель носило чрезвычайно исключительный характер, требующий личного распоряжения Монарха. Столь внимательно проводилась политика Империи по защите частной собственности каждого крестьянина.
И.Л. Горемыкин в доверительном письме Кривошеину от 13 февраля перечисляет все состоявшиеся важные встречи последних дней. «Спасибо, большое спасибо за Ваши добрые строки от 5 февр., дорогой Александр Васильевич. Получили их по оказии и такою же пользуюсь и сейчас. Я знаю, что Вы слишком заняты мыслями о том, что здесь происходит. Ну, что делать; а всё-таки очень жалко, что Вы не здесь. Первые мои шаги сделаны, что из этого выйдет не знаю». «Глупые слухи начинают утихать и на них особого внимания даже останавливать не следует». Упоминает что был у Царя: «всё хорошо». Затем о заседании Совета Министров: «Я чувствую глубочайшую благодарность Г. [Государю] за его слова, они облегчили на половину мою задачу». Затем на частном совещании «всё шло как по маслу», «без всяких разногласий». Свидание с Родзянко выявило его самолюбие. «Я никуда ещё не переехал и не знаю куда судьба бросит». Поскольку Государь не планирует давать председателю правительства министерский портфель, «то надо подумать о помещении для П. Сов. Это уже не личный вопрос». «До свидания, дорогой мой Александр Васильевич, письмо это вверяю даме, едущей в Ваши страны. Писать больше не могу», «устал как собака» [РГИА Ф.1571 Оп.1 Д.268 Л.1-2].
Содержание письма доказывает, что при всём благорасположении и желании И.Л. Горемыкина дать Кривошеину полный обзор складывающейся ситуации, разрешение всех политических вопросов находится исключительно в руках Императора Николая II, И.Л. Горемыкина и совместных разрешений правительства. Ни по какому вопросу И.Л. Горемыкин не советуется и не исполняет каких-либо его указаний. Миф о теневом управлении Кривошеина является одним из упомянутых глупых слухов.
Ф.Ф. Ольденбург 14 февраля писал брату из Твери: «У нас опять возобновился слух, что министром назначают Штюрмера» [СПФ АРАН Ф.208 Оп.3 Д.433 Л.5об.].
15 февраля у Государя после Горемыкина был Куломзин.
После посещения Императрицы Марии Фёдоровны, С.Д. Сазонова, находящихся в Петербурге иностранных послов, нанёс визит И.Л. Горемыкину немецкий принц Вильгельм Вид, который в эти дни занял новообразованный и просуществовавший затем лишь несколько месяцев албанский престол. Принц занимался устройством албанского национального банка и проведением займа.
П.Л. Барк в новом письме к Кривошеину 16 февраля подтвердил мнение В.А. Сухомлинова, совпадающее и с графом П.Н. Игнатьевым, «об удивительно благоприятном впечатлении» от первого заседания под председательством Горемыкина. «Особенно» Барк был благодарен Горемыкину за поддержку в ограничении финансовых требований других министров. Не кто другой, а именно Горемыкин оказывался главной опорой в проведении финансовой политики Барка, которая позволила потом Империи благополучно выдержать страшные тяготы войны.
Император Николай II 16 февраля выпустил рескрипт на имя Н.А. Маклакова в честь 50-летия великих преобразований в Привислинском крае. В рескрипте отмечалось, что к осуществлению указов о попечении крестьянам Александром II были привлечены «лучшие люди из России». Государь выразил «совершенное благоволение тем немногим здравствующим сподвижникам Моего Незабвенного Деда, на коих пал благодарный труд». Хотя имя Горемыкина прямо названо не было, в первую очередь именно ему были посвящены эти строки. Министр внутренних дел приехал отметить этот юбилей в Варшаву. Бывший проводником политики, приведшей к экономическому возрождению края и укреплению его связи с Россией, И.Л. Горемыкин был слишком занят для участия в торжествах, но благодеяния его молодости отмечались в печати как неоспоримые. На парадном обеде в Варшаве 17 февраля Николай Маклаков поднял тост в честь Горемыкина.
В.Н. Коковцов написал 17 февраля 1914 г.: «Глубокоуважаемый Иван Логгинович. После Вашего ухода вчера от меня я не мог не задуматься над словами Государя, переданными Вами мне и не мог не усмотреть в них» «прискорбное для меня неудовольствие Его Величества». Однако Коковцов не понял «что именно ставит мне в вину Государь Император?». «Не стесняйтесь сказать мне всего, известного Вам, правду и будьте уверены, что я спрашиваю Вас о ней не для каких-либо исследований, а тем более самооправданий, а только для того чтобы знать и не терзаться догадками».
В двухтомных мемуарах Коковцова не нашлось места для описания этой встречи и последующего обмена мнениями. Надо полагать, оттого, что переданные Горемыкиным действительные претензии Николая II не имели ничего общего с нелепыми фантазиями Коковцова о Григории Распутине и Царице Александре, о которых Коковцов столь часто и неуместно разглагольствовал в воспоминаниях.
На заседании Совета Министров 20 февраля было рассмотрено представление Сухомлинова о финансировании потребностей армейского хозяйства и о корректировке статей устава воинской повинности. Под председательством Горемыкина министры одобрили внесение в Г. Думу проекта второй переписи населения Империи, без совмещения её с промышленной и сельскохозяйственной переписью, т.к. опыт показал, что успешнее не проводить их одновременно. Обсуждалось снаряжение поискового отряда для поиска пропавших северных экспедиций Брусилова и Русанова. Важным правительство считало принять меры против утечки из России рабочих сил за границу через формирование рабочих мест в пределах Империи.
20 февраля Барк писал про беседу Горемыкина с членами Г. Совета насчёт редакции законопроекта о борьбе с пьянством, который после поправок возвращался в Г. Думу.
По газетным сообщениям, 20 февраля И.Л. Горемыкин вёл переговоры с М.Г. Акимовым насчёт скоординированной совместной работы правительства и Г. Совета.
Н. Маклаков за служебным №1211 получил от Горемыкина обращение 24 февраля: «М. г. Николай Алексеевич. Имею честь препроводить при сём к вашему превосходительству присланные мне секретарём Государственной думы печатные экземпляры заявлений членов означенной думы: 1) 37 членов – об изменении положения о выборах в Государственную думу и 2) 38 членов – о восстановлении представительства в Государственной думе от населения областей: Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской, Семиреченской, Закаспийской, Самаркандской, Сыр-Дарьинской и Ферганской, – покорнейше прося вас, м. г., не отказать сообщить мне ваше заключение по содержанию настоящих законопроектов, для рассмотрения сих дел в совете министров до 19 марта сего года, после какового срока упомянутые законодательные предположения могут
быть предложены к слушанию в Государственной думе (Учр. Гос. Думы, изд. 1908 г., ст.56). Прошу вас, м. г., принять уверения в отличном моём уважении и совершенной преданности» [«Красный Архив», 1936, Т.79, с.19-22].
После того как 38 депутатов Г. Думы внесли предложение о восстановлении представительства от областей Средней Азии, от Семипалатинской до Ферганской, Н.А. Маклаков написал И.Л. Горемыкину, что считает такое невозможным из-за разноплеменного населения, не готового к законодательной работе, судя по выборам 21 декабря 1905 г. 20 марта Совет Министров отклонил проект.
21 февраля Барк и Рухлов выехали в Царское Село.
Из Рима Леонид Андреев писал матери 24 февраля 1914 г.: «не одобряю, что нянька балует Тинчика [сына] и что министром назначен старая стерва Горемыкин» [«Леонид Андреев. Далёкие. Близкие» М.: Минувшее, 2011, с.31].
Левые депутаты Г. Думы питая то же неодобрение, жаждали любого повода обрушиться Горемыкина, в связи с чем их обеспокоил слух, что Горемыкин не намерен читать декларацию или просто произносить речь, чем лишит их предмета критики. Депутаты выражали желание разузнать его программу хотя бы за чашкой чая, но и того Горемыкин пока не находил нужным. К началу марта газета «Утро России» Рябушинского раздражалась на Горемыкина, поскольку Сазонов и Сухомлинов давали дружественные интервью немецкой и австрийской печати, которая недавно вела против России очередную пропагандистскую кампанию. Либеральная печать вела себя воинственнее против Германии, чем правительство Горемыкина, хотя подлинность анонимных интервью также подвергалась сомнению.
Протоиерей И. Восторгов, руководитель московского монархического союза, 28 февраля писал И.Л. Горемыкину: «ещё раз осмеливаюсь засвидетельствовать перед вами о сердечной радости всех монархистов по поводу назначения вам на высокий пост». Восторгов отправлялся в Оренбургскую и Туркестанскую епархии по церковным делам и беспокоился насчёт финансирования союзной газеты.
Расследование механизма происхождения этой немецкой газетной кампании должно быть одним из ключей к происхождению мировой войны.
Близкий И.Л. Горемыкину Н.В. Плеве 1 марта с должности управляющего делами Совета Министров был переведён в заместители Н.А. Маклакова. А.И. Лыкошина ввиду этой замены назначили в Г. Совет.
«Московские Ведомости» сообщили, что в ответ на многочисленные статьи в немецкой печати о готовящейся «предупредительной войне» против России, И.Л. Горемыкин не для печати дал в кабинете Родзянко нескольким приглашённым депутатам Г. Думы секретные указания относительно задач поддержания боевой готовности и её финансирования. При Горемыкине, который впервые знакомился с депутатами, были Сухомлинов, Сазонов и Барк. Обсуждать военные вопросы в связи с внутренними делами Горемыкин принципиально отказался. Также Горемыкин опроверг слухи об отставке Н. Маклакова и И. Щегловитова.
Со стороны правых с И.Л. Горемыкиным тогда впервые встретились Н.Е. Марков, А.Н. Хвостов, Г.Г. Замысловский, В.М. Пуришкевич. Националистов представляли П.Н. Балашов, А.И. Савенко. По 4 депутата присутствовало от нескольких фракций октябристов, прогрессистов и к.-д.
Как сообщил «Голос Москвы», А.Н. Хвостов от имени правых выразил благоприятное впечатление от встречи с И.Л. Горемыкиным, отметив, что она является ответом на антирусскую газетную пропаганду в Германии. Граф Э.П. Беннигсен тоже рассчитывал, что проведённое совещание с правительством повлияет на германскую военную пропаганду и она снизит агрессивный пыл. Националисты А.А. Потоцкий и В.Г. Ветчинин также рассчитывали на положительный эффект в Европе от демонстрации русского единения. Совсем другие, кислые отзывы озвучили левые октябристы и к.-д.
Через 10 лет Милюков вспоминал про состоявшийся вечером 1 марта разговор в кабинете Родзянко с И.Л. Горемыкиным и В.А. Сухомлиновым, будто левая часть депутатов убедилась в неподготовленности военного ведомства [П.Н. Милюков «Моё отношение к последней войне» // «Последние Новости» (Париж), 1924, 1 августа, с.2].
К.-д. для этого вывода могли бы и не встречаться с Горемыкиным, ибо они всегда находились в уверенности в полной негодности всех властей.
В соответствии с тем что рассказывал депутатам министр финансов, в Российской Империи отмечался усиленный рост всех отраслей отечественной промышленности, опережаемый возрастанием крестьянской покупной способности. Регулярное расширение спроса создавало для дальнейшего развития предприятий самые блестящие перспективы. Кривое зеркало левой печати и думских депутатов, однако, являло не конфликт хорошего с отличным, а попытки подорвать успехи Императора Николая II своими утопическими альтернативами.
Как свидетельствуют воспоминания о начале ХХ века, «мы прошли сквозь небывалый расцвет в период царствования последнего императора-мученика» [Б. Хольмстон-Смысловский «Первая русская национальная армия против СССР» М.: Вече, 2011, с.143].
Даже в газете к.-д. «Речь» можно встретить неопровержимые тому доказательства: на тысячах вёрст новых ж/д «почти удвоена» скорость, в сёлах «вырастают школьные дворцы», «крестьянство переходит к совершенному плугу, даже изредка – паровому, и к жатвенной машине», «осуществляется среднее и низшее техническое образование», «быстро совершается сплочение народа в деле товарообмена, кредита, промышленности». Меньшевик Суханов в предреволюционном 1916 г. писал о «несомненном экономическом подъёме деревни» [С.Г. Коростелёв «Журнал «Летопись» (1915-1917) и газета «Новая жизнь» (1917-1918)» СПб.: Дмитрий Буланин, 2015, с.156].
Причём капиталистическая экономика при Николае II ориентировалась «на выпуск продукции для нужд людей. Действительно, задумаемся над этим поразительным фактом: в царской России две трети промышленной продукции шло на потребление, а в социалистической советской экономике – только лишь одна четвертушка, три четверти всей продукции возвращается в производство» [И. Бирман «Экономика недостач» Нью-Йорк: Chalidze Publications, 1983, с.139].
2 марта 1914 г. получила утверждение Царя инструкция, подготовленная при участии И.Л. Горемыкина и Совета Министров, занявшимися руководством к применению правил 24 августа 1909 г. о безраздельной компетенции Монарха в военном деле, включая военное законодательство. [«Вспомогательные исторические дисциплины» СПб.: Дмитрий Буланин, 2002, Т.28, с.384].
Горемыкин, Сухомлинов, Сазонов и временно исполняющий обязанности министра Двора граф Нирод 4 марта выехали в Царское Село.
Среди депутатов Г. Думы передавали, что при обсуждении проекта В.П. Мещерского об изменении порядка принятия законов И.Л. Горемыкин ответил: «Это беспочвенно. Нужно уважение к существующим законам». Но относительно рескрипта 7 марта приводились противоположные, левые и правые трактовки. В рескрипте видели влияние руки Горемыкина. Вспоминали его слова одному из депутатов: «дело Думы – законодательствовать успешно и плодотворно. Задача правительства – строго осуществлять законы в жизни».
Царский рескрипт гласил: «Иван Логгинович. Призвав вас на ответственный пост председателя Совета Министров, Я имел в виду, что ваша государственная опытность, ваша спокойная твёрдость и испытанная верность Нашему Престолу послужат к истинному объединению под вашим мудрым руководством Моего правительства и к дальнейшему улучшению условий русского быта. Ныне Я признал за благо преподать вам общие указания, которые должны определить всю предстоящую правительственную работу. Дальнейшее и неуклонное упрочение в стране государственного и общественного порядка должно быть положено в основу забот правительственной власти. Только порядок и уважение к утверждённому Мною закону могут создать те условия, при которых законодательная работа будет успешной и плодотворной. На том же уважении к закону и на взаимном доверии должна быть основана работа Моего правительства и законодательных учреждений. Она должна преследовать единую цель – благо России. Но так как полнота и ясность в выполнении Мною указанных задач требуют от их исполнителей твёрдого сознания своей ответственности перед Властью Верховною и Россиею и не допускают ни произвола, ни послаблений в ущерб достоинства правительства и в угоду каким бы то ни было посторонним побуждениям, то Я ожидаю от вас постоянного внимания к тому, чтобы великий образ русского государства не затемнялся личными соображениями. И чтобы благо Моего народа не приносилось в жертву беспочвенным стремлениям, порою совсем чуждым тем народным заветам и историческим устоям, которыми росла и крепла Россия. Возлагая на вас заботу об осуществлении изложенных Моих предначертаний, Я хочу верить, что любовь к родине соединит в дружной общей работе всех её верных сынов, и что между Моим правительством, облечённым полным Моим доверием, и законодательными учреждениями, круг ведомства которых строго очертан в законе, установится то необходимое согласие в общем служении России и Мне, которое с Божией помощью обеспечит дальнейший рост русской мощи, послужит залогом подъёма духовных и экономических сил Нашей великой родины и будет началом полного расцвета её мирового значения». Царское Село, 6 марта 1914 г. Император принимал Горемыкина в Царском Селе 5 марта, что подсказывает совместную их работу над рескриптом.
Рескрипт Императора Николая II объявлял полное торжество идеи Самодержавия и точно повторял произведённое в начале Царствования осуждение беспочвенных мечтаний демократии и социализма. В рескрипте Г. Дума снова обозначалась в качестве потенциальной угрозы для русского благополучия, если депутаты не будут правильно встраиваться в систему государственной власти при её верном и добром страже – И.Л. Горемыкине. Правая печать горячо приветствовала рескрипт.
Слухи о том, что Горемыкин готовит для своего единомышленника Б.В. Штюрмера место в Совете Министров повторялись 3 марта. Если Горемыкин рекомендовал его Государю, такой отзыв мог сказаться спустя пару лет. Недоброжелательные слухи возвещали скорую отставку даже самому Горемыкину, что уж совсем ни с чем было не сообразно. Кривошеин всё ещё находился в Риме, туда же отбыл и уволенный Коковцов.
В письме Кривошеину от 5 марта И.Л. Горемыкин уведомил, что получил его письмо от 27 февраля. Переписка их даёт точное представление о сложившемся характере их политического взаимодействия. Исполняя просьбу Кривошеина, И.Л. Горемыкин комментирует её: «благодарности Вашей не стоило, так как действовал по убеждению». «Газетам не верьте – всё враньё. Говорили о Вас в Ц.С. Государь заботится о Вашем здоровье и спрашивает не рано ли Вы возвращаетесь». «Буду рад Вас видеть здесь, но желаю Вам беречься и раньше полного выздоровления не возвращаться».
6 марта проходило заседание Совета Министров на котором Горемыкин взял на себя разбор порядка взаимодействий с Г. Думой. Горемыкин на основании ст.55 Учреждения Г. Думы выступил против практики спешной разработки депутатами альтернативного законопроекта вместо рассмотрения вносимого правительством. Во избежание вредного параллелизма в работе, Горемыкин распорядился при таких обстоятельствах не допускать представителей своих ведомств к работе с комиссиями Г. Думы [ «Особые журналы Совета министров Российской империи. 1914 год» М.: РОССПЭН, 2006, с.113].
Бюро печати стало известно, что для И.Л. Горемыкина будет приобретён специальный дом для приёма большого числа посетителей. Наряду с этим, говорят, что совмещение должности главы правительства отныне допускается только с государственным контролем, но не с другими министерствами.
13 марта в Народном доме Союза Русского Народа в Москве В.Г. Орлов прочитал доклад о задачах правых, с удовлетворением отметив присутствие во власти Горемыкина, Маклакова, Рухлова – стойких и любящих Россию министров.
Совещание Г. Думы 13 марта рассмотрело письменное извещение И.Л. Горемыкина о том что он не считает возможным давать разъяснения по думским запросам, т.е. согласно ст.33 учреждения Г. Думы она может отправлять запросы учреждениям, подведомственным надзору Сената, а Совет Министров не подлежит надзору Сената. Совещание Г. Думы приняло к сведению ответ Горемыкина.
В газете «День» появилась поддельная программа Горемыкина, которую он никакой иностранной прессе отнюдь не излагал.
И.Л. Горемыкин не жаловал представителей прессы и корреспонденту венгерской газеты сказал что не хочет тратить время на беседы. На вопрос, является ли его правительство временным и переходным Горемыкин ответил философски: «время покажет».
19 марта 1914 г. И.Л. Горемыкин написал морскому министру, что для правительственной экспедиции поиска пропавшего старшего лейтенанта Седова и его спутников не следует привлекать ледокол «Ермак» ввиду позиции С.И. Тимашева в министерстве торговли и промышленности. Экспедиция морского ведомства планировалась на июль. [«Красный Архив», 1938, Т.88, с.50].
И.Л. Горемыкин написал Л.А. Кассо 20 марта, что планируемое рассмотрение в Г. Думе проекта улучшения положения служащих в женских учебных заведениях противоречит согласию министерства Кассо принять на себя разработку этого дела, и потому, согласно ст.57 учреждения Г. Думы, ей не полагается им заниматься. Как и всегда, депутаты занимались самоуправством, не питая уважения к законам Империи.
По сообщению «Русских Ведомостей», печатавшиеся в левых газетах слухи об отставке Л.А. Кассо недостоверны, поскольку его поддерживает И.Л. Горемыкин, считая его крайне полезным энергичным министром. Благодаря Горемыкину положение Кассо настолько укрепилось, что впервые со времён И.Д. Делянова министр народного просвещения занял казённую квартиру в здании ведомства.
21 марта Горемыкин передал для сведения МИД записку о попытках Китая при участии Германии содействовать заключению монгольского займа и закрепиться в Монголии.
Революция, свергнувшая Империю Цин, привела к отделению Монголии от Китая, т.к. монголы признавали только династические права, а отнюдь не китайскую демократию и государственность. Историки отмечают личные заслуги Императора Николая II и его правительства в поддержке монгольского монархического принципа [С.Л. Кузьмин «Теократическая государственность и буддийская церковь Монголии в начале XX века» М.: КМК, 2016, с.434].
Аналогично будет с закономерными последствиями свержения Династии Романовых и отсутствием у демократий прав Императорской России.
Высочайший указ о перерыве занятий Г. Думы с 29 марта до 14 апреля Горемыкин скрепил 23 марта в Царском Селе, где в 18 часов говорил с Императором.
24 марта 1914 г. некоторые члены Г. Думы говорили, что И.Л. Горемыкин обещал не использовать 87 статью в пору своего нахождения во главе правительства.
На партийной конференции к.-д. В.Д. Набоков упомянул «уклончивость и сдержанность» Горемыкина, вернувшегося в Совет Министров. В целях декларирования своего мнимого превосходства к.-д. не признали за Горемыкиным политического содержания и обозвали шляпой, занимающей стул [«Съезды и конференции конституционно-демократической партии. 1908-1914» М.: РОССПЭН, 2000, Т.2, с.502, 588].
Национал-демократы ожидали от Горемыкина в марте 1914 г. отмены исключительных положений, в которых будто бы нет более необходимостей при их чуждости русским «историческим устоям» [А.А. Чемакин «Имперская народная партия» Дисс. к.и.н. СПб.: РГПУ, 2016, с.289]. Вместе со всеми левыми партиями они продвигали демократическую терминологию и соответствующий идеологический настрой в ущерб монархистам, проповедовали либерализм, нападали на дворянство, бюрократию, т.е. подыгрывали вредным настроениям, а вовсе не помогали националистам избавляться от ошибок консерватизма. Результатом их работы являлось только ослабление монархических сил, а не укрепление правой идеологии. Но никакой существенной роли эта новая партия играть не могла, поэтому депутату Г. Думы М. Караулову весной 1914 г. И.Л. Горемыкин справедливо отвечал: «теперь много партий, но будет ли их на одну больше или на одну меньше – это никакого значения не имеет» [А.А. Чемакин «Русские национал-демократы в эпоху потрясений: 1914 – начало 1920-х годов» СПб.: Владимир Даль, 2018, с.38].
Масон А.И. Коновалов из партии прогрессистов, в марте 1914 г., считая что «рано изменили фронт либералы в 1905 году», начал финансировать партию большевиков, планируя использовать её для борьбы с правительством И.Л. Горемыкина [В.И. Ленин «Полное собрание сочинений» М.: Политиздат, 1982, Т.48, с.276].
И.Л. Горемыкин и П.Л. Барк объявили депутатам от Дона о направлении прохождения запланированной железной дороги из Саратова на Мариуполь. При этом Горемыкин показал себя сторонников казённого строительства дорог, т.к. бюджетные займы более выгодные. Принцип частнособственной конкуренции в сфере однолинейных дорог не мог приносить пользы.
25 марта Горемыкин написал Сухомлинову, что законопроект об увеличении числа должностей в присутствиях по крестьянским делам Области Войска Донского был взят на рассмотрение Г. Думой вопреки ст.57 о её учреждении. Горемыкин призвал Сухомлинова, чтобы Военное министерство заявило Г. Думе о нарушении ею законного порядка работы и далее не принимало участия в заседаниях.
Совместно Горемыкин и Сухомлинов посещали оборонную комиссию думских депутатов.
Ещё Сазонов 25 марта написал Горемыкину, что вопрос о принятии населения Урянхайского края в русское подданство рассматривался Сухомлиновым, Маклаковым и заместителем Кривошеина Игнатьевым. Министры были согласны с принятием под покровительство, а П.Н. Игнатьев настаивал именно на подданстве.
Впервые 26 марта Горемыкин присутствовал на заседании Г. Совета в новом качестве и даже участвовал в голосованиях. В частности, он вместе с большинством Г. Совета отклонил думский законопроект о публикации отчётности торгово-промышленных, страховых и кредитных предприятий в «Московских Ведомостях» и «Санкт-Петербургских Ведомостях». Думские депутаты хотели устранить порядок публикации в этих газетах. Обсуждалось также исключительное право на изготовление и продажу спиртных напитков в Царстве Польском – нарушает ли отмена такого права принцип частной собственности, признаваемый важнейшей основой устроения Российской Империи.
В газетах за 27 марта отмечен обед у японского посла с участием И.Л. Горемыкина, проведённые в его честь. Были П.Н. Дурново, барон Розен, В.К. Саблер, Н.Н. Янушкевич.
Под председательством И.Л. Горемыкина 29 марта прошло особое совещание по финляндским делам. Был принят проект, обязывающий административные учреждения вести переписку на русском языке [«День», 1914, №87, с.5].
30 марта Барк писал Кривошеину о череде согласований должностей с И.Л. Горемыкиным. В частности, к кандидатуре С.Ю. Витте глава правительства отнёсся «очень сдержанно». Только 4 апреля Кривошеин вернулся к исполнению министерских обязанностей.
Относительно Тувы Император выразил согласие на покровительство, причём И.Л. Горемыкин 9 апреля 1914 г. написал иркутскому генерал-губернатору: «я приветствую принятую ныне меру, являющуюся дальнейшим шагом на пути, который, по моему глубокому убеждению, должен завершиться ничем иным, как полным и окончательным присоединением Урянхайского края к великой державной России».
14 апреля появились слухи о подготовке Советом Министров привлечения к ответственности за речи депутатов Г. Думы. Перепуганные болтуны заранее стали протестовать.
Согласно информационной записке от 17 апреля, М.В. Родзянко посетил И.Л. Горемыкина для переговоров. Относительно Чхеидзе глава правительства заявил, что невозможно далее терпеть выходки депутатов Г. Думы, каковые нужно устранить, не ущемляя свободы слова. Родзянко пожелал, чтобы Г. Дума сама выработала законопроект о неприкосновенности депутатов и Горемыкин был не против, если в нём будут прописаны наказания за эксцессы [Е.Д. Черменский «IV Государственная дума и свержение царизма в России» М.: Мысль, 1976, с.59].
На заседании Г. Думы 18 апреля И.Г. Щегловитов объяснил, что председатель Совета Министров, который замещает Государя Императора только когда сам Монарх не занимает это место, не может находиться под надзором Сената. Это обстоятельство прежде уже было отражено в юридических исследованиях. Также министр юстиции объяснил, что Г. Дума может осуществлять запросы только юридического характера, на предмет соответствия действия властей законодательству, но не имеет права поднимать вопросы политической целесообразности, что является прерогативой И.Л. Горемыкина, в силу полномочий, предоставленных Царём.
Граф Э.П. Беннигсен также объяснил своим коллегам по Г. Думе: «действующее законодательство построено так, что председатель Совета Министров ни коим образом не может быть признан подчинённым Сенату». По ст. 108 ОГЗ И.Л. Горемыкин имел полное право не выступать перед думскими депутатами.
Объяснения правомерности действий министерств давали представители соответственных ведомств, потому партийная демагогия о недопустимости неподотчётности И.Л. Горемыкина Г. Думе не имела никакого содержательного смысла кроме борьбы за не существующие парламентские полномочия. Недовольство Горемыкиным по этому расхождению в политических приоритетах выразила идейно замкнувшаяся на собственных интересах фракция В.В. Шульгина и её газетный орган.
Нелепость доводов А.И. Савенко дошла до предположений, что в будущем главой правительства может стать П.Н. Милюков и от него тоже надо будет требовать полной отчётности. Однако, когда в 1917 г. И.Л. Горемыкин будет арестован революционерами, а при помощи Шульгина Милюков станет министром, то Г. Дума моментально рассыпется и исчезнет. Борьба с к.-д. и ещё более опасными социалистическими партиями, как показал реальный опыт, могла вестись только методами Императора Николая II, а не по абсурдным советам единомышленников Шульгина, прокладывающих путь разрушительной революции себе же на погибель.
В 1917 г. февралист-предатель Шульгин, нападая на правых монархистов, будет хвалиться тем что сразу же «решительно и резко» осудил борьбу Н.А. Маклакова с Г. Думой [В.В. Шульгин «Белые мысли. Публицистика 1917-1920» М.: Кучково поле Музеон, 2020, с.578].
Известный киевский монархист В. Голубев в письме Г.Г. Замысловскому называл Савенко националистом в кавычках и бывшим к.-д. [РГИА Ф.857 Оп.1 Д.1409 4об.].
На 21 апреля было намечено заседание Особого совещания по делам Великого Княжества Финляндского под председательством И.Л. Горемыкина для обсуждения присоединения Выборгской губернии к С.-Петербургской, а также проекты подготовительной комиссии сенатора Н.Н. Корево и вопросы оплаты гербового сбора.
Князь М.М. Андроников 21 апреля прислал И.Л. Горемыкину первое своё письмо с запоздалым поздравлением к назначению председателем правительства. Князь пишет что имел честь состоять при МВД «и мне хорошо памятна Ваша плодотворная – и полезная деятельность». О себе уведомлял, что имеет «постоянно общение с многими бывшими и настоящими министрами», радуется новому посту И.Л. Горемыкина, «в особенности теперь, когда всякие случайные бездарности стремятся захватить в свои руки власть, не имея на то никаких данных». И в завершение просил о личной встрече, которая последует через 4 дня [РГИА Ф.1617 Оп.1 Д.65 Л.1-4].
На допросе ЧСК Горемыкин назвал Андроникова странным человеком, который «ко мне приставал», «всегда с букетом роз или с конфетами, которых я не ем».
В печати активно обсуждался ожидаемый конфликт Г. Думы с И.Л. Горемыкиным, который посмел ясно продемонстрировать, что он исполнитель политики Николая II, а не сборища депутатов. И. Колышко в навоображал, будто И.Л. Горемыкину нечем больше заняться, чем писать статьи для «Нового Времени» и оправдываться за своё поведение, что совершенно не в его стиле и характере.
22 апреля 1914 г. социал-демократы и трудовики объявили, что жить не могут без свободы слова, которой их лишают, и не могут не говорить о республиканском строе. Масон Чхеидзе был лишён слова и после провала попытки сорвать обсуждение бюджета часть депутатов-социалистов покинула зал заседания. Присутствовавший Горемыкин поднялся на трибуну, чтобы ответить на критику докладчика бюджетной комиссии Ржевского, недовольного отсутствием коренных преобразований финансовой политики. Ржевский предлагал давить народ прямыми подоходными и поземельными налогами, собрать с их помощью лишние 100 млн. руб. и недоумевал, как это Горемыкин не желает обирать народ.
Левое крыло Г. Думы устроило обструкцию И.Л. Горемыкину и не давало ему объясниться воплями и стуками. Он успел вымолвить «Господа, члены Государственной Думы» и сразу был прерван. Дурнейший советский фальсификатор употребил относительного этого случая фразу: «прошамкал Горемыкин» [Н.П. Ерошкин «Российское самодержавие» М.: РГГУ, 2006, с.392].
Чхеидзе, Чхенкели, Керенский, Суханов Вершинин, всего 21 депутат был исключён на 15 заседаний. 1 из 21 – Роман Малиновский, утверждавший: «с этими карами парламентскими средствами бороться нельзя». В этот же день Родзянко узнал от В.Ф. Джунковского, что Малиновский сотрудничает с Охранным отделением. 8 мая ему пришлось сложить полномочия депутата Г. Думы [«Дело провокатора Малиновского» М.: Республика, 1992, с.75].
Выдавая ценного агента, Джунковский, вероятно, исходил из чувства возмущения его поступком. Или же он так старался угодить Родзянке. Во всяком случае он делал это не из-за симпатий по адресу социалистов. Вопреки легенде о том, будто Джунковский в 1905 г. ходил под красным флагом, всё это время его активно поддерживали правомонархические газеты, меж тем как левая печать подвергала клевете. Вымыслу А.В. Герасимова о Джунковском способны поверить только самые некомпетентные компиляторы-графоманы вроде конспиролога-сталиниста А.И. Фурсова.
Маргарита Сабашникова писала 4 марта 1906 г., что Владимир Джунковский активно борется с революционным движением, работая по 14 часов в сутки и высказывая удовлетворение от произведённых арестов. Его брат, Н.Ф. Джунковский, в те годы ухаживал за Сабашниковой, поэтому они пересекались. Позднее лживые легенды о Г.Е. Распутине сильно запутали и сбили с толку В.Ф. Джунковского.
Чхеидзе угрожал арест и суд, но Горемыкин не хотел его преследовать, по сведениям в ЦК партии к.-д. Милюков предлагал давить на правительство отказами в бюджетныъ асигнованиях, но не мог набрать голосов в свою пользу.
Барон Р.Р. Розен вспоминает, что неистовый шум леваков несколько минут перекрывал звон колокольчика Родзянко. Горемыкин спокойно сложил свои бумаги и спустился с трибуны. При второй попытке Горемыкин произнёс несколько слов и депутаты завыли с удвоенной силой. При их выдворении И.Л. Горемыкин мирно поглаживал седые усы и выглядел необычайно кротко, когда социалисты кричали о его тирании. Это смотрелось, по впечатлению мемуариста, весьма забавно по нелепости.
Лишь с третьего захода И.Л. Горемыкину удалось произнести следующее: «Господа члены Государственной Думы. Я не знаю, дадут ли мне дальше говорить, кроме этого обращения к вам, но я должен сказать, что мы собрались здесь сегодня только для того, чтобы слушать дело о государственной росписи на текущий год. Сейчас перед вами выступит управляющий Министерством Финансов и скажет вам своё слово по этому делу. Я же позволю себе отвлечь ваше внимание от сегодняшних занятий на несколько коротких минут, потому что мне хотелось, чтобы моё первое появление среди вас прошло в совершенном с моей стороны молчании. Прежде всего я хочу, несмотря на происшедшие сегодня прискорбные события, прежде всего приветствовать Государственную Думу и прошу вас всех, господ её членов, принять это приветствие с тем же доброжелательным чувством, с которым я это делаю. Затем я должен вам заявить, что мои двери всегда открыты для каждого из вас без всяких исключений. Первый час, которым я могу располагать, будет посвящён этим нашим объяснениям. Говорю это потому, что я считаю, что наши прямые сношения и наши объяснения могут во многом содействовать тому, чтобы устранить всякие ненужные слухи, неосновательные разговоры, недоразумения и всякие излишние пересуды. Я своих мнений, господа, не считаю нужным, когда они сложатся по какому-нибудь предмету или делу, скрывать и не вижу никакой в этом надобности. Гласности я не боюсь. Затем, господа я желал бы только вам выразить ещё одно пожелание, но откровенно говорю вам, что я несколько стесняюсь тех выражений, в которые я его вылью. Пожелание моё самое простое – оно заключается в совместной и дружной с вами работе. Но я опасаюсь, что, несмотря на всю искренность моего пожелания, моим словам можно предать такое толкование, которое совершенно не соответствует мои намерениям. Я просто скажу так: я желал бы, господа, чтобы мы поскорее пришли к тому, чтобы хорошенько понимать друг друга для того, чтобы каждый из нас мог в пределах начертанных ему законами обязанностей совершенно спокойно посвятить все свои силы работе на пользу нашей великой родине» (в газетных отчётах отмечены аплодисменты справа и в центре).
Поскольку учреждение Г. Думы Императором Николаем II в 1906 г. подразумевалось как приём одоления революционной смуты, то и в 1914 г. И.Л. Горемыкин напоминал о той же её функции отхода от насильственных и лживых нападок на монархический принцип и положительную работу учреждений Империи. Необходимость сменить революционный натиск хоть на какие-то полезные действия всячески Горемыкиным подчёркивалась и поддерживалась, во имя устранения опасности разжигания гражданской войны во имя социалистических утопий.
П.Л. Барк затем отвечал, что бюджет следует пополнять не левацкими повышениями налогов, а при уже существующих, шире применять труд и капитал в освоении богатств России. Именно это приводит к повышению общего благосостояния, а не налоговое замедление экономического роста.
«Московские Ведомости» писали, что И.Л. Горемыкин, действуя в русском духе, дал назидательный урок наглой и грубой дикости депутатов Г. Думы. Горемыкин показал пример полного самообладания, джентльменской выдержки, «высшей культурности», пренебрегающей уколами личному самолюбию. Социалисты продемонстрировали умственное и нравственное убожество либерального типа.
Ровно того же пошиба сидят чекистские марионетки в Г. Думе РФ. Или в конгрессе США. Превосходно написал о них американский министр обороны: «бесчеловечные, некомпетентные микроменеджеры, пренебрегающие исполнением своих основных конституционных обязанностей (например, своевременного распределения ассигнований), увлечённые лоббированием лицемеры, эгоисты, нередко ставящие свои интересы выше интересов страны, — таково моё мнение о большинстве конгрессменов США» [Р. Гейтс «Долг. Мемуары министра войны» М.: АСТ, 2014, с.778]. Мнение справедливое и далеко не единичное, т.к. демократическая система всегда порождает такой конфликт: «Было ясно, что они думали об очередном двухлетнем сроке пребывания на Кэпитол Хилл. Я же думал об обязанности президента решать долгосрочные проблемы в интересах страны» [Джордж Буш «Ключевые решения» М.: Олма Медиа Групп, 2011, с.344].
Выступление Ивана Горемыкина, при полном его осознании сущности Г. Думы, имело целью понизить нежелательный размер вреда, наносимого России партийным учреждением. Горемыкин хотел направить внимание депутатов в сторону от деструктивной борьбы с Императорским правительством.
Газета Шульгина не поняла поступка И.Л. Горемыкина и сочла его доброту неуместной. «Добрый, ласковый старик обратился к встревоженным, изнервничавшимся депутатам и приласкал их. Место этому было в Екатерининской зале, в кулуарах, во время частного собеседования, а не на трибуне. На трибуну должен был взойти председатель совета министров и обратиться он должен был не к “депутатам без различия партий”, а к “Государственной Думе”, которую, как хотите, но никак не представишь себе “ласкаемой” или “неласкаемой”!» [«Киевлянин», 1914, 26 апреля, с.2].
Обращение к отсутствующему в реальности юридическому лицу Г. Думы являлось бы такой же бесполезной нелепостью, как зачитывание речи ко всему человечеству. Обращение к отдельным лицам было воззванием Горемыкина к нравственности, всегда индивидуальной, к рассудку, везде субъективному. Пример доброжелательности Горемыкина взывал к ответному логическому соответствию их поступков. Однако агитационный орган фракции Шульгина не желал думать в данном направлении. И.Л. Горемыкин говорил на непонятном для них политическом языке. Зато новое направление «Киевлянина» угодило Милюкову и газете «Речь», которые начали активно на него ссылаться. Выбрав сторону Г. Думы, а не Императорского правительства, Шульгин оказался союзником к.-д, что явилось вредным помрачением среди националистов. Это стало следующим шагом после систематического распространения «Киевлянином» всевозможной лжи о деле Бейлиса, вплоть до повторений лжесвидетельств от В.Л. Бурцева и его единомышленников.
Газеты сообщали, что Родзянко извинился перед Горемыкиным за поведение депутатов. При общении в полуциркульном зале Таврического дворца Горемыкин сказал думцам: «выдержанное и корректное отношение к правительству думского большинства есть залог серьёзной законодательной работы».
Появлялись слухи, будто Горемыкин отправится в Ливадию к Государю то 15 апреля, то в конце месяца. 25 апреля Кривошеин отъехал в Крым, но не в компании Горемыкина, оставшегося при исполнении. 29 апреля Сухомлинов отбыл в командировку на Дальний Восток. Ложные слухи о замене Горемыкина Кривошеиным перестали распространять, т.к. они потеряли всякое правдоподобие, но взамен утверждали, что он претендует на МВД.
После встречи с И.Л. Горемыкиным информатор многих министров князь М.М. Андроников 28 апреля прислал ему свои рассуждения об опасении возможной выдачи П.Л. Барком концессии Н.Ф. Бурдукову «в благодарность за проведение его на Министерский пост». Андроников при этом ссылался на мнение И.Л. Горемыкина об отсутствии необходимости учреждения ипотечных земельных банков в Царстве Польском. Андроников, чьей информацией многие историки неосторожно пользуются, не доказав её достоверность, настраивал И.Л. Горемыкина против П.Л. Барка, «друга и приживальщика» В.П. Мещерского – шталмейстера Бурдукова, и финансиста Мануса. На вопрос ЧСК Горемыкин отвечал что не помнит, рассматривался ли вопрос об ипотечных банках в правительстве.
И.Л. Горемыкин был неисправим и неумолимо следовал своим принципам борьбы с растратой казённых средств на поддержание популярности правительства. Если в 1906 г. он закрыл официальную газету С.Ю. Витте, то с 1 мая 1914 г. та же участь постигла газету «Россия» П.А. Столыпина, на которую уходило 150 тыс. руб. Если либералы и большевики уверены, что в демократическом строе без пропаганды никуда, то монархисты предлагают наиболее привлекательный вариант отказа от государственной агитации, недостойной для настоящих политиков.
По сведениям историка Ф.А. Гайды, закрытия газеты добился у Императора Николая II лично Н.А. Маклаков, а И.Л. Горемыкин выражал опасение, что придётся создать новую газету и Маклакова не поддерживал. В любом случае это принципиальное решение лучшим образом демонстрирует достоинство Царской России. Даже если в этом заслуга Николая II без содействия Горемыкина.
В мае 1914 г. С.Ю. Витте обратился сначала с телеграммой И.Л. Горемыкину, а потом и с письмом Императору, насчёт того, что не давал интервью, которое ему приписывают [«Дневники и документы из личного архива Николая II» Минск: Харвест, 2003, с.194].
В прессе сообщалось, что для И.Л. Горемыкина рассматривалось приобретение особняка герцогини Сассаруффе на Моховой, но цена оказалась слишком высокой. В связи с этим Горемыкин решил перебраться в Елагинский дворец.
К.Н. Пасхалов в «Московских Ведомостях» за 1 мая назвал «Союз 17 октября» умеренно-революционной организацией и указал, что закон требует от Г. Думы рассмотреть бюджет к декабрю, тем не менее депутаты только начинают его обсуждать, что приводит к многомиллионным убыткам. Таким образом, каждый из депутатов являлся государственным преступником. Правый публицист хвалил Горемыкина за отказ читать декларации и подражать условностям, принятым при демократических парламентах, чем грешил Столыпин.
Анонимный правый публицист, по-видимому, М.Д. Нечволодов, потом вспоминал: «с величайшим стыдом приходится это писать, — в 4-ой государственной думе накопилось 3000 нерассмотренных деловых законопроектов» [Ювенал «Отцы и дети большевизма» Константинополь, 1919, с.26].
2 мая И.Л. Горемыкин отбыл в Ливадию к Царской Семье. В тот же день М.М. Андроников присылал ему образ Спасителя, освящённый митрополитом Владимиром в присутствии В.К. Саблера. В письме Андроников ссылался на слухи об увольнении Н.А. Маклакова, рекомендуя на его место заместителя министра И.М. Золотарёва, «ближайшего сотрудника и ученика Ал. Ал. Макарова, несущего в течении полутора года всю тяжесть министерской работы» и завоевавшего симпатии М.Г. Акимова и др. чл. Г. Совета. При этом Андроников приписывал Н.А. Маклакову некое «разложение, которое так легкомысленно проводится» в МВД.
К этому Андроников 3 мая прибавил ещё одно письмо, на этот раз направленное против П.Л. Барка: «видел я как старался ухаживать за Вами вчера на вокзале Барк, не давая возможности никому приблизиться к Вам». Андроников просил И.Л. Горемыкина «в Ливадийской праздничной обстановке, нарушить благодушное настроение Монарха». Изображая из себя патриота и борца с коррупцией, Андроников прислал И.Л. Горемыкину записку с обвинениями министра финансов в присвоении Барком в должности директора Волжско-Камского банка около 1200 невостребованных акций по 800 руб., из которых 60 акций дал А.В. Кривошеину. Но потом, будучи министром торговли и промышленности, Барк вернул все эти акции банку, по версии самого же Андроникова. Из других обвинений, он приписывал Барку получение акций общества «Нобель и Лесснер» за утверждение их устава. Уже в качестве управляющего министерством финансов, П.Л. Барк, по сведениям Андроникова, выдал Бурдукову разные ссуды на 130 тыс. руб.
Клавдий Пасхалов, неосторожно повторяя ту же клевету, в письме Н.А. Маклакову назовёт Барка проворовавшимся в Камском банке [РГИА Ф.1282 Оп.2 Д.1983 Л.67].
Как выяснилось на примере процесса В.А. Сухомлинова, в основу которого которого были положены доносы Андроникова, опираться на его компромат нет никакой возможности. Решительно все обвинения оказывались необоснованной клеветой. Весьма интересно отметить, что дело Сухомлинова выявило и беспочвенность коррупционных подозрений по адресу представителя «Виккерс» инженера П.И. Балинского, ранее сотрудничавшего с И.Л. Горемыкиным [Ф.А. Селезнёв, А.В. Евдокимов «Роковая женщина военного министра: генерал Сухомлинов и Екатерина Бутович» СПб.: Алетейя, 2020, с.109-115, 179].
3 мая в 8 ч. 40 м. утра на курьерском поезде И.Л. Горемыкин проехал через Москву. В те же часы Сазонов, напротив, подъезжал в обратном направлении в Петербург из того же Крыма. Кассо тогда осматривал учебные заведения на Урале. Маклаков, Щегловитов и Кривошеин оставались при Государе. 4 мая к ним поехал из Петербурга Барк. 5 мая Горемыкин прибыл в Ялту и теперь успевал поздравить Императора с днём рождения, они увиделись в 18 часов. 6 мая Горемыкин присутствовал при воинском параде в Ливадии в честь Государя. Черноморская эскадра произвела салют. Последовал завтрак во дворце. 7 мая Государь снова принимал Горемыкина и после него Барка. Когда отгремело торжество, Горемыкин, Маклаков, Барк и Кривошеин отбыли из Крыма, 8 мая они уже выехали и в ночь на 10 мая проезжали Москву.
Горемыкин присылал приветствие съезду промышленников. Благодаря за добрые пожелания, ответ съезда указывал на конкуренцию казённой промышленности с частной и выражал опасения насчёт ослабления притока капитала в промышленность из-за новых ограничений деятельности акционерных компаний, касавшихся евреев и вызвавших биржевую панику. Н.Е. Марков в ответ на это призывал не поддаваться давлению и не опасаться спекулятивного занижения стоимости ценных бумаг.
12 мая Горемыкин наличествовал в ложе министров Г. Совета. И выступил со словом: «По воле Государя Императора, являюсь здесь впервые в качестве председателя Совета Министров. Не думал, сидя между вами, что эта честь и бремя падут на мои уже слабеющие плечи. В мои годы убеждений уже не меняют, но мнение своё я далеко не считаю безошибочным и всегда готов уступить людям, лучше и ближе меня знакомым с известным делом или вопросом. Обращаясь к предмету сегодняшнего обсуждения, я должен заявит Совету, что правительство считает себя обязанным твёрдо стоять на первоначально заявленном им по настоящему делу мнении, так как с тех пор не случилось ничего такого, что могло бы это мнение изменить. Не стану утруждать внимание Совета различными доводами по существу дела, ибо всё это Совету отлично известно и всех тех речей, которые были произнесены здесь по этому предмету. Я только позволю себе указать на то затруднение сводится к простой вещи. Ежели Совет и Дума будут настаивать на своих мнениях, то дело введения городового положения в Привислинских губерниях придёт в весьма тяжёлое и даже безвыходное положение. Я позволяю себе думать, что Совет сделал своё дело, указав на те сомнения, которые вызывались в нём пунктом четвёртым статьи 31 этого проекта. Дума уступила Совета во всём. Она согласилась с его мнением за исключением этого пункта. Правительство, по зрелом обсуждении настоящего дела, пришло к заключению, что ему нужно встать на сторону Думы. При этих условиях я не вижу обстоятельств, которые давали бы Совету достаточный повод, чтобы настаивать на своём мнении, входить в пререкания с Думой и правительством и ставить тяжёлые препятствия к тому, чтобы было введено городовое положение и в этой части обширной и нераздельной России».
Горемыкин сформулировал суть превосходства монархического профессионализма над демократическим культом некомпетентности, который не пытаются скрывать либеральные идеологи, говоря, что демократия обеспечивает только представительство и процедуры голосования, а не их качество.
Действуя исключительно во вред правительству и всему народу, думские депутаты старались отклонять какие угодно бюджетные ассигнования. Депутаты подрывали развитие школьного дела, отказывая в финансировании церковно-приходских школ. А такие радетели земства как так называемые земцы-октябристы умудрились голосовать даже против 269 тыс. руб. кредитов на нужды русских земств, которыми Императорское правительство возмещало натуральный налог в виде помещений для уездных съездов.
Противников Горемыкина в нижней палате заботило не экономическое развитие России, а совсем другие химерические маниакальные темы. Дочь правого депутата Г. Думы вспоминала: «как-то в начале 1914-го года у нас был приём членов Думы, во главе с председателем Родзянко, Хвостовым, явно покровительствующим моему отцу (Хвостов был выбран от Нижегородской губернии), и многих других, имён которых я не знала. Из очень крупных разговоров в кабинете отца, за ликёрами, после ужина, я подслушала, что стране грозит большая опасность и эта опасность идёт, главным образом, от сибирского мужика, Распутина» [Е.А. Скрябина «Это было в России» Лос-Анжелес, 1980, с.31].
Князь Императорской крови Олег Константинович в предвоенные месяцы выражал в дневнике озабоченность и настроем многих Великих Князей против Николая II: «где сильная, крепкая династия? Её нет».
М.М. Андроников 13 мая приветствовал возвращение И.Л. Горемыкина из Ливадии, просил принять его и переслал выходивший во время отсутствия Ивана Логгиновича номер газеты «С.-Петербургский Курьер» со статьями, которые «нашли, к сожалению отголоски во многих изданиях».
29 мая И.Г. Щегловитов обратился к И.Л. Горемыкину «с просьбой о рассмотрении в заседании правительства законопроекта «Об ограничении прав иностранцев по ведению судебных дел и об изменении некоторых правил о порядке производства дел о государственной измене путем шпионства»» [В.О. Зверев «Система мер противодействия угрозам военной безопасности Российской Империи (1904 – 1914 годы)» Дисс. д.и.н. Омск, 2017, с.292].
3 июня в Кишинёве была отличная погода, к празднеству столетия соединения России и Бессарабии после освобождения Александром I от турецкого ига там возвели великолепную арку в Романовском стиле. В Царском павильоне встречали Их Императорских Величеств. Горемыкина сопровождали на празднестве Маклаков, Сухомлинов и Кривошеин.
Ещё в марте 1914 г. И.Л. Горемыкин провёл переговоры с польским коло в Г. Думе, и депутаты согласились голосовать за городское самоуправление в Царстве Польском. 5 июня на имя Горемыкина вышел рескрипт Царя: «признавая необходимым внести вторично на законодательное рассмотрение проект реформы городского самоуправления в Привислинском крае, поручаю вам внести оный в Думу немедленно до окончания текущей сессии». 9 июня Н.А. Маклаков внёс его в Г. Думу, но война помешала утверждению [А.Б. Миндлин «Государственная дума Российской империи и еврейский вопрос» СПб.: Алетейя, 2014, с.263].
9 июня Горемыкин присутствовал в Г. Совете на первом обсуждении бюджетной росписи. Отмечалось, что возрастание таможенных сборов позволяет компенсировать питейные доходы.
В присутствии Горемыкина Г. Совет 11 июня продолжил рассмотрение бюджета. Горемыкин откомментировал пятый отдел думского проекта, представляющий мнение члена бюджетной комиссии Годнева. «Государственная роспись доходов и расходов всегда понималась как совокупность числовых данных доходов и расходов росписи на определённый сметный период. Между тем отдел пятый связан с проектом росписи на 1914 год чисто механически и не может быть рассматриваем иначе, как в изменении действующего сметного законодательства. Статья 10-я бюджетных правил 8 марта 1906 г. указывает, что возникающие в Государственном Совете или Думе при обсуждении проекта государственной росписи предположения об изменении действующих законов и положений, а также Высочайших заявлений, на основании которых внесены в роспись доходы и расходы, а также ассигнования средств на новые потребности получают дальнейшее движение лишь в законодательном порядке. Правительство, как бы оно ни толковало означенную статью, не считает себя в праве согласиться принять пятый отдел проекта Думы, ибо эти создаётся недопустимый прецедент, ставящий важнейший акт совместной работы законодательных учреждений и правительства – государственную роспись в зависимость от приемлемости или неприемлемости законодательного предположения, присоединённого Государственной Думой к проекту росписи. Обращаясь к сути предположения, заключающейся в отделе 5-м, правительство не может придавать особого значения изменению постановления Государственного Совета 14 марта 1868 г. Согласно этому закону, правительство получает право передвижения из параграфа в параграф лишь весьма небольших сумм. По последним подсчётам, эти суммы достигли едва 300-400 тыс. рублей. Поэтому, можно сказать, что невозможность переводить из параграфа сметы незначительные средства не могут считаться для правительства особенного чувствительными. Впрочем, в этом отношении правительство обратило внимание и по постановлению Совета Министров 24 апреля 1914 г. предоставлено ведомству испрашивать в установленном порядке средства на усиление кредитов, на выдачу наград и пособий, не дожидаясь утверждения новых штатов». Горемыкин, отвергая проект Г. Думы, выразил согласие на улучшение применения правил закона 1868 г. и на изменение самих правил, не в той форме как оно предложено теперь.
От 12 июня сохранилась небольшая записка М.М. Андроникова о намечаемых переменах в МВД, «о которых я имел честь докладывать Вам в субботу на прошлой неделе. Как мне передают, уход А.Д. Арбузова вероятно будет немного отложен в виду того что министр юстиции не соглашается взять его в Сенат».
14 июня В.М. Пуришкевич написал Горемыкину просьбу, пользуясь близостью к Государю, спасти русскую школу от революционного захвата, которому содействует Г. Дума. Обоснование проблемы им было приведено в вышедшей тогда книге «Перед грозой».
«Речь» сообщала: Кривошеин напрасно беспокоился, что когда правительство Горемыкина (на которого Кривошеин, следовательно, не в состоянии повлиять) проигнорирует бюджетные требования Г. Думы, это скажется на военных кредитах. Дума всё равно дала эти кредиты.
12 июня депутат Мусин-Пушкин говорил про это: «Дума в предвидение возможности войны не жалеет ассигновывать громадные суммы на оборону» (надо отметить что в прошлые годы депутаты всячески вредили военному министерству).
На следующий день после наступления перерыва в работе Г. Думы состоялся теракт в Сараево. Горемыкин послал австрийскому министру-президенту соболезнования от имени Русского правительства относительно гибели эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги. Сазонов выразил то же сочувствие Берхтольду в МИД. Сухомлинов с теми же целями посетил австрийское посольство. Г. Совет выразил вставанием глубокую скорбь о постигшем несчастии.
Непосредственно перед войной Сазонов передал И.Л. Горемыкину проект открытия в Турции нескольких консульств и вице-консульств, согласно желанию министерства торговли и промышленности [М.С. Лазарев «Курдистан и курдская проблема (90-е годы XIX века – 1917 г.)» М.: Наука, 1964, с.226].
17 июня Совет Министров одобрил ходатайство жителей Чикмента о его переименовании в город Черняев в честь прославленного генерала, завоевателя Туркестана, к наступающему осенью 50-летию. Правительство также выделило из железнодорожных сумм 1,6 млн. руб. на строительство элеватора в Либаве.
Николай II в Петергофе 18 июня поставил вопрос о лишении Г. Думы законодательных прав. Его поддержал Н.А. Маклаков, но «даже» не И.Л. Горемыкин [«Исторические записки», 2014, Вып.15 (133), с.206].
По дневнику, 18 июня Николай II отдельно принимал Горемыкина с 11 до 13 часов, а общее заседание Совета Министров проходило 19 июня.
Император 18 июня утвердил решение правительства об отпуске монгольским властям 3 млн. руб. на организацию, при содействии русских инструкторов, монгольской бригады, на приобретение для неё оружия. В 1913 г. было выделено 2 млн. Новая ссуда была рассчитана исключительно на «производительные нужды» Урги, и русский советник в Монголии должен был следить за правильностью расходования [РГИА Ф.1276 Оп.10 Д.875 Л.2-3].
20 июня Горемыкин дважды выступал в Г. Совете. Сначала он повторил позицию правительства, не намеренного пересматривать в предложенном порядке сметные правила. «К этому я могу ещё присоединить в настоящее время другое заявление, именно, что правительство идёт ещё далее навстречу постановлению Думы и решило представить на рассмотрение законодательных учреждений проект закона в том смысле, в каком он предположен в обсуждаемом отделе пятом. Это будет приведено в исполнение правительством ещё до наступления будущей сессии Совета. Следовательно, по существу обсуждаемого предположения никакого разногласия между правительством и Думою не существует».
А.С. Стишинский выразил полную поддержку Горемыкину, указав, что он «совершенно верно» указывает на нарушение закона думским проектом. М.М. Ковалевский пытался связать пятый отдел с принятием всей росписи или полным отказом от неё, что и вызвало повторное разъяснение Горемыкина относительно приведённых примеров: закон о росписи ограничен сроком его действия, за которым принимается следующий закон. Иначе действует остальное законодательство, не теряющее силу до его отмены. Другой пример Ковалевского по бюджету 1912 г. включал положение, изменяющее цифры росписи, а не закон как таковой независимо от числовых данных. В результате Г. Совет принял сторону И.Л. Горемыкина, а не его оппонента, и очередная попытка узурпации власти провалилась. Речи Горемыкина описывались как сильные и полные достоинства.
Также, 20 июня И.Л. Горемыкин ездил в костел Св. Екатерины на заупокойную мессу в день отпевания и погребения эрцгерцога Франца-Фердинанда.
Революционеры, совершившие его убийство, устранили того, кто более 10 лет стремился достичь дружбы с Императором Николаем II. Одному из помощников Франц-Фердинанд писал: «даже если мы победим Россию, что, на мой взгляд, совершенно исключено, такая победа всё равно станет величайшей трагедией для Австрийской монархии» [James Longo «Hitler and the Habsburgs. The Führer’s Vendetta Against the Austrian Royals» New York: Diversion Books, 2018].
Помимо борьбы с депутатскими претензиями на власть, Императорское правительство вело важную борьбу с олигархическими претензиями капиталистов. Министры С.В. Рухлов и И.Г. Щегловитов были решительными противниками монополий. Министр торговли и промышленности С.И. Тимашев, что государство, будучи крупнейшим заказчиком, само должно бороться с монополистическими союзами путём равномерного распределения казённых заказов. Подготовка Императорским правительством дополнительных мер против синдикатов заставила Совет съездов отправить депутацию к И.Л. Горемыкину.
21 июня 1914 г. глава правительства сказал Н.А. Авдакову, В.В. Жуковскому, Ф.А. Нововейскому и Г.Х. Майделю: «он вполне понимает закономерность этого экономического явления, и правительство озабочено в настоящее время скорейшим законодательным урегулированием синдикатских соглашений», «возбуждённому же уголовному преследованию против отдельных соглашений не следует придавать преувеличенного значения».
Депутация протестовала против запрещения беспрепятственного приобретения земельных владений и против допуска евреев в правление горных и иных предприятий и против распространения нововведений на уже существующие акционерные общества. Хотя Горемыкин уверял, что можно действовать и в рамках нового закона, он всё-таки был отменён и за несколько дней до 19 июля правительство вернулось к прежнему закону об акционерном учредительстве [В.Я. Лаверычев «Государство и монополии в дореволюционной России» М.: Мысль, 1982, с.72-73, 86, 90].
Либеральные газеты осудили депутацию торгово-промышленного съезда, которая обратилась напрямую к Горемыкину и нашла с его стороны заинтересованность в устранении любых помех экономического развития.
М.М. Андроников 26 июня написал И.Л. Горемыкину, что на днях разговаривал в Варщаве с генерал-губернатором о положении мариавитов, отпавших от католичества. Их церковные приходы оказались обременены долгами. Андроников предлагал их поддержать, «если, конечно, щедроты г. Барка не успели довести до минимума этот фонд» (10 млн.-й).
Черносотенные издания выражали поддержку мариавитам, Св. Синод через епархиальных архиереев собирал сведения о них и тоже получал выводы о их пользе православию [«Земщина», 1909, 21 июня, с.1].
В ЧСК И.Л. Горемыкина спрашивали, рассматривались ли мариавиты в Совете Министров. Ответ: «Не было разговоров».
30 июня в 18 ч. Горемыкин посещал Государя.
На обеде в честь Пуанкаре 7 июля в Петергофе была замечена супруга Горемыкина Она сидела с В.Н. Коковцовым и женой В.А. Сухомлинова. 8 июля Горемыкин был на обеде во французском посольстве. Затем 9 июля Горемыкин был на царском объезде лагерного сбора в Царском Себе и на рауте в честь коронации персидского шаха. Раут состоялся в посольстве, играл румынский концерт.
10 июля Горемыкин присутствовал на Высочайшем смотре войскам Красносельского лагерного сбора, проведённом при французском президенте Пуанкаре. Красное Село было украшено флагами, цветами и зелёными арками. Во время завтрака Горемыкин и французский премьер-министр сидели напротив Государя. Вечером парадный обед с участием Пуанкаре был проведён в Кронштадте. В 20 ч. вечера в Царском Селе скончался В.П. Мещерский.
В научно-популярной работе немецкого историка Рейнерса, вышедшей в Мюнхене в 1955 г. высказывалось мнение, будто при сохранении во главе русского правительства Коковцова, а также во Франции Кайо и Морли, можно было бы продлить мир на десятилетия и добиться мира Германии с Россией. Много подобного бреда опровергается тем, как именно Германия добивалась войны [К.Б. Виноградов «Буржуазная историография первой мировой войны» М.: Соцэкгиз, 1962, с.355]. Ходили вздорные слухи об увольнении Коковцова, будто бы обусловленном его репутацией германофила и желанием Сазонова устранить влияние Коковцова на МИД. Сомнительнейший мемуарист Г.О. Раух уверял, что отныне править стала «военная» партия [«Россия в годы Первой мировой войны» М.: РОССПЭН, 2014, с.58].
Переписка Коковцова с Извольским показывает, что для таких суждений нет никаких оснований [Friedrich Stieve «Isvolsky and the World War. Based on the documents recently published by the German Foreign Office» New York, 1926].
Белградские газеты приветствовали назначение И.Л. Горемыкина в начале 1914 г., надеясь что он продолжит просербскую политику Коковцова, нисколько не германофильскую.
Р. Пуанкаре в предисловии к французской книге В.Н. Коковцова «Большевизм за работой» крайне негативно отзывается о назначении в 1914 г. И.Л. Горемыкина и его зауженно крайне правых взглядах [«Возрождение» (Париж), 1931, 28 марта, с.4].
Потому необоснованы утверждения советских фальсификаторов, будто «И.Л. Горемыкин был в лагере антантофилов. Эта группировка во главе с великим князем Николаем Николаевичем набирала силу» [А.С. Аветян «Русско-германские дипломатические отношения накануне первой мировой войны 1910-1914» М.: Наука, 1985, с.243-244].
Не существует ни одного надёжного источника, согласно которому можно говорить о враждебных намерениях или хотя бы настроениях Горемыкина относительно Германии и Австро-Венгрии. Столь же трудно представить сотрудничество И.Л. Горемыкин и Великого Князя Николая Николаевича, между собой нисколько не сходных. Никакие предварительные контакты между ними не выявлены.
Воспоминания Шелькинга о том, как Горемыкин был против русского вмешательства в Балканскую войну 1913 г., позволяют уточнить, на что намекал в дни возвращения Горемыкина на политический олимп Ксюнин в «Вечернем Времени», со слов лиц, не прерывавших связи с Горемыкиным и знающих, что он неодобрительно относился к дипломатии Сазонова и порицал его, держась в стороне от влияния на неё в недавнее время. Никакой военной партии во главе с Горемыкиным упорно не вырисовывается.
Сравнивая как Германия и Россия готовились к вероятному будущему столкновению, английский историк пишет, что Горемыкин и Жилинский не оказались предусмотрительнее чем Бетман-Гольвег и Мольтке. Обе стороны одинаково заботились о численных показателях и оснащённости армий, но не ценой подчинения всей экономики будущим военным нуждам [Peter Gatrell «Government, Industry and Rearmament in Russia. 1900-1914» Cambridge University Press, 1994].
Ложные суждения восходят к поспешной реакции М. Палеолога, который 31 января 1914 г. написал французскому министру иностранных дел, что Сазонов сожалеет об уходе Коковцова, но Горемыкин «является одним из наиболее верных сторонников союза с Францией» и «он, вероятно, пожелает заняться иностранными делами; жалеть об этом вам не придётся. В вопросах внутренней политики он является сторонником порядка и умеренности». 1 февраля Палеолог написал, что Горемыкин разделяет взгляды В.К. Николая Николаевича и Гартвига, причём Горемыкин «жестоко упрекал» Сазонова за уступки чьим-то советам, положение Сазонова якобы стало ненадёжным [«Международные отношения в эпоху империализма» Серия III. 1914-1917. М.-Л.: Соцэкгиз, 1931, Т.1, с.316, 327].
Большевики перерыли все архивы МИД, но не нашли решительно ничего в чём смогли бы обвинить Императора Николая II или И.Л. Горемыкина. Историки, не сумевшие и не старавшиеся выяснить взгляды Горемыкина и степень его влияния, до последних лет ошибаются, повторяя глупости о том, будто Коковцов был единственным пацифистом.
Помимо негативных советских традиций есть и дурные либеральные. Милюков объяснял, что политический смысл прихода Горемыкина в «победе национализма» над неопределённым либерализмом Столыпина. Это можно считать точным при правильном понимании русского национализма, но Милюков вкладывал в национализм агрессивные внешнеполитические планы, а внутри страны – превращение палат в законосовещательные, о чём ходили слухи. Отставку Коковцова Милюков объяснял также требованиями новой военной программы Сухомлинова, которую Коковцов не желал финансировать в полном объёме. Немецкая печать использовала эти слухи и заговорила о необходимости превентивной войны [«Великая война» М.: Книжный Клуб Книговек, 2015, Т.1, с.230-235].
Куда более актуальны исследования, обвиняющие европейскую прессу в разжигании войны между странами. Тут надо обратить внимание, что в России «к началу мировой войны 1914 г. оппозиционные и революционные издательства захватили в свои руки почти всё печатное дело» [А.М. Ренников «Минувшие дни» Нью-Йорк, 1954, с.216]. Как сообщал Г.Е. Распутин Анне Танеевой 13 июля, войны «левые хотят» [«Хроника великой дружбы» СПб.: Царское Дело, 2007, с.135].
Также, ещё осенью 1912 г. начальник германского Генштаба Мольтке писал Конраду: «необходимо найти предлог для войны, надо сманеврировать так, чтобы повод пришёл от славян». Кайзер «не раз говорил канцлеру» о готовности начать войну против России. Тогда Государь не пошёл на частичную мобилизацию, которую предлагал Сухомлинов [Ю.А. Писарев «Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны» М.: Наука, 1985, с.127].
В январе 1909 г. Мольтке называл таким предлогом вторжение Австрии в Сербию. В июле 1914 г. Германия вынуждала Австро-Венгрию немедленно объявить войну Сербии и начать боевые действия, понимая, к каким это приведёт последствиям [И.Т. Тышецкий «Происхождение Первой мировой войны» М.: Международные отношения, 2015, с.178, 216]. «Австрия бряцает оружием и готова кинуться на Россию», — утверждал русский военный писатель ещё до сентября 1913 г. [П.Н. Краснов «Фарфоровый кролик. Волшебная песня» Пг.: В. Березовский, 1915, с.271].
Немецкий посол, граф Фридрих Пурталес полагал что И.Л. Горемыкин политически представлял русский националистический лагерь [Ф. Пурталес «Между миром и войной» М.-Пг.: Госиздат, 1923, с.20].
Это полная правда, что не имеет никакого отношения к подготовке к войне, милитаризму и агрессии. Пурталес считал, что Сазонов стремился к миру, но не понятно, что за натиск славянофилов ему приходилсь сдерживать? Уж точно не Горемыкина, которого в другом месте Пурталес обвиняет, что Иван Логгинович не использовал своего влияния на Императора «с должной энергией», дабы сохранить мир. Кривошеин никакой роли не играл.
Характерно, с какой неприязнью, не отличающиеся от либеральных университетских историков фанатичные поклонники Адольфа Хитлера потом относились к Императору Николаю II, царскому правительству и лично к И.Л. Горемыкину. «Горемыкин, председатель совета министров, годился только на то, чтобы свернуться калачиком на диване с третьесортным романом и сигаретой, болтающейся между потрескавшимися губами» [Leon Degrelle «Hitler, Born at Versailles» Newport Beach: Institute for Historical Review, 1987].
Иван Горемыкин был полной противоположностью всех левых революционеров, включая Хитлера, по профессиональной компетенции, антивоенной сдержанности и умной немногословности.
Л.А. Кассо в эти дни уезжал на лечение в Германию и, по воспоминаниям А.Н. Яхонтова, его чуть не растерзала толпа немецких торговок. Помощник управляющего делами правительства, Яхонтов свидетельствует, что до 11 июля русские министры ни разу не обсуждали при нём возможность возникновения войны. Всё внимание сотрудники Горемыкина уделяли вопросам внутренней политики. В рамках борьбы с забастовочным движением состоялось «обнаружение среди рабочих одного из заводов немецких денег», но знание об иностранных источниках финансирования революционных партий и подрывных операций «не представлялось чем-то необычным в событиях последнего десятителетия». [Арк. Яхонтов «Первый год войны» // «Возрождение» (Париж), 1936, 28 мая, с.2].
11 июля в 15 ч. состоялось экстренное заседание Совета Министров под председательством Горемыкина, на его даче на Елагином острове, журнал утверждён 12 июля. Обсуждались вопросы внешней политики и выдвигались позиции, которые следует занимать России. Было решено ускорить назначение нового русского посланника в Сербии на место скончавшегося Н.Г. Гартвига. Яхонтов запомнил, как после 16 ч. Сухомлинов дал по телефону распоряжения своему министерству о приготовлениях на границе: «с Австрией горячо, очень горячо», — воскликнул министр.
11 (24) июля И.Л. Горемыкин подвёл итог совещания: «мы не хотим войны, но и не боимся её» (согласно П.Л. Барку) [О.Р. Айрапетов «Участие Российской империи в Первой мировой войне» М.: КДУ, 2014, Т.1, с.37].
Владимир Сухомлинов называет Горемыкина среди участников совещания в Красном Селе 12 (25) июля: он сел по правую руку Императора, Николай Николаевич – по левую. Были ещё Сазонов и Барк, без Григоровича, Сухомлинов прибыл один. Сазонов начал с обвинения насильственной политики Австро-Венгрии и предложил для её обуздания частичную мобилизацию. Она рассматривалась как мера предотвращения австрийских оккупаций, а не средство начала войны. Император поддержал мнение Сазонова, Горемыкин молчал, как и Николай Николаевич [В.А. Сухомлинов «Воспоминания» Минск: Харвест, 2005, с.287-288].
12 июля Горемыкин рассмотрел проект министра путей сообщения о создании на железных дорогах эксплуатационных бригад из запасных офицерских чинов, ратников ополчения и добровольцев. Горемыкин одобрил проект усиления охраны при условии, если будет одобрено финансирование [И.М. Пушкарёва «Железнодорожники России в буржуазно-демократических революциях» М.: Наука, 1975, с.294].
Как А.Н. Яхонтов далее припоминает, 12 июля «правительство продолжало верить, что война будет избегнута и что всё завершится благополучно. Такое настроение было особенно твёрдо у И.Л. Горемыкина». Когда Яхонтов спросил у Горемыкина, нужно ли вызвать родственников, отдыхающих на рижском взморье, «И.Л. Горемыкин спросил недовольным голосом: «Зачем это, – ведь там сейчас хорошо?»». На реплику Яхонтова об угрозе неприятельского флота Горемыкин «резко мне ответил»: «Откуда вы это взяли? Всё вздор. Если будет опасность, я вас предупрежу».
13 июля Михаил Горемыкин прислал Яхонтову телеграмму из швейцарского санатория с вопросом, нужно ли ему срочно ехать в Россию. На новый вопрос Яхонтова И.Л. Горемыкин «остался крайне недоволен и, проворчав – «что они там вообразили, ничего не будет», поручил мне ответить, чтобы Михаил Иванович сидел спокойно на месте и что его уведомят своевременно, если окажется нужным. К счастью, моя, составленная в таком смысле телеграмма, со ссылкою на “отеческие разъяснения”, не дошла до М.И. Горемыкина, и он решил всё-таки ехать домой. Он очутился в Берлине накануне объявления войны и едва оттуда вырвался, совершив затем тяжёлое путешествие через Данию и Швецию и попав в Петербург через Торнео».
Служащий ГУЗиЗ А.Н. Краснов, оказавшийся в начале войны в Париже, сумел вернуться в Батум через Марсель и Дарданеллы, ещё открытые. В Париже первые дни войны застали и С.С. Ольденбурга, готовящегося стать сотрудником министерства финансов.
13 июля Австро-Венгрия первой начала мобилизацию.
Яхонтов убеждён, что Горемыкин искренне стремился к предотвращению войны и считал, что усилия России смогут обеспечить мир в австро-сербском конфликте. «Он привык относиться ко мне с полным доверием и мне не раз приходилось исполнять его весьма секретные поручения. Неоднократно посвящая меня в доверительные вопросы и дела, он по опыту мог быть уверен в моём умении хранить молчание. Поэтому, давно зная И.Л. Горемыкина, как доброго и отзывчивого человека, не могу допустить и мысли о преднамеренной неискренности. Нет, он безусловно верил в мирный исход событий».
«И в ближайшие несколько дней, слушая мои доклады о повременной печати, о её повышенных настроениях, о славянских призывах, о противо-немецких выпадах и т.п., он не скрывал своего раздражения по поводу поднимаемого в газетах шума и находил его вредным для спокойного течения дипломатических переговоров и дела сохранения мира. В таком смысле он беседовал при мне по телефону с министром внутренних дел и указывал на необходимость дать воинствующим редакторам “успокоительных капель”» [«Возрождение», 1936, 1 июня, №4016].
15 июля, когда Австро-Венгрия начала военные действия против Сербии, поступило повеление мобилизовать четыре военных округа. «Речь» сообщала, что 15 июля на даче И.Л. Горемыкина прошло совещание министров.
16 июля Горемыкин был у Государя утром. Называя день необычайно беспокойным, Император Николай II отмечает, что из-за военной угрозы его весь день звали к телефону Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич.
17 июля на заседании Совета Министров в Мариинском дворце Сазонов сказал, что войны не удастся избежать, если частичная мобилизация не заставит Австро-Венгрию переменить свою политику. Характерно, что в этот же день правительство одобрило проект министерства народного просвещения о введении всеобщего обучения.
По версии белого генерала Дитерихса, 17 июля в 14 ч. И.Л. Горемыкин из Мариинского дворца по телефону доложил Государю мнение всего Совета Министров о необходимости объявления всеобщей мобилизации. Император согласился. Горемыкин: «прикажете прислать на подпись указ?». Николай II: «Указ я могу подписать завтра. Считайте что он есть и делайте все распоряжения» [М.К. Дитерихс «Убийство Царской Семьи» М.: Вече, 2008, с.391].
Барон Р.Р. Розен вспоминал рассказ своего друга 17 июля, что Горемыкин утром выехал в Петергоф, полный решимости настаивать на отказе от всеобщей мобилизации. В 15 ч. Горемыкин вернулся из Петергофа с уверенностью что добился своего. Версии Розена и Дитерихса полностью противоречат друг другу. Если услышанное Дитерихсом с чужих слов совершенно не подтверждается, то старания Горемыкина, описанные Розеном, предположительно могут быть отнесены к 16 июля. Тогда действительно состоялась поездка к Царю.
Но вопрос о мобилизации не мог быть отрицательно решён Горемыкиным, т.к. он был вызван войной, которую начала Австро-Венгрия в союзе с Германией. Распространённое заблуждение, будто объявление мобилизации было ошибкой, вызвано желанием переложить ответственность за начало войны на Николая II. При неотступном намерении противников вести войну против России и Франции, отказ от русской мобилизации никак не мог войну предотвратить. Аналогично было с началом Японской войны без такой мобилизации. Ни Сербия, ни Бельгия не начинали мобилизации, но в них тоже вторглись вражеские войска. Как и в случае с объявлением войны Франции.
Решение Императора Николая II о мобилизации определялось сведениями о сосредоточении австрийских войск в Галиции и начале военных приготовлений в Германии, отказом агрессоров от переговоров [N.N. Schebeko «Souvenirs: essai historique sur les origins de la guerre de 1914» Paris, 1936. P.263].
Хороший эмигрантский историк весьма обоснованно счёл неправдоподобной версию, будто И.Л. Горемыкин 16 июля мог задержать всеобщую мобилизацию [А. Тарсаидзе «Четыре мифа о Первой мировой» М.: Кучково поле, 2007, с.35]. Немецкие расследования показали что в Австро-Венгрии постановление о мобилизации принималось днём 17 июля, а в Германии вечером того же дня, независимо от мобилизации в России, а вовсе не вследствие её [«Последние Новости» (Париж), 1924, 30 июля, с.4].
Яхонтов вспоминает, что решение о мобилизации было принято помимо Совета Министров. 17 июля в зал правительства ворвался Н.Н. Янушкевич. И.Л. Горемыкин встретил его словами: «Генерал, здесь идёт заседание совета министров». Янушкевич подошёл к его столу и громко объявил: «Его Императорское Величество соизволил повелеть объявить общую мобилизацию».
Начался вихрь событий. Служебная переписка Горемыкина, отмечает Яхонтов, «разрасталась в невероятной прогрессии. Требовалось исключительное сосредоточение внимания, чтобы успевать со всем справляться без замедлений».
Однако же некомпетентные историки, не представляя о чём пишут, продолжают множить глупости про И.Л. Горемыкина, именуя его не только старым, но и «беспомощным», чей «прожектор» мог включаться «только на 5 минут» [Л.В. Ланник «Германская военная элита периода Великой войны и революции» Саратов, 2012, с.248].
Сухомлинов рассказывает, что 17 июля стоял за принятие Царём ВГК, а против него министры во главе с И.Л. Горемыкиным убеждали, что Государь нужен в столице. Горемыкин произнёс трогательную речь почти со слезами. Юрий Данилов подтверждает, что только Сухомлинов заявил о желании Армии видеть во главе Царя. «И.Л. Горемыкин, обычно не любивший выступать с противоречиями, своим старческим и дрожавшим от волнения голосом, умолял Государя отказаться от опасного шага» [«Возрождение», 1929, 12 января, с.2].
Другой непосредственный наблюдатель, морской министр утверждает, что все кроме И.Л. Горемыкина, а значит и В.А. Сухомлинов, отговаривали Его Величество брать командование на себя. Один Горемыкин «молчал» [И.К. Григорович «Воспоминания бывшего морского министра» М.: Кучково поле, 2005, с.92].
Однако по воспоминаниям Яхонтова, в Петергофе Фредерикс просил Горемыкина поддержать решение Николая II сразу принять ВГК, но Горемыкин «твёрдо заявил, что такой шаг не допустим». Император «вздрогнул и с резким неудовольствием произнёс: «Подумайте, Иван Логгинович, что Вы мне говорите»». Горемыкин пояснил: «в начале войны, пока не налажен весь аппарат обороны, когда возможны мелкие неудачи, разные беспорядки, пробелы в организации и т.д., русскому царю не следует связывать своё имя с подобными мелочами и принимать на себя непосредственную ответственность за них». Но в будущем, говорил Горемыкин, и в случае успеха, и при неудачах, место Царя будет во главе Армии. Горемыкина поддержали Сухомлинов, Григорович, Сазонов [«Проблемы социально-экономической и политической истории России» СПб.: Алетейя, 1999, с.475].
Эта обстановка передана Яхонтовым 18 июля по камер-фурьерским журналам. Взгляды Горемыкина указывают на отсутствие каких-либо легкомысленных опти
мистических ожиданий. Его взгляд на войну был трезвый, мрачный, и Горемыкин сдержал своё обещание обеспечить принятие Царём ВГК в будущем.
М.В. Родзянко приходил 17 июля к Горемыкину и получил объяснения насчёт невозможности уступок Германии и Австрии.
21 июля Горемыкин распорядился проводить заседания Совета Министров ежедневно ввиду исключительных обстоятельств военного времени. 22 июля после Горемыкина у Императора шли доклады Сухомлинова и Сазонова.
Н.В. Плеве писал 22 июля П.Ф. Булацелю: «Политические события чрезвычайной важности всколыхнули всю Россию и даже холодный Петербург неузнаваем: по улицам ходят патриотически настроенные людские живые волны, везде поют Боже Царя храни, кричат ура, качают военных и т.п. Дай Бог, чтобы такое настроение продолжалось и впредь. Только что узнал о приятном событии – Англия объявила войну Германии и происходит уже, будто бы, в Северном Море генеральный бой между флотами сих держав. Для нас участие Англии очень крупный козырь» [РГИА Ф.1621 Оп.1 Д.65 Л.3].
На имя Горемыкина 24 июля был дан секретный рескрипт, дававший полномочия разрешать дела, поступающие на усмотрение Императора, за исключением особых случаев и дел, по которым имеется разногласие министров. На допросе ЧСК в 1917 г. И.Л. Горемыкин объяснил, что он не добивался выхода рескрипта и никогда не появлялось нужды в его использовании.
Через неделю после начала войны, 26 июля 1914 г. И.Л. Горемыкин выступил в Г. Думе. Французский посол Морис Палеолог об этом дне пишет, нарочито преувеличивая нетвёрдость шагов престарелого министра и слабость голоса, которым тот якобы с трудом управлял, прерываясь, «как будто бы он умирал». Горемыкин не был великим оратором, но решительно ни один сколько-то объективный мемуарист, общавшийся с ним и слушающий его речи, не думает формулировать что-то настолько карикатурное. Художественные красоты Палеолога из его собрания сплетен в этом, как и во многих других установленных историками случаях, вымышлены или преувеличены.
Палеолог страдал манией величия французского расового превосходства. Преувеличивая дряхлость Горемыкина (1839 года рождения), он не учёл, к примеру, что один из самых выдающих британских премьер-министров Уильям Гладстон успешно исполнял свои обязанности и в 75 лет, и даже в 94 года – в конце XIX века.
В 1917 г., когда премьер-министром Франции вновь стал Жорж Клемансо, ему исполнилось уже 76 лет – это больше, чем насчитывалось у Ивана Горемыкина в 1914-м. Рональд Рейган и в 77 лет оставался президентом Соединённых Штатов, используя это как вечный повод для самоиронии. Сам по себе возраст не является ощутимой помехой, если не сопровождается значительными болезнями, которых у главы русского правительства в 1914 г. не наблюдалось. Особенно если сравнить с Леонидом Брежневым, которому в момент смерти в 1982 г. исполнились те же 75 лет, а явные признаки маразма проявились значительно раньше. Юрий Андропов и вовсе не дожил до 70 лет, он серьёзно болел на протяжении значительной части своей жизни.
Да и молодость не гарантирует здоровья. Убитый в 46 лет президент Кеннеди создавал ложный образ «сильного, здорового, энергичного человека; в действительности же он был так слаб, что часто по полдня проводил в постели», из-за болей в спине иногда мог передвигаться только на костылях [У. Таубман «Хрущёв» М.: Молодая гвардия, 2008, с.536].
А.В. Кривошеин в январе 1911 г. пережил «сердечный припадок» (о чёмМ.К. Морозова сообщала Е.Н. Трубецкому). Поскольку он дожил всего до 64 лет, есть основания считать состояние его здоровья хуже, чем у Горемыкина.
И хотя политические противники использовали возраст Горемыкина для дискредитации его способностей, как можно будет убедиться, он успешно справлялся со своими обязанностями по самым различным государственным делам, проявляя редкую проницательность и рассудительность, по сравнению со многими своими коллегами в правительственном кабинете, не говоря уж о представителях оппозиционных партий.
Государственной Думе И.Л. Горемыкин 26 июля изложил, что «Россия не хотела войны», Императорское правительство испробовало всё для сохранения мира, «цепляясь за малейшую надежду предотвратить потоки крови, которые грозили затопить Европу». «Если бы мы уступили, наше унижение не изменило бы хода событий» [М. Палеолог «Дневник посла» М.: Захаров, 2003, с.61]
Такое утверждение куда более справедливо, чем нередкие легкомысленные предположения, будто войны следовало избежать любой ценой, а главное – что её вообще можно было избежать, не объявляя мобилизации, т.е. оставив Россию беззащитной перед мобилизующимся противником, готовым к нападению.
И.Л. Горемыкин закончил речь словами: «В эту торжественную минуту я от имени правительства призываю вас всех, без различия партий и направлений, проникнуться заветами царского манифеста: да будут забыты внутренние распри, и сплотиться вместе с нами вокруг единого знамени, на котором начертаны величайшие для всех нас слова: «государь и Россия» (рукоплескания)» [А.Я. Аврех «Распад третьеиюньской системы» М.: Наука, 1985, с.11].
Декларируя свой политический символ веры, И.Л. Горемыкин хотел убедить Г. Думу, что только на монархической платформе возможно сохранить единство России, которая иначе расползётся в клочки самолюбивых народностей и раздерётся в схватке партийных программ с опасными конкурирующими демократическими проектами. Отсутствие иного объединяющего принципа, кроме монархического, вытекало из характера русской политической культуры, основывающейся на идеале Самодержавной власти.
Н. Маклаков после однодневной сессии 26 июля решил не созывать Думу до осени 1915 г. Делегация из Милюкова, Коновалова, Варун-Секрета, Хвостова и др. отправилась к Горемыкину просить сократить этот срок. Горемыкин не принял думскую делегацию, и она обратилась к Кривошеину. Было обещано созвать Думу до 1 февраля.
М. Казем-Бек, наблюдая за мобилизацией, отмечала какое положительное влияние оказало запрещение спиртного. 29 июля она добавляла к этому: «Чувствуется чья-то сильная рука. Это всех поражает. Мы так привыкли к безалаберности и слабости наших властей, что не можем прийти в себя от удивления. Никакой растерянности. Все делают своё дело. Распоряжения, очень строгие, отдаются спокойно и серьезно. Все мероприятия обдуманы и мудры. Я всех спрашиваю: кто этот великий человек, который сумел в важную минуту взять в руки власть? Говорят, будто бы Горемыкин. Если правда, дай Бог ему сил и здоровья!».
Совет Министров 30 июля решил начать заготовку хлеба для военных нужд непосредственно у производителей через широкое использование местных учреждений мелкого кредита [В.Я. Лаверычев «Военный государственно-монополистический капитализм в России» М.: Наука, 1988, с.55].
31 июля Горемыкин был принят Императором, как обычно, к 18 часам.
На заседании Совета Министров 1 августа 1914 г. А.В. Кривошеин предлагал извлекать максимум выгод из воззвания Великого Князя, а Маклаков и Щегловитов считали, что ничего хорошего оно дать не может. И.Л. Горемыкин расценивал воззвание как чистую пропаганду, не имеющую значения для правительства: «все области русские должны подлежать русскому управлению. Что же касается Царства Польского, то великий князь может говорить, что хочет» [А.Ю. Бахтурина «Окраины Российской Империи (1914-1917)» М.: РОССПЭН, 2004, с.32].
В итоге Горемыкин поручил председателю петербургского комитета по делам печати сделать редакторам газет заявление о недопустимости толковать воззвание как обещание восстановления автономии или независимого Королевства.
В связи с такими данными следует считать неверной запись Ю.Н. Данилова о том, будто охранитель «рутины и косности» И.Л. Горемыкин доходил до того, что предпочитал не давать автономии Польши, а вовсе отделить её от России, дабы не подавать примера автономии другим народам. Странно было бы видеть тут какую-то косность и совсем несуразно – не видеть более дурного примера в отделении. Условием автономии Горемыкин называл присоединение частей Польши, которыми владели Германия и Австро-Венгрия, в частности, Познани. На случай возможного отделения Польши Горемыкина интересовало закрепление за ней монархической формы правления. Ю.Н. Данилов пишет, что позиция Горемыкина мешала возникновению свободной всеславянской федерации. Естественно, что никакие свободные федерации в монархические проекты Горемыкина входить не могли.
10 августа 1914 г. Н.Н. Янушкевич просил у военного министра поддерживать ходатайство В.К. Николая Николаевича о продлении запрета водки.
17 августа Сазонов писал Горемыкину что пока нежелательно вызывать восстание среди армян, т.к. можно ещё рассчитывать на нейтралитет или союз с Турцией. В то время дипломаты рассчитывали на присоединение к России как Турции, так и Болгарии [МОЭИ, 1935, Т.6, Ч.1, С.184].
Бурцеву рассказывали, что после его ареста при возвращении в Россию И.Л. Горемыкин подавал доклад Царю, что следует амнистировать его после объявления приговора о высылке. «С этим, говорят, согласился было царь, и Горемыкин кому-то об этом успел сообщить». Но Н.А. Маклаков и И.Г. Щегловитов вмешались и добились ссылки [В. Гаврилов «Хотели как лучше… Наброски в помощь грядущему биографу В.Л. Бурцева» Иркутск, 2014, с.180]. Сам Бурцев вспоминал что Сазонов и Кривошеин стояли за его немедленное освобождение, но их мнение ни на что не влияло, Бурцева судили, его защитником стал Керенский [«Былое» (Париж), 1933, №1, с.32].
Ходатайство английского посла за Бурцева Император Николай II воспринял как непозволительное вмешательство в русские внутренние дела [Джордж Бьюкенен «Мемуары дипломата» М.: АСТ, 2001, с.168].
В.Н. Орлов из Ставки по этому поводу писал И.Л. Горемыкину о необходимости обезвредить всех революционеров, чем объяснялся отказ в помиловании Бурцева. Князь В.Н. Орлов весьма почтительно отзывался о И.Л. Горемыкине в переписке и был высокого мнения о его влиянии на Царя. Орлов пытался через Горемыкина добиться устранения Н.А. Маклакова, замены его Самариным.
После возвращения в Россию Вдовствующей Императрицы она жила в Елагинском дворце рядом с супругами Горемыкиными, и они ходили в одну церковь. Совместные посещения службы ею отмечены в дневнике по воскресеньям 17 августа, 31 августа, 14 сентября. 12 октября: «сегодня была на церковной службе. Там присутствовали также и Горемыкины – в последний раз. Они были невероятно трогательны и благодарили за всё». После этого 28 октября во вторник «меня также посетил Горемыкин для того, чтобы поблагодарить за мою телеграмму, отправленную к дню его рождения» [«Дневники Императрицы Марии Фёдоровны» М.: Вагриус, 2006, с.9, 54, 57, 60, 65, 68].
Сравнительно с другими министрами, И.Л. Горемыкин чаще других бывал в Ставке, что лучше всего свидетельствует и о его энергичной деятельности. По-своему это оценил мемуарист: «наблюдая Горемыкина во время мимолётных наездов в Ставку, я лично всегда выносил впечатление о нём как о человеке, переутомлённом жизнью и больше всего сосредоточенному на себе». На оценки Данилова сильно сказывается то, что Ставка имела затруднения в переговорах с ним «в силу его известной политической предвзятости» – т.е. строгой монархической принципиальности. Генерал отмечал и наличие взаимного недоверия, правда, уже обобщая фронт и тыл, – а Горемыкин представлял последний [Ю.Н. Данилов «Великий Князь Николай Николаевич» М.: Кучково поле, 2006, с.273, 278].
Генерал не задаётся вопросом, что же мешало Горемыкину следовать примеру других министров и избегать утомительных поездок. Не личные же дела решал он в Ставке.
С 23 июля в залах Зимнего дворца на 7-й запасной половине открылся склад Её Величества Александры Фёдоровны, куда поступают медикаменты, продукты, бельё. Вице-председательницей комитета по заведыванию складом стала княжна Е.Н. Оболенская. В комитет вошла супруга Ивана Логгиновича, графиня Н.Ф. Карлова, графиня Адлерберг, Е.К. Ордина, С.А. Романова. С 23 июля по 1 августа комитет получил пожертвований деньгами 310 962 руб. Фотография комитета с участием Александры Горемыкиной была опубликована в печати [«Огонёк», 1914, №34, с.6]. Имеются сведения, что 300 тыс. руб. на обустройство лазарета А.И. Горемыкиной пожертвовал Д.Л. Рубинштейн и «много узнавал от Горемыкина, куда, по его словам, часто ездил» [«Вечернее Время» (Рига), 1925, 6 августа, с.3].
Подобно всей Царской Семье, родные Ивана Горемыкина были люди, отдавшие себя служению России. «Дочь председателя совета министров И.Л. Горемыкина Александра Ивановна Охочинская сразу после объявления войны поступила на курсы сестёр милосердия и по окончании их отправилась на Западный фронт». Рядом с ней работали дочери и супруги генералов, баронессы, графини. Наиболее опытной была графиня Евгения Николаевна Игнатьева (более 20 лет стажа) – сестра министра народного просвещения [Ю.Е. Хечинов «Ангелы-хранители. Крутые дороги Александры Толстой» М.: РИА ДЮМ, 1996, с.113].
С августа 1914 г. Император учредил Верховный Совет по призрению жертв войны и их семейств. Фактическим председателем его, замещавшим Царицу Александру, стал сам глава правительства И.Л. Горемыкин, а вице-председателем дочь Царя Великая Княжна Ольга. Царица Александра часто принимала доклады Горемыкина по делам призрения. Воейков называет клеветой слухи, распространяемые в газетах, будто Горемыкин делал доклады по государственным делам Ей вместо Государя. «Пустяки… не стоит обращать внимания», сказал Горемыкин по этому поводу. Воейков с ним не соглашался, но слухов тогда было море и воевать с ними значило совсем забросить настоящие дела. Дворцовый комендант передаёт мнение И.Л. Горемыкина, считавшего левую агитацию вокруг Николая Николаевича летом 1915 г. средством дискредитации Императора. [В.Н. Воейков «С Царём и без Царя» М.: Терра, 1995, с.91, 111].
Императрица Мария Фёдоровна позднее не поддержит смену В.К. Николая Николаевича – назвав её в дневнике безумием она удостоверила потерю собственного политического чутья под влиянием легенд о том, что все решения принимаются через Распутина – в частности, в её глазах эту легенду поддерживал Павел Бенкендорф. В письмах за август 1914 г. В.А. Сухомлинов особенно вредным информатором Марии Фёдоровны называл лейб-медика Вельяминова, ретранслирующего идеи Гучкова. Этот Вельяминов написал довольно нелепые по содержанию мемуары про Александра III и Николая II.
Арестованный Симанович рассказывал, что право на жительство ему дал Горемыкин, с которым Распутин «был в хороших отношениях». Сына же он смог устроить в политехнический институт только через окружение вернувшегося в Россию Великого Князя Михаила Александровича [«Дело народа», 1917, №2, с.3].
Дочь Г. Распутина подтверждала в эмиграции, что «отец всегда отзывался» о И.Л. Горемыкине «с большой симпатией» [«Дорогой наш отец» М.: Форум, 2012, с.118].
В хорошие отношения есть основания верить. Но они обрастают посторонними фантазиями. И.Л. Горемыкин якобы проскальзывал к Распутину на Гороховую, 64, в вечерней мгле, – сочинял советский чекист под псевдонимом [М.К. Касвинов «Двадцать три ступени вниз» Фрунзе, 1989, с.197]. Радзинский собирает по излюбленному своему правилу отрицательного отбора, самую нелепую чушь, будто Горемыкин в 1914 г. начал отказ от “столыпинских” преобразований, и что «Филиппов рассказывает в «Том Деле», как пьяный Распутин звонил Горемыкину прямо на квартиру с очередным «прошением». И российский премьер «извинялся за невозможность принять Распутина, говорил что жена его опасно больна» [Э.С. Радзинский «Распутин» М.: АСТ, 2007, с.237].
По утверждению революционного обер-прокурора В.Н. Львова, грозившего выпустить свои мемуары, Горемыкин проводил секретные свидания с Распутиным у баронессы Икскуль [«Последние Новости» (Париж), 1921, 17 мая, №330].
Среди этого противоречивого разнообразия есть сообщения, будто Распутин «всё время» только и думал, как сменить Горемыкина, который «почтительно» относился к Распутину, но не собирался следовать его советам, решая все дела «наедине с Императором» без постороннего вмешательства [Princess Catherine Radziwill «Rasputin and the Russian Revolution» New York: John Lane Company, 1918. P.144].
В апокрифических заметках к безусловно лживому объявлению об исполнении Распутиным супружеских обязанностей за Царя приплетали имя Ивана Логгиновича: «Беда, – рассказывает И.Л. Горемыкин. – Жалко государя. Ведь этот шарлатан Распутин окончательно отодвинул от него государыню императрицу. Придёт к ней и возится целыми неделями, а бедный император, как голубок без голубки, походит, походит, да унылый и уйдёт к себе в кабинет. И нельзя его, подлеца Распутина, выгнать. Если его убить, то государыня или с ума сойдёт, или покончит жизнь свою самоубийством» [«Смертельная язва русского самодержавия» Казань, 1917, с.6].
Пытаясь спекулировать на авторитете Горемыкина, лжецы приписывали ему целые тирады, будто Распутин неделями не пускал Царя к супруге. Это за гранью всякого вероятия. Сплошь недостоверны, к примеру, показания И.Ф. Манасевича-Мануйлова ЧСК, полные нелепыми деталями, вроде того что Г.Е. Распутин «кричал» на Императрицу и не давал ей ни слова вымолвить, а Николай II всё время обманывал Распутина, и тот якобы говорил Царю: «ты опять соврёшь». Следственная комиссия Временного правительства такой бред выслушивала с полным вниманием и доверием.
Когда Андроников сообщил В.Н. Шаховскому, что с ним хочет встретиться Распутин, министр обратился за советом к И.Л. Горемыкину. Шаховской уверяет, что отлично понимал: в то время выступать против Распутина означало идти против Государя и Императрицы.
Как выражался Э. Людендорф: «всё что направлено против императора, направлено и против сплочённости армии» [О.Р. Айрапетов «Генералы, либералы и предприниматели» М.: Три квадрата, 2003, с.200].
Нередко сочиняющий вымыслы Е. Шелькинг вспоминал в 1918 г. слова его сестры, будто Горемыкин сурово критиковал пристрастие Николая II к Г.Е. Распутину. Но одновременно Горемыкин говорил о Царе: «Я люблю его и ни в чем не могу ему отказать». Поэтому логично, что даже если Горемыкин считал причудой связь Царя с Распутиным, он всё делал, чтобы поддержать Николая II, а не навредить ему.
А.А. Поливанов в 1917 г. говорил, что при И.Л. Горемыкине министры не ощущали влияния Г.Е. Распутина и даже не знали, связан ли Горемыкин с ним. На другом допросе ЧСК М.В. Родзянко, получавший информацию от Кривошеина, тоже признавал отсутствие влияния Распутина при Горемыкине.
Многие министры в эмиграции не решились достоверно изобразить свои хорошие отношения с Распутиным, обозначенные в переписке Царской Семьи, т.к. давление чёрной легенды о Григории Ефимовиче компрометировало их общественную репутацию. Поэтому князь Шаховской мог откорректировать давно минувший разговор в несколько негативном ключе, написав, что председатель правительства с присущим ему спокойствием произнёс: «что от Вас убудет, если Вы примете одним прохвостом больше?». Полной точности воспроизведения прямой речи мемуары никогда не гарантируют.
Более убедительно смотрится другой фрагмент, где И.Л. Горемыкин в очередной раз показал исключительно здравомыслие, пояснив: правильнее всего «придавать ему меньшее значение», «чем больше объявлять ему войну, тем больше это породит возвышение его». Напоследок ещё раз порекомендовал относиться к вопросу о Распутине «как можно проще».
Это прямо соотносится с тем, как Николай II на слова епископа Пермского Андроника (Никольского) о распространении сплетен про недостойную и грязную личность Г.Е. Распутина, ответил в 1916 г. в Ставке: «советую вам не верить всякому вздору» [Иеромонах Дамаскин (Орловский) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви» Тверь: Булат, 1996, Кн.2, с.94].
Точно не соответствует действительности сообщение княгини Радзивилл, будто перед увольнением Горемыкин открыто выступил против Распутина, заявив, что не сумеет больше вынести борьбу с работающими против него тёмными силами. Отсутствие опоры сочинителей на правду ведёт к порождению таких вымыслов, обратных популярному среди иных фантазёров изображению Горемыкина послушным орудием Распутина.
Никаких подтверждений негативного отношения Горемыкина к Распутину не существует. В этом запутанном вопросе, смутившем многих монархистов и вызвавшем потерю доверия к ним со стороны Царской Семьи, Горемыкин показал свою разборчивость, непревзойдённый ум и монархическую верность. В отличие от тех, кто пойдёт на измену, клюнув на удочку революционной пропаганды и ею потом будет оправдывать своё преступление и легкомысленное безрассудство, Горемыкин остался непоколебимо предан Трону и интересам России, и о его ног разбились волны антимонархической лжи.
Встречи с Г.Е. Распутиным, как рассказывает последовавший совету Горемыкина В.Н. Шаховской, имели характер обыкновенных бесед, не дающих никаких оснований для негативного к нему отношения. Легенда о чудовищном негативном политическом влиянии Распутина на Императора и Царское Правительство является плодом злонамеренных фантазий.
Знакомый И.Л. Горемыкина Е.Н. Шелькинг, встречавшийся с Г.Е. Распутиным, вспоминал, что тот был «умный и хитрый». Шелькинг утверждает, будто английская фирма Виккерс, использовавшая закулисного магната Б. Захарова, была обязана своими заказами близостью своего представителя П.И. Балинского к Распутину. Очевидно, такой слух распространялся, и английские агенты действительно стремились внедриться в окружение Распутина, но потому что считали его своим врагом, а не пользовались им в своих интересах.
К примеру, П. Жильяр отмечал, что в иностранных посольствах и военных миссиях «сильно преувеличивали» политическое значение Г.Е. Распутина [П. Жильяр «Император Николай II и его семья» Вена, 1921, с.121].
Андроников рассказывал 8 апреля 1917 г., что познакомил И.Л. Горемыкина с Г.Е. Распутиным, предположительно, исполняя желание Царицы Александры. Как и во многих случаях, касающихся Распутина, рассказ может оказаться недостоверным. Во всяком случае это единственная известная Андроникову встреча вызвана просьбой со стороны Распутина. Она проходила не тайно, без посторонних салонов, а официально: «пусть обратится к секретарю», – отвечал Горемыкин. При разговоре присутствовал секретарь Юрьев и жандармский подполковник.
Горемыкин спросил приехавшего к нему Распутина о цели визита и прервал затянувшееся молчание: «Я вашего взора не боюсь! Говорите в чём дело?». Распутин будто бы похлопыванием по ноге собеседника пытался настроить разговор на доверительный лад и спросил, говорит ли он всю правду Царю. «Да. Всё то, что меня спрашивают, об этом я говорю». Они обсудили вопросы обеспечения продовольствием. «Горемыкин отнёсся чрезвычайно скептически: удивлялся, смотрел на Распутина» [«Падение царского режима» М.-Л.: Госиздат, 1925, Т.2, с.17].
Здесь подтверждается рассказ В.Н. Шаховского о спокойном, взвешенном отношении Ивана Горемыкина к Григорию Распутину. Причин для вражды у них не было. Никаких просьб Распутина Горемыкин не исполнял, такие не поступали. По переписке Царской Семьи известно самое положительное мнение Распутина о Горемыкина, следовательно, их встреча прошла благополучно.
Андроников вспоминал что после увольнения из МВД Маклаковым Горемыкин предлагал устроить его при себе, но договорились причислить к Синоду с одобрения Саблера чиновником для особых поручений.
22 августа в 14.15 Император принимал Горемыкина, а вечером – впервые после покушения на убийство – Григория Распутина.
Явный вымысел записан 23 августа в московском дневнике Р.М. Хин-Гольдовской о ходатайстве барона Гинцбурга насчёт расширения еврейской черты оседлости: «Горемыкин будто бы затопал на барона ногами» [«Минувшее», 1997, №21, с.544].
31 августа в 18 ч. Горемыкин снова у Государя.
8 сентября Горемыкин был у Императора Николая II после Кривошеина, следов которого в дневнике за первые околовоенные дни нет, что указывает на его непричастность к ключевым политическим решениям. Также 8 сентября Горемыкина посещал Витте.
Генерал Янушкевич написал Горемыкину 19 сентября 1914 г. о вопросах, подлежащих решению при занятии областей Австро-Венгрии с учётом планируемого присоединения Галиции к Российской Империи. Начальник штаба предлагал дальнейшие уступки полякам, но был за недопущения распространения «т.н. украинского» и считал: «нам предстоит весьма трудная борьба с еврейством» в Галиции, отягощённая их связью с еврейством России и международным еврейством. Янушкевич предлагал немедленно начать изучение земельного вопроса в Галиции. Русская администрация считала одной из главнейших забот оказание помощи голодающим и поддержку восстановления хозяйства. Горемыкина просили установить размеры этой помощи и содействовать в назначении в Галиции должностных лиц, отвечающих требованиям времени [«МОЭИ», 1935, Т.6, Ч.1, с.353].
27 сентября, вернувшись из поездки к Армии, Государь сразу принял доклады Горемыкина и Сухомлинова.
Затем 12 октября к 18 ч. Император принимал Горемыкина.
Михаил Таубе вспоминал, что 16 октября, когда вопреки объявленному прежде нейтралитету, турецкий флот обстрелял Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск, И.Л. Горемыкин сразу воспринял это как увеличение тяжести войны на новом фронте, но С.Д. Сазонов уверял Совет Министров, что у него самые лучшие дипломатические отношения с Турцией. Если это не очередная выдумка, на какие богаты мемуаристы, значит, министр иностранных дел не был таким уж ястребом, как напрасно пытаются изображать.
Государь Император 20 октября после Григоровича и Тимашева принимал вместе Горемыкина и Кривошеина.
В честь 75-летия И.Л. Горемыкину поздравить его заходил в особняк председателя Совета Министров на Моховой генерал А.Ф. Редигер. После начала войны И.Л. Горемыкин вернул в казну деньги, назначенные ему для приобретения мебели и перевёз в особняк свою обстановку, взяв также часть из Зимнего дворца.
Князь М.М. Андроников, собирая подписи под юбилейным адресом, заменяющим многолюдное собрание, использовал такое обращение: «предполагая что Вы искренно и чистосердечно относитесь к личности Ивана Логгиновича, я позволил себе послать Вам адрес с предупреждением, что Ваша подпись желательна в том только случае, если изложенные в адресе мысли соответствуют Вашим убеждениям» (такой черновик остался в бумагах И.Л. Горемыкина, но с июня 1914 г. отсутствует подробная переписка с Андрониковым).
В ЧСК упоминалась фамилия Анспаха, преподавателя французского языка, который может быть автором составленной биографии И.Л. Горемыкина, подписанной псевдонимом Б.
2 ноября 1914 г. Челноков высмеивал заседание Верховного совета с участием министров, себя и Г.Е. Львова под председательством Императрицы. «Горемыкин, премьер, руководящий всей политикой империи, был докладчиком и сообщил высокому собранию, что надо купить шкапы и заказать парточки. Вот и всё. Дальше не знали что делать» [«Наследие Ариадны Владимировны Тырковой. Дневники. Письма» М.: РОССПЭН, 2012, с.149].
Лишённые желанного имперского руководства либералы и будущие заговорщики вынуждены были иронизировать над любыми добрыми делами Царицы Александры. И.Л. Горемыкин возглавлял комиссию, разработавшей проект учреждения этого Совета.
М. Палеолог 4 ноября прочитал С.Д. Сазонову телеграмму, посланную им правительству Франции с изложением своей беседы с И.Л. Горемыкиным. «В беседе с французским послом председатель Совета министров И.Л. Горемыкин высказал свой личный взгляд на будущие условия мира. Председатель Совета полагает, что Россия сочтёт необходимым присоединить часть Армении и создать из Константинополя свободный город с международным управлением. Условия мира должны быть установлены союзниками в течение совместных действий против неприятеля и продиктованы Германии и Австрии, конференция была бы созвана только для урегулирования второстепенных вопросов. Русское правительство твёрдо надеется, что после окончания войны союз между тремя державами будет окончательно закреплён» [Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой войны: Сборник документов. Тула: Аквариус, 2014, с.44].
Предварительные договорённости и заявления претензий необходимо было сделать во избежание того чтобы после завершения войны дипломаты не смогли лишить Россию плодов военных побед.
7 ноября Император записал: «после чая принял доброго Горемыкина».
И.Л. Горемыкин 14 ноября написал Н.Н. Янушкевичу сообщение с критикой распоряжений начальника Одесского военного округа М.И. Эбелова, включая «воспрещение одновременного пребывания взрослых мужчин немцев более двух, даже из числа российских подданных, особенно в своих жилищах». От имени Совета Министров Горемыкин назвал неуместными и запрещения корреспонденции на немецком языке, а также издания на нём газет [«Немцы в истории России» М.: МФД, 2006, с.557].
При содействии Н.Н. Янушкевича пожелания Горемыкина об отмене этих решений были исполнены. По воспоминаниям Г.Н. Михайловского, А.С. Стишинский также показал самые положительные достоинства крайне правых монархистов, когда во главе комиссии по борьбе с немецким засильем успешно свёл эту борьбу к минимуму, сдерживая опасности погромной ненависти и неуместных правительственных репрессий.
В основном жители Российской Империи не почувствовали на себе никаких изменений в связи с началом войны, не падало снабжение: «не коснулось никак» [«Михаил Булгаков. Воспоминания современников» Киев: Личности, 2014, Кн.1, с.156].
Согласно сообщению Палеолога Делькассе, 15 ноября И.Л. Горемыкин говорил французскому послу, что будет настаивать на нейтральном статусе Константинополя – выведении его из-под турецкого владения [Р. Боброфф «Пути к славе: Российская империя и Черноморские проливы в начале XX века» СПб.: Библиороссика, 2022, с.218].
27 ноября Государыня из Царского Села написала Его Величеству, что Горемыкин ждёт её после чая. Это первое его упоминание в семейной переписке времён войны.
Вечером 29 ноября несколько министров с Горемыкиным собрались к 21 ч. и разъехались только глубокой ночью.
Родзянко 30 ноября отправил Горемыкину письмо, заступаясь за арестованных тремя неделями ранее депутатов-большевиков. Либералы в очередной раз оказались на стороне коммунистов. Н.А. Маклаков поддержал действия своих подчинённых в борьбе с преступниками [С.В. Тютюкин «Александр Керенский» М.: РОССПЭН, 2012, с.75].
М.В. Челноков приезжал из Москвы и при встрече с И.Л. Горемыкиным, Н.А. Маклаковым, С.И. Тимашевым и добивался у них секвестра Общества электрического освещения 1886 г.
По записи М. Палеолога, 6 декабря в день именин Государя он поймал Горемыкина в конце службы и обвинил в слабой военной помощи. Горемыкин защищал Сухомлинова неопровержимыми доводами нехватки снарядов во Франции и Англии и невозможности предвидеть требуемую трату снарядов в такой войне. Как это ни поразительно, следствие, назначенное Императором для разоблачения лживых легенд об измене или нерадивости военного министра, вместо того чтобы его оправдать, будет настаивать на том, что Сухомлинов должен был до начала войны предусмотреть сколько снарядов для неё потребуется. Та же парадоксальная ситуация возникла раньше с расследованием убийства Столыпина: вместо того чтобы установить полную невиновность охраны, в ход пошли фантазии и подтасовки, лишь бы непременно засадить обвиняемых, к недоумению и недовольству Императора. Во всех таких случаях Царь, пользуясь своей осведомлённостью, лично вершил подлинное правосудие.
8 декабря 1914 г. Палеолог нанёс визит «г-же Горемыкиной, старой даме, приветливой и симпатичной, с короной седых волос». Французский посол при каждом упоминании имени Горемыкина говорит о его скептицизме, слабом голосе и иронии. Про другой день Палеолог писал о его утомлении трудами, почестями, опытом, называл его разочарованным фаталистом. Однотипные фразы Палеолога говорят о заученном невнимании автора воспоминаний, его склонности к шаблонам. В этот раз также своё спокойствие среди трудностей войны Горемыкин объяснил шуткой: «я так стар. Уже так дано следовало бы положить меня в гроб». Это в духе Горемыкина и другой его шутки о старой шубе, демонстративное предпочтение саморекламе самоиронии.
Из письма Н.Н. Янушкевича от 18 декабря известно, что И.Л. Горемыкин привозил в Ставку письмо бывшего командующего 1-й армией П.К. Ренненкампфа с просьбой аудиенции у Великого Князя, но тот получил отказ. Далее Ренненкампф через Андроникова передавал Горемыкину составленную им записку о действиях 1-й армии, пытаясь оправдаться от несправедливых обвинений. Ставка недобросовестно пыталась списать на него собственные ошибки [«Генерал Ренненкампф» М.: Посев, 2017, с.661, 666]
20 декабря Горемыкин отправил американскому распространителю клеветы о русских монархистах: «Сообщения о еврейских погромах в городах Польши бессмысленный вздор» [H. Bernstein «Horrors Worse Than Kishineff Charged Against Russia Today» // «The Sun» (New York), 1915, June 6, P.1].
Когда под влиянием США С.Д. Сазонов пытался полнять вопрос о еврейском равноправии, Император Николай II остановил его и позже дал распоряжение И.Л. Горемыкину, чтобы Совет Министров не ставил этот вопрос.
Высылки еврейского населения от линии фронта проводились не И.Л. Горемыкиным, а военными властями. Опасность измены признавал даже в самой проеврейской апологетической заказухе в 1883 г. перебежавший на сторону либералов Лесков: «в случае каких-либо столкновений на Западе русское правительство будет иметь людей им не довольных и потому ему не преданных» [Н.С. Лесков «Собрание сочинений» М.: Экран, 1993, Т.3, с.253].
24 декабря 1914 г. И.Л. Горемыкин скрепил царский указ о размере контингента новобранцев на 1915 г. Призыву подлежали 535 тыс. чел. для пополнения Армии.
Князю М.М. Андроникову на Фонтанку, 54 И.Л. Горемыкин 26 декабря прислал небольшое поздравительное письмо на французском с формальным пожеланием «всего наилучшего в наступающем году» [РГИА Ф.1617 Оп.1 Д.239 Л.1].
29 декабря Горемыкин сообщил А.Г. Булыгину о его назначении председателем Г. Совета. Но Булыгин не принял должности, и Вдовствующая Императрица поддержала Булыгина в отказе.
Ротация высших должностей в условиях Великой войны продолжалась.
При исполнении бюджета 1914 г. ординарных доходов поступило 2,9 млрд. при назначенных 3,5. Соответственно подверглась сокращению и расходная часть. В целом же доходные статьи бюджета за 1914 г. составили 5 млрд. руб., а итоговое положительное сальдо над расходами составило 210 млн. руб. [С.Г. Беляев «П.Л. Барк и финансовая политика России 1914-1917» Изд-во СПб. ун-та, 2002].
16 января 1915 г. Шаховской был вызван к Государю с целью принятия поста министра торговли и промышленности. «Государь сказал, что он уже несколько времени тому назад хотел назначить меня, но И.Л. Горемыкин, не знавший меня, просил дать ему время, чтобы навести необходимые справки. Полученные отзывы оказались такими, что он вполне присоединяется к выбору Государя». Шаховской считает, что Горемыкин наводил справки у Рухлова. Император указал Шаховскому поехать к Горемыкину, а потом к Кривошеину. «Здесь же Его Величество отметил, что, по преклонности лет Ивана Логгиновича Горемыкина, он смотрит на Александра Васильевича Кривошеина, как на фактического Председателя Совета Министров» [В.Н. Шаховской «Так проходит мирская слава» Париж, 1952, с.50].
Такому утверждению трудно найти какое бы то ни было подтверждение с фактической стороны и здесь, бесспорно, ошибка памяти и влияние сторонних публикаций. Очерёдность предложенных Государем посещений указывает, в лучшем случае, на третью роль Кривошеина в Совете Министров, но никак не первую. Объяснение кроется в том, что фактическим премьером считала Кривошеина газета партии к.-д. Но и «Речь» после отставки Кривошеина признала, что «Горемыкин всё реже стал с ним совещаться», стало быть и репутация его завышалась газетами.
Тут можно сослаться и на допросы ЧСК, где И.Л. Горемыкин вспоминал, что не был против назначения Шаховского повелением Николая II, но Царь принимал это решение самостоятельно, не по совету Горемыкина. Назначение графа П.Н. Игнатьева Горемыкин объснял своим представлением Государю, а не влиянием Кривошеина. Вообще, ни по одному обсуждаемому в ЧСК вопросу никакое даже малейшее присутствие Кривошеина выявлено не было. Хотя это предоставило бы массу удобств, ни разу Горемыкин не сказал, что Кривошеин принимал все фактические решения и следовательно его следует о них спрашивать. Ничего такого никогда не было.
Справедливо критиковавший заигрывание Кривошеина с либералами, сотрудник его министерства потом вспоминал что в Царской России печать «была независима только от Правительства, но зато находилась в сугубой зависимости от тех или других партий, банков или меценатов». Ориентир Кривошеина на услужение этим партиям, в обмен на поддержку от газет, русских монархистов настораживал. Они видели у Кривошеина ненадёжное совмещение верноподданничества с фрондёрством [Г.В. Немирович-Данченко «В Крыму при Врангеле» Берлин, 1922, с.21, 34].
Ещё в начале 1914 г. распространялись сведения, что только Горемыкин пользуется полным доверием Царя сравнительно со всеми министрами. «Все дела не текущего характера проходят не иначе, как с ведома председателя Совета министров». «Вместе с тем Горемыкин говорил, что намеренно не вмешивается в дела Маклакова и Кривошеина» [«Вопросы истории», 2000, №1, с.3].
Коковцов пишет, что Кривошеин не смог «завладеть» Горемыкиным, что означает отсутствие какого-либо периода господства Кривошеина.
Дословно фраза, заимствованная В.Н. Шаховским, содержится в телеграмме М. Палеолога 13 сентября 1914 г.: что Кривошеин пользуется особенным доверием Императора и «является в сущности фактическим председателем совета министров», он придерживается программы Сазонова и полагает сделать Проливы свободными от турок, а Константинополь превратить в нейтральный город [«МОЭИ», 1935, Т.6, Ч.1, с.314].
Сын А.В. Кривошеина, поддержавший эту мифологию насчёт фактического премьера, не выявил ложный источник фразы Палеолога и показал тем самым слабую ценность односторонне-слепого апологетического сочинения об отце [К.А. Кривошеин «А.В. Кривошеин и граф Коковцов» // «Возрождение» (Париж), 1972, №239, с.68].
Его книга «А.В. Кривошеин» с нелепыми фантазиями про политический паралич и отсутствие авторитета у правительства, стоило только устранить Кривошеина, выглядит до смешного жалкой. К.А. Кривошеин в качестве историка точно не заслужил авторитета. Иначе показал бы способность к честной критике представителей своей фамилии.
Всегда нужно уточнять, что М. Палеолог «является очень недостоверным свидетелем, либо введённым в заблуждение, либо просто неосведомлённым» [В.Д. Набоков «Психология в Петербурге» // «Руль» (Берлин), 1921, 23 февраля, с.2]. Американский посол Д. Фрэнсис, который в отличие от английского представителя Бьюкенена, поддерживал дружеские связи с Императорским правительством, а не с оппозицией Царю, 29 января 1917 г. напишет Лансингу, что Палеолог без консультации с Бьюкененом «почти что» не может сказать «который час» [Р.Ш. Ганелин «Россия и США. 1914-1917» Л.: Наука, 1969, с.139, 142].
Учитывая, что намерения С.Д. Сазонова в 1914 г. нередко расходились с настроениями Императора Николая II и И.Л. Горемыкина, как о том свидетельствует сотрудник МИД Г.Н. Михайловский, относительно Константинополя мнение Кривошеина тоже не имело решающей силы.
И.Л. Горемыкин проявлял широту бюрократического профессионализма по международным проблемам, лично руководя и ими, как видно из такой прекрасной сцены: «Горемыкин, будучи в курсе дела, стал ему задавать вопросы, тогда Сазонов обратился ко мне, и мне пришлось пункт за пунктом изложить взгляд нашего министерства на этот вопрос, а Сазонов немедленно и текстуально каждое моё слово передавал Горемыкину. Так продолжался больше часа этот триалог, в котором на мою долю выпала роль суфлёра». Мемуарист ничем не подтверждает миф о фактическом премьерстве Кривошеина, но регулярно опровергает его примерами, когда «Горемыкин ни в коем случае не на стороне Сазонова». Что не удивительно, «зная горемыкинскую манеру безошибочно угадывать то решение вопроса, которое в конечном счёте одержит верх» [Г.Н. Михайловский «Записки» М.: Международные отношения, 1993, Т.1, с.119, 135, 187].
Ни о каком премьерстве Кривошеина при таком раскладе сил говорить не приходится. М.В. Родзянко, много общавшийся с Кривошеиным, в 1917 г. вспоминал, к примеру, что «Горемыкин всё-таки был в силе, его слушались, и он сумел Николая II отговорить». Зато нет данных насчёт того, чтобы такое же влияние и значение имел Кривошеин.
Когда И.Л. Горемыкин после встреч с польской депутацией решил назначить Д.Н. Любимова помощником варшавского генерал-губернатора, Любимов встречался в Петрограде с Горемыкиным, Маклаковым и Кривошеиным и пришёл к определённому выводу насчёт «И.Л. Горемыкина, игравшего тогда, после вторичного призвания его к власти, главную роль в правительстве», вопреки популярному мифу о старой шубе. При назначении 29 декабря 1914 г. в Сенат Горемыкин сказал ему с саркастической улыбкой: «по нашим переменчивым временам это почётная пенсия» [Дм. Любимов «В начале мировой войны» // «Возрождение» (Париж), 1935, 8 ноября, с.3].
24 декабря 1914 г. граф И.И. Толстой писал, что «по общему убеждению», Кривошеин наиболее влиятельный на данный момент министр, но испытывал подозрение, что сам Кривошеин и распространяет это мнение. Стороннее искусственное надувание представлений о значении Кривошеина привело к тому, что днями позже министр сам вынужден был пояснять, что он не председатель Совета Министров и не министр внутренних дел, следовательно, не имеет полномочий говорить с депутациями.
Пока ещё был жив Л.А. Кассо, в довоенное лето И.Л. Горемыкин пренебрегая “великим” неудовольствием Кривошеина, решал дела в пользу министра народного просвещения. Соответственно Горемыкина, а отнюдь не Кривошеина, Кассо пышно титуловал великим визирем. Горемыкин настолько контролировал распорядок правительства, что сделанный без всякого его участия выбор в октябре 1914 г. Государем временного управляющего министерством на время болезни Кассо, задевал Горемыкина, т.е., нарушал некий привычный ход согласований. Кривошеин не имел к этому ни малейшего касательства. А затем, по сведениям Великого Князя Николая Михайловича, по прежнему обыкновению именно И.Л. Горемыкин выбрал для Николая II и предложил П.Н. Игнатьеву освободившийся портфель [М.А. Таубе «Зарницы». Воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России. М.: РОССПЭН, 2007, с.174, 186, 189].
Когда в декабре 1914 г. Кассо умер, выбор на его место заместителя Кривошеина ошибочно был воспринят публикой как знак назначения им министров под свои нужды. Что забавно, Таубе предлагает поверить и в эпизод, будто сам Горемыкин подыгрывал тем мифическим рассказам, при случае делая вид, будто Кривошеин сделал Игнатьева министром, а не он сам. Это возвращает нас к случаям, когда Горемыкину приписывали легенды о роспуске 1-й Г. Думы и мнимых неожиданностях его увольнений. Как будто сам Горемыкин из скромности или коварства, либо кто другой за него, намеренно занижал степень его политического могущества. Перечень историков, подпавших под это нелепое заблуждение, кажется, не ограничен, что тем более побуждает как можно более активно избавляться от вредных предрассудков.
П.Н. Игнатьев рассказал ЧСК, что в декабре 1914 г. Горемыкин вызвал его к себе после рекомендации от Кривошеина. Горемыкин настаивал на принятии министерства, но условие о невмешательстве председателя Совета Министров в дела просвещения Горемыкин отверг: «вы требуете слишком большого, но в течение работы это выяснится. Я тоже очень люблю народное просвещение, но я мало понимаю и поэтому мешать вам не буду». Относительно влияния Кривошеина П.Н. Игнатьев утверждал, что лишь «некоторые вещи», подсовываемые с его стороны, Горемыкин одобрял, и только до мая-июня 1915 г.
По мнению преданного Государю генерала Василия Гурко, П.Н. Игнатьев «придерживался определённых монархических убеждений», «понимал монархизм в наилучшем смысле этого слова». Именно за эти качества, а не за нечто иное и противоположное, его мог выдвигать И.Л. Горемыкин.
Князь Шаховской увидел в Горемыкине мудрого, не просто умного государственного деятеля, который, однако, не мог переломить процесс информационного заражения общества левой пропагандой. В.Н. Шаховской списывал это на возраст, но ничьей на планете юности и зрелости справиться бы не хватило, как справедливо считал П.Л. Барк.
А.Н. Яхонтов подтверждает, что согласие между Горемыкиным и Кривошеиным длилось до лета 1915 г. и поясняет, вследствие чего возникла ложная легенда о преобладании Кривошеина в делах правительства: «находясь в постоянном дружеском общении, они обычно заранее сговаривались по крупным вопросам и в заседаниях совета министров действовали рука об руку. Получалось иногда впечатлене, что председатель как бы намеренно выдвигал А.В. Кривошеина на первый план и предоставлял ему инициативу, вмешиваясь в суждения лишь в случаях необходимости» [«Возрождение», 1936, 26 сентября, с.8].
Снова оказывается, что миф об инертности Горемыкина возник вследствие непонимания действительного расклада сил. Те кто не знал, что Кривошеин действует по установленному Горемыкиным плану, естественно, могли подумать что Кривошеин становится фактическим председателем правительства. В действительности он лишь делал то, чего желал Горемыкин.
1 января 1915 г. состоялась церемония новогодних поздравлений Николая II Советом Министров в нарядных официальных мундирах. М.А. Таубе вспоминал: «Государь остановился на несколько минут перед Горемыкиным, чтобы выслушать довольно длинное приветствие» (вот ради кого Горемыкин умел говорить красиво и много), ответил Горемыкину пожатием руки и любезными замечаниями. Горемыкин «чуть ли до земли склонил свою закованную в золото старческую фигуру». С прочими министрами Император не тратил слов и выглядел крайне озабоченно.
Горемыкину понравилось, что Шаховской не поехал на поклон к московским «толстосумам», что было традицией у министров, занимающихся экономикой. Шаховского Горемыкин предлагал выдвинуть во главе органа, который ведал бы всеми продовольственными делами.
При Горемыкине осажены были еврейские банкиры. В 1915 г. была признана вредной деятельность торгового банка М.И. Вавельберга. Банк лишили кредита, а Вавельберга выслали из России. В Париже он вошёл во французскую масонскую ложу. Из самых богатых еврейских банкиров в начале 1915 г. 12 миллионов было у И.П. Мануса, 10 млн. у Б.А. Каменки, спонсора партии к.-д., 6 млн. – у братьев Вавельберг [«Частное предпринимательство в дореволюционной России» М.: РОССПЭН, 2010, с.402-406].
В 1998 г. историк Кирьянов писал, будто Кривошеин в начале войны имел в правительстве большое влияние, пока Горемыкин не установил связь с кружком Рубинштейна-Мануса. Удивительно, сколько нелепых легенд продолжало воспроизводиться в академических изданиях даже после падения СССР. Кирьянов использовал вышеупомянутый допрос Игнатьева, свидетельствующий о малом, выборочном влиянии Кривошеина. А ссылка на фотографию жены Горемыкиной в устроенной в их доме больнице, которую спонсировали Рубинштейн и Манус, «это, конечно, анекдот» (специально оговорено П.Н. Игнатьевым). Но советские историки строят из таких шуточек свои песочные замки.
По другим публикациям известно, что в 1912 г. И.П. Мануса обвиняли в покупке статей в «Новом Времени» против В.Н. Коковцова, т.е. в участии в той кампании, что вёл и Кривошеин, хотя напрямую они могли быть и не связаны. По довоенному рассказу Н.В. Снессарева, опубликованному в 1914 г., газетную борьбу против В.Н. Коковцова вёл в «Новом Времени» на личной почве А.И. Гучков и М.О. Меньшиков совместно с И.П. Манусом.
Зато действия военных властей в отношении еврейского населения в прифронтовых областях Горемыкин не одобрял. Он обещал дать ход жалобам на выселение евреев из Плоцкой губернии перед главнокомандующим [«Протоколы Центрального Комитета конституционно-демократической партии. 1915-1920» М.: РОССПЭН, 2000, Т.3, с.50].
На заседании Совета Министров 2 января было решено предоставить семейству погибшего генерала Самсонова пенсионное обеспечение в 10 645 руб. в год [«Пульс. Военно-политический альманах» М.: Военное издательство, 1989, Вып.1, с.231].
И.Л. Горемыкин 11 января 1915 г. запрашивал у С.Д. Сазонова материалы МИД о принятых в связи с начавшейся войной законами в Англии, Франции и Германии. 23 января с личным уведомлением Сазонову, Горемыкин вернул предоставленные ему документы в МИД [РГИА Ф.1276 Оп.11 Д.1444. Л.1-2].
В январе 1915 г. правые монархисты просили И.Л. Горемыкина сменить И.Я. Голубева – председателя Г. Совета. Куломзин будет назначен на его место лишь 15 июля, через полгода, однако Горемыкин начал докладывать Императору о вакансиях в Г. Совете, как делал раньше Столыпин. 1 февраля Горемыкин уведомил Голубева, что Император просил вступать с ним в предварительное соглашение по кандидатам в присутствующие члены Г. Совета [«Отечественная история», 1998, №3, с.61, 65].
Куломзин был давним оппонентом Горемыкина и едва ли им рекомендован. Не одобряли его и правомонархические организации.
17 января 1915 г. сессия Г. Совета открылась патриотическими речами И.Я. Голубева и И.Л. Горемыкина, после которых моментально было приступлено к деловой работе.
С.Д. Сазонов писал Горемыкину 21 января 1915 г., что считает посылку хлеба союзникам «чрезвычайно важным как с военной, так и с политической точки зрения». Размер таких отсылок был совершенно незначителен для продовольственного обеспечения Империи. На 1916 г. договорились всего на 13 млн пудов для Франции, а общий вывоз составил в 1915 г. 11,1 млн., в 1916 г. – 14,4 млн. пудов. На 1917 г. была договорённость поставить уже на 50 млн. пудов, из них 15 млн. к 1 июля 1917 г. Потребность Империи рассчитывалась в 660 млн. пудов в год. На конец 1916 г. имелся запас в 626 млн., с учётом будущего урожая хлеба было навалом [А.Е. Иоффе «Русско-французские отношения в 1917 г.» М.: ГИПЛ, 1958, с.136, 281-284].
30 января у И.Л. Горемыкина состоялся раут с участием более тысячи приглашённых, в т.ч. депутатов Г. Думы всех партий, кроме трудовиков и с.-д. Но ознаменование единения с Думой оказалось подпорчено закрытием в тот же день на всё время войны Вольно-экономического общества.
Историки пишут про “поход” И.Л. Горемыкина против ВЭО ещё до 1900 г. и подтверждают основания для борьбы: начальник Петербургского охранного отделения А.В. Герасимов в 1906 г. называл ВЭО одним из главных очагов революционной заразы, нуждающихся в дезинфекции [А.С. Туманова «Общественные организации России и годы Первой мировой войны» М.: РОССПЭН, 2014, с.139-140].
Бывшие депутаты-мемуаристы типа Н.В. Савича потом сочиняли невероятную чушь, будто Сухомлинов, скрыл от Г. Думы недостаток снабжения Армия, из-за чего не произошло приложения необходимых усилий и кризис развился до катастрофы. Подобные рассуждения трудно назвать иначе как чрезвычайно неадекватным помешательством на собственной значимости, когда в действительности ровно никакого влияния Г. Дума на снабжение Армии оказать не могла. Политическим ничтожеством есть все основания считать Н.В. Савича, а не царских министров, которых он имел глупость так называть. Он сам признаёт это: «мы близоруко считали, что Дума есть тот политический центр страны, к которому всё устремляется, что она является тем нервным узлом, который управляет умственным движением страны».
В письме В.А. Сухомлинову от 7 февраля И.Л. Горемыкин писал об отказе использования военнопленных на частных предприятиях, ограничивая их привлечение только к работе на государственные, по юридическим и практическим соображениям. Однако постепенно пленных стали привлекать к полевым работам и на частных железных дорогах, где техническая сторона труда не отличалась от использования на казённых предприятиях [Т.В. Алексеев «Особое совещание по обороне государства и военно-экономическая мобилизация в России в годы Первой мировой войны» СПб.: Лема, 2015, с.62-63].
Согласно рассказам наблюдателей, в Красноярске пленные немцы и венгры «ходили свободно по городу», «ухаживали за гимназистками» [В.А. Флоренская «Моя жизнь» М.: НЛО, 2022, с.24].
8 февраля Горемыкин и Барк принимали участие в траурной панихиде по С.Ю. Витте.
Л.А. Тихомиров в дневнике разводил обычное его нытьё об отсутствии нужных людей, будучи недовольным Сухомлиновым, Григоровичем, Сазоновым. «А возглавление? Полуживой Горемыкин», — записал он 10 февраля. Однако летом 1917 г. запутавшийся в своих страхах Лев Тихомиров с удивлением обнаружит что все министры Временного правительства много хуже. Следовательно, мифология о неспособности Императора Николая II находить сотрудников являлась лишь беспочвенным злонамеренным слухом. Не было никакой реальной причины вырывать у Государя бразды правления, т.к. не существовало никакой иной более эффективной системы управления и отсутствовали люди, способные сделать что-либо лучше.
Столь же фактически несостоятельна оказывалась и необычайная популярность Великого Князя Николая Николаевича, которой не имел И.Л. Горемыкин. Слухи всё переворачивали и искажали, не отражая осмысленно важную реальность.
В феврале 1915 г. Горемыкин получил уведомления о намерении английского правительства атаковать проливы и добиться присоединения к Антанте Греции, Болгарии и Румынии.
22 февраля на заседании Совета Министров И.Л. Горемыкин утверждал, что захват Константинополя следует провести после поражения Германии. Сазонов, не доверяя союзникам по Антанте, уточнял что это следует успеть сделать в последний момент до подписания мира. Сообщая о таких позициях министров, Рональд Боброфф одновременно всё время противоречит фактическим данным, регулярно выдумывая, будто планы Сазонова хоть в чём-либо могли помешать войне с Германией, и сочиняя глупости про безвластие правительства Николае II, утомлённого старика Горемыкина, следуя самому примитивному культу Столыпина. Как советские антинаучные сочинения непременно должны были доказать, что любые действия Николая II вели к краху, так и сейчас либеральные историки продолжают заниматься такой же бессмысленной риторической подгонкой любых событий под вымышленные закономерности революционного крушения. Сообщаемые же историком сведения свидетельствуют об обратном.
Н.А. Маклаков 26 февраля предупреждал И.Л. Горемыкина о тревожном положении с продовольствием в Европейской России. Однако при бдительности правительства не возникло существенных проблем и оставались запасы существенных размеров.
Вместе с супругой, Горемыкин днём 28 февраля приехал в дом усопшего С.Ю. Витте. Так поступили и другие министры.
По утверждению Коковцова, Рухлов и Кривошеин убедили Горемыкина принять должность председателя финансового комитета, которую занимал Витте до смерти.
Н.А. Маклаков 6 марта сообщил Горемыкину о результатах обыска дачи С.Ю. Витте [А.В. Островский «Россия. Самодержавие. Революция» М.: КМК, 2020, Т.1, с.130].
По воспоминаниям А.И. Шингарёва, 7 марта 1915 г. состоялось частное совещание министров с депутатами Г. Думы. Демагогическую критику Шингарёва В.А. Сухомлинов справедливо опровергал словами: «вам кажется, что только у Вильгельма всё хорошо». И.Л. Горемыкин столь же иронически заметил: «если послушать г. Шингарёва, всё пошло бы несравненно лучше, если бы он занимал моё место». В действительности при министре Шингарёве в 1917 г. ничего лучше не пойдёт, но сделается несравненно хуже, за что он несёт личную ответственность. Н.А. Маклаков тоже ни во что не ставил доводы депутатов, сказав им: «правительство не боится гласной критики».
Сухомлинов 8 марта написал, что Горемыкин «почему-то» откладывает рассмотрение в Совете Министров ликвидации в Москве и Петрограде немецких обществ электрического освещения. Щегловитов посоветовал воздействовать на Горемыкина в этом направлении через Николая Николаевича [«Красный Архив», 1923, Т.3, с.42].
На допросе ЧСК А.Н. Хвостов называл Андроникова агентом немецкого капитала и ходатаем за таковой у Горемыкина. «Мне кажется, Андроников, бывая у Горемыкина и всюду, старался что-нибудь говорить в пользу «Электрического общества», – говорил что-то о швейцарском капитале». Интересно: сам же Хвостов, называя Андроникова своим врагом, признаётся, что использовал его как осведомителя. «Я знаю, что Андроников у старого Горемыкина бывал, и я этим иногда пользовался, так как мне именно нужно было знать, что там делается» [«Падение царского режима», Т.1, с.22].
В начале марта 1915 г. Великий Князь Николай Николаевич пытался вмешиваться в назначение 3-м заместителем министра торговли и промышленности Литвинова-Фалинского. И.Л. Горемыкин, известивший Шаховского во время пребывания того в Харькове, одобрил решительное сопротивление министра вмешательству Великого Князя, как и Рухлов с Кривошеиным. Литвинова-Фалинского выдвигали Витте, Сухомлинов, князь Орлов при Николае Николаевиче, а потом Родзянко. «Ставка вся тоже сделалась враждебной мне вместе с её вдохновителем князем Орловым, личным другом Верховного Главнокомандующего», – вспоминал В.Н. Шаховской.
По городу в марте ходили слухи, что Совет Министров был поражён такой рекомендацией Литвинова-Фалинского Великим Князем в письме И.Л. Горемыкину. Шаховской будто бы подал в отставку, но вместо этого Николай II уволил самого Литвинова-Фалинского. 26-м марта помечена запись В.В. Каррика, якобы на днях Горемыкин зачем-то ездил к Литвинову-Фалинскому, желавшему его видеть [«Голос Минувшего», 1918, №4-6, с.18].
В эмигрантском докладе «Русская промышленность и война», прочитанном в Лондоне, В.П. Литвинов-Фалинский будет противопоставлять Ставку Совету Министров, желая снять с Великого Князя Николая Николаевича всякую ответственность за неудачи. Абсурдный фанатизм докладчика дошёл до приписывания удаления Верховного Главнокомандующего на Кавказ – врагам России, «приоткрывшим дверь русской революции» [«Возрождение» (Париж), 1925, 9 июля, №37, с.5].
В марте 1915 г. Вл. Гурко обвинил Горемыкина и Сазонова, что в Г. Думе они недостаточно ясно заявили права на Константинополь [В.А. Емец «Очерки внешней политики России в период первой мировой войны» М.: Наука, 1977, с.146].
Это была очередная нелепая претензия, поскольку первее следовало Проливы занять и обойти англичан, которые уже пытались осуществить собственную Галлиполийскую операцию, чтобы сорвать эту возможность для Николая II. И.Г. Щегловитов справедливо не верил никаким британским обещаниям относительно Константинополя. Сообразно с ним и Горемыкин призывал к полной секретности относительно соглашений правительства, и когда ненужный шум подняли «Биржевые Ведомости», Горемыкин даже «вышел из своего обычного хладнокровия» (М.А. Таубе). – Настолько этот роковой вопрос не позволял разбрасываться легкомысленными словообольщениями.
Понятно почему враги Российской Империи прибегли к организации февральского переворота, лишь бы не дать ей достигнуть намеченных целей. Ещё Наполеон I, отказываясь уступать Александру I, утверждал: «Константинополь – это мировое господство!» [Мари-Пьер Рэй «Александр I» М.: РОССПЭН, 2013, с.208].
Убеждение единомышленников А. Мильнера, что эта война ведётся «между двумя непримиримыми принципами, самодержавием и демократией», определённо указывало: британские политики видели своего главного врага в Русской Монархии [John Turner «Lloyd George’s secretariat» Cambridge University Press, 1980, p.147].
28 марта Горемыкин нанёс визит Палеологу. Если верить послу, Горемыкин заверял в ненависти народа к немцам и непременном захвате Берлина. Кроме того, Горемыкин отвергал украинскую проблему: социалистические брошюры венского общества «Освобождение Украины» постоянно изымаются у еврейских распространителей и не имеют влияния. С присущей Палеологу манерой произвола и самодурства он вкладывал Горемыкину такие мысли: «малороссы очень своеобразный индивидуальный характер. Их идеям, их литературе, их песням присущ явно выраженный местный колорит. Но это проявляется только в интеллектуальной сфере. С национальной точки зрения, украинцы такие же русские, как чистые москвичи. И с экономической точки зрения Украина крепко привязана по необходимости к России».
И.Л. Горемыкин должен был понимать, что национальное единство определяется интеллектуально, и основной единства была Династическая идентичность, монархический принцип. Последовавшее разрушение революцией экономики Империи Украина оказалась демократически отсоединена от России и попала в СССР как отделённая от России республика. Но при сохранении монархической Империи Горемыкин, разумеется, верно указывал на отсутствие угроз такого отделения малороссов.
В марте 1915 г. Н.А. Маклаков жаловался Горемыкину, что города и городские предприятия оказались поставлены на второй план при обеспечении топливом после предприятий, работающих на войну.
Кассо написал Родзянке 26 марта, что увольнение евреев, принятых в университет по ложным свидетельствам о принятии крещения, совершенно обоснованно.
7 апреля Император пожелал составить проект Земского положения для губерний Царства Польского, о чём на другой день стало известно Горемыкину.
В Ставке 8 апреля Кривошеин общался с Великим Князем Николаем Николаевичам по далёким от задач текущей политики вопросам вознаграждения солдат и офицеров после окончания войны.
12 апреля Н.А. Маклаков, добиваясь воздействия И.Л. Горемыкина на Рухлова относительно помощи Петрограду топливом, обращался за поддержкой своего ходатайства к И.И. Толстому, чтобы тот съездил к Горемыкину.
6 мая 1915 г. в Ставке Государь дал рескрипт: «Иван Логгинович! Свыше полувековое служение ваше Государству, исполненное горячей преданностью Престолу, всегда было проникнуто стремлением к истинным пользам Отечества. После ряда лет, посвящённых вами обширным и сложным занятиям на должностях министра внутренних дел и председателя совета министров, Я незадолго до нынешней Великой войны вверил вам вновь председательствование в означенном совете. Первостепенного значения задачи, выдвинутые чрезвычайными обстоятельствами переживаемого времени, вызывают необходимость исключительных по напряжению и объёму трудов правительства. Руководя этими важными и ответственными трудами, вы вносите в исполнение обязанностей, Мною на вас возложенных, всю присущую вам опытностью и благоразумную осмотрительность вместе с непоколебимой верою и торжество справедливости и добра, на защиту коих выступила Россия. Желая явить свидетельство моего искреннего уважения к вашим выдающимся заслугам, Я пожаловал вас кавалером ордена св. Апостола Андрея Первозванного, знаки коего при сём препровождаются. Пребываю к вам навсегда неизменно благосклонный, благодарный и глубоко уважающий вас Николай».
11 мая Царица впервые написала про П.Л. Барка, что он виделся с Г.Е. Распутиным, «и они хорошо поговорили в течение двух часов».
Ф.Ф. Юсупов-ст., согласно его воспоминаниям, имел разговор с И.Л. Горемыкиным, в котором угрожал арестовать и выслать Г.Е. Распутина из Москвы в Тобольскую губернию [Е. Красных «Князь Феликс Юсупов: «За всё благодарю…». Биография» М.: Индрик, 2012, с.295].
По воспоминаниям П.Л. Барка, в середине мая у Сазонова собрались Кривошеин, Харитонов, Рухлов, Игнатьев, Григорович, Шаховской и Барк. Все они согласились с Сазоновым в необходимости созыва Г. Совета и Г. Думы и с тем, что работать с Думой будет невозможно, пока в Совете Министров остаются Щегловитов, Маклаков, Сухомлинов и Саблер, которым Дума не доверяет. Собравшиеся решили просить Императора через Горемыкина заменить их. Горемыкин согласился с группой Сазонова и доложил Императору о предложенном. Государь дал согласие Горемыкину.
Тут можно задаться вопросом, нужную ли сторону взял Горемыкин? Предполагал ли он, что та же группа Сазонова будет лезть из кожи, чтобы избавиться от самого Горемыкина, чего едва ли можно было ожидать от тех, чьему уходу Горемыкин не воспротивился.
21 мая под председательством Горемыкина прошло заседание комиссии по вопросу о будущем устройстве Царства Польского.
26 мая 1915 г. В.А. Сухомлинов писал Горемыкину, что Особое совещание по обороне должно занять исключительное, неподведомственное положение с чрезвычайными полномочиями, его распоряжения должны стать обязательны для всех, кроме Верховного Главнокомандующего. 28 мая Сухомлинов ещё раз написал об этом с дополнительными соображениями [«Исторический журнал», 1944, №10-11, с.41].
Совет Министров сохранил за совещанием значение высшего государственного установления, подчиняющегося только Императору. Председатель совещания, Сухомлинов, получил все полномочия, а остальные – право совещательного голоса.
У А.Н. Яхонтова сохранились его заметки о том что вечером 28 мая к И.Л. Горемыкину пришли Кривошеин, Барк, Харитонов, Рухлов, Сазонов и предложили либо уволить их, или сместить Сухомлинова, Маклакова, Щегловитова и Саблера. 30 мая Горемыкин передал это желание министров Императору Николаю II, который считал такие перемены несвоевременными, но дал согласие на замену Н.А. Маклакова.
Намеченные перемены в составе правительства, сделанные в угоду Г. Думе во имя национального единения, не приведут ни к каким положительным сдвигам в настроениях оппозиционных партий. А.Н. Яхонтов совершенно справедливо обвиняет всех, кто не поддерживал И.Л. Горемыкина и принятие Императором Николаем II ВГК: «если бы мудрый призыв председателя совета министров был своевременно услышан и душевно воспринят, – если бы, вместо усугубления народного возбуждения, все правительственные, общественные, деловые, финансовые, промышленные, учёные, технические и другие деятели встали дружною стеною вокруг Царя-полководца, — разве не создалась бы могучая, непоборимая сила, о которую разбились бы и зарвавшиеся враги и подпольные сеятели смуты, злобно разжигавшие внутренние раздоры и последовательно подготовлявшие крушение Национальной России?..» [«Возрождение», 1936, 19 сентября, с.8].
Поскольку И.Л. Горемыкин не получил необходимой для всеобщего благополучия общественно-политической поддержки, Государь Император продемонстрировал что способен поступиться своими предпочтениями в личном составе правительства. Враги Царя не понимали его логики действий и видели не положительный пример, которому нужно соответствовать со своей стороны, например, в отношении к И.Л. Горемыкину. В правительственных переменах ошибочно усмотрели лишь односторонние уступки и собрались добиваться их как можно больше. В глазах же Николая II не существовало этой теории уступок обществу, которой ослеплены либеральные мемуаристы и историки. Как настоящий политик, Царь ставил цели, достижение которых соответствовало бы благу России.
За 2 июня 1915 г. запись Палеолога содержит новые образцы чёрного юмора. Он передаёт слова Горемыкина кому-то из своих друзей о просьбе дать ему отставку: «Государь не видит, что уже свечи зажжены вокруг моего гроба и только меня ожидают для отпевания». Это позволяет полагать, что 30 мая ввиду такого настроения министров и Г. Думы И.Л. Горемыкин первым предлагал Царю пожертвовать своей фигурой. Как хорошо понятно, нисколько не потому, будто Горемыкин придерживался нелепой теории уступок. А поскольку в интересах успешного ведения войны следовало либо добиться пресловутого общественного единения, либо на деле доказать, что никакими переменами в личном составе правительства его добиться невозможно. Именно такой путь придётся пройти в 1916 г. от назначения Б.В. Штюрмера до А.Д. Протопопова. Точно понимаемые Николаем II и И.Л. Горемыкиным цели будут при этом достигнуты.
Советский академик иначе воображал его, забавляющимся: «они там, в Думе, все говорят, чтобы я ушел, а я не уйду. Зачем уходить, когда мне и тут хорошо?» — смеётся Горемыкин» [Е.В. Тарле «Сочинения» М.: АН СССР, 1961, Т.11, с.687].
Телеграфное агентство 2 июня сообщало о посещении (вероятно, днём ранее) дома И.Л. Горемыкина и его супруги Великими Княжнами Ольгой, Татьяной и Анастасией. Горемыкин провёл их к жене, которой нездоровилось, и в придомовой лазарет.
Состоялись переговоры Горемыкина с Родзянко о созыве Г. Думы. Горемыкин пообещал грядущие отставки министров, которых следует подождать перед созывом. 4 июня Родзянко доложил депутатам мнение Горемыкина, однако даже такие представители правых фракций как Н.Е. Марков и те желали скорейшего созыва. 11 июня Родзянко возобновил переговоры с Горемыкиным о Г. Думе. Горемыкин давал согласие при условии «спокойной» сессии [Ф.А. Гайда «Либеральная оппозиция на путях к власти» М.: РОССПЭН, 2003, с.82, 94].
7 июня И.Л. Горемыкин скрепил Положение об Особом Совещании по обеспечению действующей армии.
Историк А.Е. Пресняков в письме жене 7 июня передавал сплетню, будто И.Л. Горемыкин предложил Николаю II свою отставку, если Государь не уволит Н.А. Маклакова. Ничего такого, конечно, на самом деле не было. Коллекцию ошибочных представлений пополняет и письмо Г.А. Алексеева от 8 июня, будто отставка Н. Маклакова представляла полную неожиданность для И.Л. Горемыкина.
И.И. Толстой 9 июня записал распространяемый анекдот, что Н.А. Маклаков приехал к Горемыкину сообщить о своей отставке. «Горемыкин всплеснул руками и сказал: «Что Вы, Н.А., ох как жаль!». Тогда Маклаков ему передал слова Царя, что именно Горемыкин делал представление о замене его Щербатовым. Горемыкин: «Да, да, конечно, но я передал только мнение Совета министров, которого я его величеству скрывать не мог». Анекдот очень напоминает рассказанный М.А. Таубе случай про назначение П.Н. Игнатьева, что позволяет предположить, что история про Маклакова и анекдот Таубе относятся к развлекательному фольклору, выдумщики могли под один шаблон вставлять разные фамилии. В любом случае сторонником назначения Щербатова Горемыкин не являлся. Как доказывает свидетельство А.Н. Яхонтова, Горемыкин действительно лишь передал мнение других министров Царю, т.е. сказал Маклакову полную правду. Неосведомлённые болтуны напрасно подозревали здесь какое-либо лукавое несоответствие.
На допросе ЧСК И.Л. Горемыкин, находясь среди революционеров, ненавидевших Н.А. Маклакова, не пытался добиться их симпатий и прямо отрицал, что как-либо добивался устранения Н. Маклакова. «Я никакого неудовольствия против него не имел. Почему он ушёл, я совершенно решительно не знаю».
12 июня в Ставке Великий Князь Николай Николаевич при обсуждении вопросов о смене министров, сессии Г. Думы и призыве ратников 2-го разряда сказал Царю, что получил от Горемыкина письмо о серьёзности положения.
Состоявшаяся перемена с назначением военным министром А.А. Поливанова прошла без всякого участия Кривошеина. Государыне Николай II писал о продолжительной беседе с Кривошеиным: «он меньше нервничал, и потому был более рассудителен». Вопреки настойчивым легендам, характеристика Царя и тут не даёт и тени оснований считать Кривошеина в какой бы то ни было период времени исполняющим обязанности неформального главы правительства. Слухи об этой его роли создавали, в свою очередь, другие ложные предположения о скором занятии Кривошеиным места премьера. Не видя к тому оснований, Царица на другой день надеялась, что именно И.Л. Горемыкин сумеет «нравственно» повлиять на Поливанова и тем обеспечить слаженную работу правительства.
Присутствие Николая II в Совете Министров, по наблюдению Горемыкина, делало их работу гораздо производительнее.
14 июня 1915 г. в пору заседаний Совета Министров в Ставке с о. Г. Шавельским пожелал поговорить И.Л. Горемыкин насчёт обер-прокурора Саблера. Шавельский попросил Горемыкина избавиться от Саблера. В данном случае мемуарист явно завышает собственную роль в этом вопросе, как и В.Н. Орлова: «вечером же стало известно, что, после беседы Государя с великим князем и Горемыкиным, увольнение Саблера в принципе решено и намечен преемник — А. Д. Самарин, кандидатура которого была выдвинута великим князем и кн. Орловым» [Г. Шавельский «Воспоминания» Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1954, Т.1, с.288].
Насколько недостоверны сочинения Шавельского видно не только из его ахинеи о Распутине и опутавшем Царя «мракобесии», но и из того, будто И.Л. Горемыкин выступил против принятия Царём ВГК, и Николай II угрожал назначить на его место И.Г. Щегловитова. Это всё до дурости неверно, как и характеристики Саблера, в изображении Шавельского вредившего Церкви. Положительное использование этого мемуариста характеризует многих историков с худшей стороны.
А.Н. Яхонтов характеризует В.К. Саблера принципиальным и неуступчивым сторонником Православия, Самодержавия и Национализма. «Манера говорить у него была весьма своеобразная: заметно было отражение окружавшей его среды духовенства, выражавшееся в склонности прибегать к витиеватым сравнениям и к библейским текстам. Однажды, он отозвался о Председателе Государственной Думы М.В. Родзянке следующим образом: «Сей муж соткан неправдою и дышет ложью»». Сменивший его А.Д. Самарин редко посещал Совет Министров и был скован боязнью пойти против т.н. общественного мнения [«Возрождение» (Париж), 1936, 12 декабря, с.8].
Согласно письму Николая II, имя Самарина ему назвали не Великий Князь и Орлов, а Горемыкин, Кривошеин и Щербатов, а до того Самарин рекомендовался П.А. Столыпиным. Государь запоминал многие советы, которые принимались им во внимание спустя несколько лет, не скоропалительно, а когда находились дополнительные доводы к ним. «Я разрешил Горемыкину послать за ним и предложить ему это место. Я уверен, что тебе это не понравится», – признавался Государь Царице Александре. Действительно, поскольку Самарин был подвержен лживым легендам о Г.Е. Распутине, его назначение создавало ряд неудобств. 16 июня Царица писала: «я уважаю и люблю старого Горемыкина, я знала бы, как с ним говорить, если бы только могла его видеть. Он так близок с нашим Другом, а не понимает, что Самарин твой враг, раз он интригует против Григория».
В 1906 г. Самарин и Щербатов, будущие министры, числились в правом московском кружке вместе с Пасхаловым, Хомяковым, Шечковым. Произошедшие с ними перемены Горемыкин отлично видел, и новые министерские назначения были сделаны исключительно для прекращения со стороны Г. Думы, партий и прессы персональной критики крайне правых министров Сухомлинова, Саблера, Маклакова. Все они могли бы благополучно продолжать оставаться на своих местах и далее, до критической черты в 10 лет управления министерством, которую при Николае II никто не переходил. Их смена не может считаться объективно назревшей. Личным пристрастиям Государя и Горемыкина новые министры не отвечали, они отбирались по иному принципу ради провозглашаемого общественного единения, точнее, задабривания наиболее крикливой оппозиции.
По этой причине именно 14 июня в Ставке Государь написал рескрипт Горемыкину с указанием созвать Думу «не позднее августа». Основным пунктом рескрипта также было отрицание возможности заключения сепаратного мира. Рескрипт сбивал высоту самых опасных волн лжи, угрожающих затопить Петроград.
Разобиженный Сухомлинов в эмиграции будет, сводя личные счёты, преувеличенно заострять критику Ставки и, как многие другие отставленные министры, заменять реальные причины своего увольнения “слабоволием” Николая II, мифическим «увлечением Царя и Царицы всякими шарлатанами, Папюсами, Филиппами… до Распутина включительно». Сравнительно с эгоцентрично-несправедливым мемуарным легкомыслием Сухомлинова, Император Николай II нисколько не менял своего положительного отношения к министру, о чём свидетельствует и «благословение Государя, которое послано было мне из Сибири» [В.А. Сухомлинов «Великий Князь Николай Николаевич младший» Берлин, 1925, с.53-58].
Е.Н. Шелькинг среди причин, почему И.Л. Горемыкин не стал их отстаивать, упоминал, будто Сухомлинов, Маклаков и Щегловитов не считались с ним и шли в разрез «с предначертаниями» И.Л. Горемыкина, несмотря на то что тот пользовался «особенным доверием монарха». Недостаточная слаженность с их стороны действительно может объяснить, почему между ними не образовалось прочного союза. Следовательно, Горемыкин мог рассчитывать на формирование более сплочённого правительства, хотя надежды на лучшее и не оправдаются. Мемуарист, настроенный против Царя, подстраивающийся под настроения иностранных либералов, Шелькинг считает что «Горемыкин дольше чем любой другой министр, более года пользовался доверием Императора». Сухомлинов и другие уволенные министры будто бы «раздражали» Горемыкина, но ему долго не удавалось заменить их [Eugene de Schelking «Recollections of a Russian Diplomat» New York, 1918, p.109].
Далёкий от бюрократии черносотенец А.И. Соболевский в письме от 16 июня выражал недовольство замене министров, воспринимаемой либералами в качестве уступки: «у нас опять начинается весна под руководством Горемыкина. Как он руководит, видно из деятельности графа Игнатьева» [«Нестор», 2004, №4, с.123].
18 июня, сразу по возвращении из Ставки, в Царском Селе «милый старый Горемыкин просидел со мной целый час, и мы затронули много вопросов. Да продлит Господь его жизнь!», – радовалась Царица. Горемыкин рассказал, что Николай Николаевич раньше не хотел назначать Поливанова даже в Варшаву, но теперь сам предлагает его в министры.
Сам Поливанов на допросе вспоминал, что И.Л. Горемыкин в 1914 г. предлагал назначить его варшавским генерал-губернатором, но не получил согласия. Поливанов несколько удивлялся, что Горемыкин не стал защищать Саблера и Щегловитова, объясняя это временным расположением в пользу “общественности”. Точнее это лучше называть попыткой добиться ответного расположения.
От Горемыкина Царица узнала о намерении Государя перед созванием Г. Думы сменить ещё одного крайне правого министра, И.Г. Щегловитова. На его месте Горемыкин хотел видеть своего старого сотрудника А.А. Хвостова. По словам Царицы Александры, «Горемыкин видит и понимает всё так ясно, что прямо удовольствие с ним говорить. Мы обсуждали немецкий и еврейский вопрос, как неправильно всё велось» распоряжениями Ставки. Горемыкина она нашла «очень верующим», но не знающим дел Синода (этой сферой Иван Логгинович действительно не занимался и влияний не оказывал).
Упрашивая исключительно доброго, вежливого и деликатного Государя более явно проявлять недовольство министрами, когда они того заслуживают, поддаваясь враждебным думским влияниям, Царица теперь усиливала мольбу авторитетом Горемыкина: «тоже находит, что ты должен быть более уверенным в себе, говорить более энергично и строго, когда ты недоволен». Самоуверенностью, грозящей перейти в самодурство, Николай II точно не отличался, заботясь о полноте соблюдений принципов самодержавного правления, тщательности отграничений от деспотизма. Потому и менять мягкие манеры обращения с подчинёнными Император не собирался.
20 июня Родзянко передавал представителям думских фракций: Горемыкин считает, что до начала августа не удастся созвать Думу.
Император Николай II 23 июня 1915 г. отправил телеграмму И.Л. Горемыкину с благодарностью за выраженную поляками преданность. Это был ответ на сообщение Горемыкина Царю о единстве поляков «с Великою Россиею» в противостоянии «натиску общего врага». И.Л. Горемыкин упоминал при этом веру в победу и общее будущее славянских народов «под державным скипетром своего Монарха».
Телеграмма И.Л. Горемыкина передавала настроение поляков в учреждённой Царём комиссии из 6 русских и 6 польских членов Г. Совета и Г. Думы для решения вопроса об участи Польши после объявления В.К. Николая Николаевича. Председателем комиссии был Горемыкин, но пока он оставался главой правительства, работу возглавлял заместитель председателя С.Е. Крыжановский. С 1916 г. Горемыкин смог принимать фактическое участие в работе комиссии [С.Е. Крыжановский «Воспоминания» СПб.: РНБ, 2009, с.123].
Совещание начало работать 22 июня 1915 г. в здании Г. Совета. И.Л. Горемыкин при открытии изложил программу работ. От русских в совещании участвовали А.А. Хвостов, А.Д. Самарин, П.Н. Балашов, Н.П. Шубинский, Д.Н. Святополк-Мирский и Д.И. Багалей. Ввиду важности совещания, оно проходило в закрытом порядке, не давая прессе никаких материалов.
24 июня Горемыкин принял депутацию от фракций, переговоры с ним вёл Милюков. Они хотели немедленно созыва и ничего не добились. 25 июня Горемыкин сообщил Родзянке, что открытие заседаний Г. Совета и Г. Думы состоится 19 июля.
Монархист Тиханович-Савицкий 30 июня телеграммой просил И.Л. Горемыкина запретить газетам «поносить монархистов», называя их мракобесами и бывшими людьми, иначе скоро «всё правое», от Церкви до Монархии, будет в обществе «окончательно опороченным». Таким злым делом в действительности занималась безнравственная пресса, разрушая устои Российской Империи. Но Николай II хорошо понимал недостаточную действенность одних лишь запретов.
2 июля 1915 г. Горемыкин вместе со всеми министрами присутствовал на рауте в честь главы МВД князя Щербатова. Царица хотела, чтобы Горемыкин поговорил с Щербатовым и Самариным об отношении к Г.Е. Распутину и ложных сплетнях о нём.
Согласно С.П. Белецкому, вскоре после назначения Щербатова новый министр счёл безотлагательно важным, в разгар войны, доложить главе Императорскому правительства, И.Л. Горемыкину, что крестьянин Г.Е. Распутин пел и танцевал на пароходе и будучи нетрезвым, повздорил с лакеем [«Падение царского режима» Л.: Госиздат, 1926, Т.IV, с.177-178].
Нелепое поведение Н.Б. Щербатова указывало на его идеологическую неустойчивость и интеллектуальную неадекватность перед натиском пропагандистских спекуляций, игнорируемых И.Л. Горемыкиным по причине их полной ничтожности.
По воспоминаниям председателя московского комитета по делам печати А.А. Сидорова, при Щербатове газетам вновь дозволили писать о Распутине. «И.Л. Горемыкин не разделял взглядов кн. Щербатова и ген. Поливанова: по его настоянию возобновилось наложение административных штрафов на газеты». Горемыкин добивался снятия подчинения цензуры военным [«Голос минувшего», 1918, №1-3, с.106].
А.Н. Яхонтов считал, что именно Поливанов “окрутил” Кривошеина и привлёк его на свою сторону против Горемыкина. Поливанов повёл «ожесточённую кампанию против И.Л. Горемыкина». «Особенно отрицательное впечатление производила враждебная ирония, сквозившая в отзывах А.А. Поливанова, как только беседа касалась лично Государя Императора. Это решительно противоречило традициям совета». Поливанов находился в плену либеральных мифов, говоря, будто «сейчас Россией управляют старец Распутин, да князь Андроников» [«Возрождение», 1936, 3 октября, с.8].
От начала войны способная внести ясность переписка между И.Л. Горемыкиным и М.М. Андрониковым не сохранилась за целый год. Однако миф об управлении Россией уничтожается беспомощной жалобой насчёт нежелания Щербатова принять его с поздравлениями к назначению. Выступив против Сухомлинова, Андроников заслужил репутацию предателя своих друзей. Особенно возмущало Андроникова, «будто бы князь Щербатов чрезвычайно недоброжелательно отзывался обо мне пред Государем» [РГИА Ф.1617 Оп.1 Д.65 Л.21-22].
М. Андроников 10 июля писал: «Горемыкин сильнее сильного и никуда не уходит», что опровергает ложные попытки объяснить смену министров падением значения Горемыкина. Одновременно это безусловно подтверждаемое всеми данными сообщение низвергает того же рода легенду о каком-либо фактическом премьерстве Кривошеина, признаки которого начисто отсутствуют [С.В. Куликов «Бюрократическая элита Российской империи» Рязань, 2004, с.54].
19 июля 1915 г. при возобновлении сессии Г. Думы И.Л. Горемыкин прочитал обращение: «Гг. члены Государственной Думы. Государь Император Всемилостивейше соизволил повелеть мне обратиться к вас от Высочайшего Его Императорского Величества Имени с приветствием и пожеланием полного успеха в предстоящей вам ответственной и важной законодательной работе на благо всеми нами беззаветно любимой России» (депутаты встали и заиграл царский гимн).
Горемыкин продолжил: «День возобновления ваших занятий совпадает с годовщиной объявления нам войны. При перерыве занятий Государственной думы в начале годы – до ноября, Правительство предвидело, что по ходу событий созыв законодательных учреждений может оказаться необходимым и ранее этого срока. Время для него теперь настало. Испытания, посланные нам войной, побудили оторвать вас от вашей службы в войсках, от работы в Красном Кресте, общественной деятельности на местах, наконец, от ваших частных дел и хозяйств.
Взглянем правде прямо в глаза и открыто признаем, что война грозит быть долгой и требует всё новых и новых усилий и жертв. Решив без всякого колебания идти на них, Правительство считает, однако, своим долгом и испытывает нравственную потребность окончательно избрать этот путь не иначе, как в полном единомыслии с законодательными учреждениями. Эта потребность, помимо всех других оснований, объясняет призыв ваш теперь же, чтобы осведомить вас об истинном положении дела и вместе с вами выяснить все способы к скорейшему одолению врага.
Со времён Отечественной войны Россия не переживала таких дней. «Лютая, кровавая, разорительная война… ни огромностью ополчений, ни превратностью обстоятельств не подобная никаким известным доселе в бытописаниях войнам». Эти слова исторического манифеста Императора Александра I как будто всецело относятся к нашему времени.
Тогда – двенадцатый год открыл России, после небывалого потрясения, и новые, небывало широкие пути к жизни и славе. Дальнейший ход настоящей войны и конец её пока ещё скрыты от нас, как и от всего мира. Однако, верные великому прошлому России, мы со спокойною твёрдостью смотрим в будущее. Ведь настоящее положение только минута нашей истории.
Но, кроме твёрдости и спокойствия, ход войны требует от нас огромного, чрезвычайного подъёма духа и сил. Война показала, что мы недостаточно подготовились к ней, по сравнению с нашим врагом. Накопив, под вероломной личиной дружбы и мира, безмерные запасы военного снаряжения, он бросился на нас в наиболее для себя удобное время во всеоружии военной техники. Союзные нам могущественные, но, как и мы, миролюбивые державы, ушедшие гораздо дальше нас в области промышленной техники, и те оказались застигнутыми врасплох в этой чудовищной борьбе. Необходимо всё напряжение народных сил, чтобы отразить и сломить такого врага. То, что мы успели сделать до сих пор, – недостаточно. Нужны новые усилия, усилия всего народа, и Царским словом вся страна призвана теперь к напряжённой всенародной работе. На ваше рассмотрение Правительство вносит с своей стороны только законопроекты, вызванные потребностями войны. Остальные законодательные предположения, крупные и мелкие, имеющие задачею улучшение мирных условий русской жизни, временно оставлены в стороне.
Первый из внесённых законопроектов касается призыва ратников ополчения второго разряда, – мера, принятая всеми воюющими странами и при данных чрезвычайных обстоятельствах только естественная. Если мы до сих пор к ней ещё не прибегали, то это лишний показатель того, настолько ещё велики запасы наших живых сил. Второй законопроект, также вызванный войной и стремлением подкрепить нас для долгой войны, говорит о расширении эмиссионного права Государственного банка. Наконец, третий законопроект имеет задачей объединить в одном учреждении и существенно расширить участие представителей законодательных собраний, общественных учреждений и русской промышленности в деле снабжения армии боевыми припасами, обеспечения промышленности топливом и согласования мер по продовольствию армию и страны. Опыт такого привлечения общественных сил к делу обороны сделан и доказал свою жизненность и пригодность. Это побуждает правительство шире и крепче сплотить внутренние силы страны в работе над обеспечением боевого снабжения нашей армии и устроением нашего тыла. В настоящее время, господа, нет более плодотворной задачи: мы все должны стать достойными нашей великой геройской армии
В этой области, составляющей теперь самую сердцевину государственной работы, вам обеспечена впредь широкая деятельность. И до сих пор многие из вас отдавали силы свои служению армии, но как отдельные лица. Отныне члены законодательных учреждений по избранию и уполномочию Государственного Совета и Государственной Думы призываются к постоянной непосредственной работе над усилением обороны, снабжением армии, поддержкою промышленности, борьбою с дороговизною жизни, т.е. к делу, составляющему величайшую и на время войны в сущности единственную задачу власти
Те общие данные, в свете которых вам предстоит работать в эту сессию, а именно, данные о том, как складывается теперь международная обстановка великой войны и каково наше военное и финансовое положение, будут сообщены вам надлежащими министрами.
Для программных речей по общей политике теперь, по нашему убеждению, не время. Работа по улучшению мирных условий русской жизни – впереди и она будет совершена при вашем непосредственном участии. Я считаю своим долгом сегодня же коснуться только одного вопроса, стоящего как бы на грани между войной и нашими внутренними делами: это вопрос польский. Конечно, и он во всей своей полноте может быть разрешён только после окончания войны. Теперь Польша ждёт прежде всего освобождения её земель от тяжкого немецкого гнёта. Но и в эти дни польскому народу важно знать и верить, что будущее его устройство окончательно и бесповоротно предопределено воззванием Верховного Главнокомандующего, объявленным, с Высочайшего соизволения, в первые же дни войны. Рыцарски благородный, братски верный польский народ, стойко переживший в эту войны бесчисленные испытания, вызывает к себе в наших сердцах глубочайшее сочувствие и ничем не омрачённую дань уважения. Ныне Государь Император Высочайше соизволил уполномочить меня объявить вам, господа члены Государственной Думы, что Его Величеством повелено Совету Министров разработать законопроекты о предоставлении Польше, по завершении войны, права свободного строения своей национальной, культурной и хозяйственной жизни на началах автономии, под державным скипетром Государей Российских и при сохранении единой государственности.
Но в многоплеменном составе великой Империи не одни поляки проявили в этот год войны и общих испытаний верность России. И в ответ на это внутренняя политика наша должна быть проникнута началом беспристрастного и благожелательного внимания к интересам всех верных России граждан без различия племени, языка и веры.
Соединимся же в одной общей работе, к которой в эти дни военной грозы нас призывает наш Державный Вождь.
Будем все думать об одном: об изгнании неприятеля из наших пределов и поражении его во славу Государя и Родины. А что победа рано или поздно будете наша – в это Правительство верит непоколебимо и эту веру разделяете вы, её разделяют все за стенами Таврическаго дворца на всём пространстве необъятной России.
Начало военных действий ознаменовалось здесь, в этих стенах, общим подъёмом и небывалым единодушием. Наставшие теперь дни должны, по убеждению Правительства, ещё теснее и глубже нас всех сблизить. Да не будет в России на всё время военных действий никаких партий, кроме одной – “партии войны до конца”, никаких программ, кроме одной – победить.
От вас, гг. члены Государственной Думы, история ждёт ответного голоса Земли Русской» [«Известия Главного Управления Землеустройства и Земледелия», 1915, 26 июля, с.745-747].
Как и все предыдущие патриотические обращения Императора Николая II и И.Л. Горемыкина к депутатам и партиям, этот призыв к положительной продуктивной работе не был принят за руководство к действию. Вся вина за это всецело падает на врагов России.
Призыв Горемыкина отказаться от партийности поддержал Н.Е. Марков, а Милюков атаковал: «мы не слышали определённой политической программы», в Совете Министров «лица изменились, но не изменилась их партийная окраска». Критика Милюкова явно нарочно была направлена против смысла выступления Горемыкина.
19 июля И.Л. Горемыкина посетил граф С.И. Велепольский, с которым прошла беседа о работе Русско-польского совещания. Поляки торопили и хотели рассмотрения польского вопроса в открывшейся сессии Г. Совета и Г. Думы. Горемыкин обещал рассмотреть в правительстве ходатайство поляков об исполнении объявленного Великим Князем Николаем Николаевичем.
22 июля 1915 г. к И.Л. Горемыкину обратился председатель Особого Совещания по обеспечению Армии с просьбой допустить китайских рабочих до работ к Криворожском и Донецком угольных бассейнах. 30 июля Совет Министров решил отменить паспортные ограничения для рабочих. Так вынуждены были решать проблему нехватки рабочих рук после мобилизации [«Вестник архивиста», 2016, №2, с.123-124].
И.Л. Горемыкин явно не имел причин исполнять просьбу Андроникова от 22 июля вступаться за него перед Щербатовым. Во всяком случае, Горемыкин не стал передавать письмо Андроникова В.К. Николаю Николаевичу, а отдал его князю Орлову.
25 июля 1915 г. Н. Кудашев передавал Сазонову мнение Янушкевича, находившего весьма своевременными обещания Горемыкина Польше: они давали основания для выбора стороны России. В противном случае, считал Кудашев, эти обещания потеряют силу.
По избранию во главе ЦВПК Гучков написал письмо И.Л. Горемыкину с проектом положения о ВПК. Горемыкин назначил его рассмотрение на заседании Совета Министров 4 августа 1915 г. на Елагином острове в присутствии Гучкова. Такое содействие Гучкову Шаховской объясняет сильным нажимом Кривошеина.
Сильно недоволен примирительными тонами оказался Б.В. Никольский. Когда-то крайне не одобрявший деятельность Горемыкина в МВД, теперь считал его главной опорой в борьбе с более левыми министрами, такими как Кривошеин, которого автор дневника звал гнидой. Никольский 23 июля недоумевал, на что надеется Горемыкин: «или это старческий маразм?». «Царь терпеть не может Гучкова, Родзянку, — ему их навязывают». Горемыкин и без того долго оттягивал новую сессию Г. Думы с Родзянко, а Гучкова в ЦВПК и в Г. Совет по выборам Горемыкин не навязывал – это не по назначению. Демонстрация готовности работать с Г. Думы со стороны Горемыкина была необходима во избежание ложных обвинений правительства в разжигании конфликтов. Как и Николай II, Горемыкин старался привлекать людей на свою сторону, делать их сотрудниками правительства, но никогда не ценой отказа от своих взглядов или полномочий.
Родзянко подтверждает, что Николай II терпеть его не мог и справедливо считал революционером.
В начале августа в печати появлялись слухи о пожаловании И.Л. Горемыкину графского титула.
В письме от 9 августа умеренно-правый деятель Г. Совета В.Н. Снежков попросил Горемыкина устранить ввиду обстоятельств военного времени возбуждение партийной розни, неизбежное при довыборе новых депутатов взамен выбывших [А.А. Иванов «Правые в русском парламенте от кризиса к краху (1914-1917)» СПб.: Альянс-Архео, 2013, с.163].
Кн. З.Н. Юсупова 9 августа писала сыну Феликсу, что его отец виделся с И.Л. Горемыкиным относительно расследований обстоятельств московского погрома, которое не найдёт вины Юсупова-ст.
15 августа 1915 г. И.Л. Горемыкин пригласил к себе В.В. Шульгина, П.Н. Крупенского, В.Н. Львова, Д.П. Капниста, С.И. Шидловского и предложил им образовать большинство для поддержки правительства. Ему отвечали, что переговоры о создании блока продолжаются, но их в любом случае не устраивает состав правительства.
По приглашению жены Горемыкина Юлия Кантакузина посещала её дом на Васильевском острове. Она встретила много машин министров, собравшихся по случаю увольнения Великого Князя из Ставки. Это было днём в воскресенье якобы за день до объявления о решении Царя, и жена Горемыкина говорила: «моему мужу пришлось внезапно созвать это собрание. Он очень встревожен мрачными новостями». Княгиня подумала про неудачи на фронте, но услышала: «нет, это намного, намного хуже и ещё более трагично, я не могу разгласить тайну, но, возможно, они надеются, что им удастся предотвратить это».
Горемыкина она называет «достойным и преданным», он «стоял за сильную власть», «обладал достаточным влиянием», чтобы предотвратить свою замену Кривошеиным. Воспоминания княгини Ю.Ф. Кантакузиной «Революционные дни» вышли в 1919 г. в США, чаще всего содержат недостоверные сплетни, но могут включать и ценные детали. Следует обратить внимание на предпринятые ею превентивные переговоры с В.Н. Орловым, «на случай, если госпожа Вырубова услышит эту историю от своих шпионов». Это подтверждает сведения, что Танеева заведовала сетью осведомителей, особенно опасной для таких потенциальных участников антимонархического заговора, каким был Орлов.
Недоверие к Великому Князю Николаю Николаевичу доходило до того, что и после его смены, 5 марта 1916 г. министр Двора продолжал беспокоиться, выясняя среди окружавших его военных чинов, насколько обоснованы сведения о «стремлении к короне» [Ф.Ф. Палицын «Записки. Северо-западный фронт и Кавказ (1914-1916)» М.: Изд. им. Сабашниковых, 2014, Т.1, с.227].
У Кривошеина не было никаких шансов занять место Горемыкина. Как объяснял, согласно воспоминаниям Тхоржевского (директора канцелярии Кривошеина), С.Е. Крыжановский: «Иван Логгинович крепко окопался в своей непопулярности». Т.е., Горемыкин настолько последовательно искренне отстаивал интересы Царя, а не его врагов, ни в чём перед ними не заигрывая, что Кривошеин безнадёжно терялся в глазах Государя, не имея ни сопоставимых заслуг, ни опыта, ни иного политического капитала кроме ничего не стоящего доверия Г. Думы, способного исчезнуть в любой момент, если перед ней во всём не капитулировать.
Тхоржевский запомнил слова Государя И.Л. Горемыкину о принятии им Верховного Главнокомандования: «Надо всегда идти навстречу своему жребию, а не прятаться от него».
22 августа Горемыкин передал П.Н. Крупенскому, что его кабинет желает переговоров с блоком. Царица писала 22 августа, вдохновлённая принятием ВГК Его Величеством, что поможет Горемыкину действовать оперативно. Планируемое Царём назначение А.Н. Хвостова в МВД она ставила в зависимость от согласия Горемыкина, хотя воля Николая II, как всегда, оставалась решающей.
Оказалось, что Горемыкин, недовольный поведением остальных министров, считает, что Щербатова, который, сравнительно с Маклаковым, не справился с контролем печати, лучше заменить не на Хвостова, т.к. он в Г. Думе «выступал против правительства и германцев» (т.е. выбрал не того внутреннего врага), «находит его слишком легкомысленным и не совсем верным».
Пришлось всё же назначить А.Н. Хвостова, на которого у Царя также имелись рекомендации длительной давности. После неудачи с Щербатовым продолжился подбор комбинации, приемлемой для Г. Думы и в то же время достаточно надёжной для безопасности Империи. Каждая новая кандидатура являлась компромиссной.
24 августа Царица написала, что все партии Г. Думы станут просить об увольнении Горемыкина, и тогда придётся с ним расстаться. Государь отвечал, что ГД и ГС надо будет быстро прикрыть, даже если он останется в Ставке. Сдача Горемыкина исключалась, т.к. его верность обеспечивала контроль даже над менее правым составом правительства.
28 августа Горемыкин навещал Царицу ближе к 20 ч. и его нашли очень милым. 29 августа А.Н. Хвостов был у Горемыкина, который по-прежнему питал неприязнь ко всем депутатам Г. Думы. 30-го числа Государь окончательно договорился с Горемыкиным об окончании работ Г. Думы.
Воронежские монархисты после образования Прогрессивного блока писали Горемыкину: «Гучков и Шингарев под флагом патриотизма хотят погубить Русь Святую» [В.Ю. Рылов «Правое движение в Воронежской губернии 1903-1917» Воронеж: ВГУ, 2002.с.151].
3 сентября 1915 г. на роспуск Г. Думы масон М.М. Ковалевский отреагировал, сформулировав главную задачу: сохранить Прогрессивный блок. Меллер-Закомельский говорил: «нет большей победы для Горемыкина, чем раскол блока».
М.А. Стахович, выборный член Г. Совета, рассказывал И.И. Толстому 3 сентября, что Николай II предоставил решение о роспуске Г. Думе Совету Министров, а Горемыкин сам заполнил даты на манифесте о роспуске и представил правительству дело решённым. За Горемыкина были Шаховской, Хвостов и Самарин.
Как вспоминал А.А. Поливанов, И.Л. Горемыкин в Совете Министров вёл себя очень решительно после отъезда Царя в Ставку, властно отдавал распоряжения, «приказывал» другим министрам, что некоторым из них не нравилось. Поливанов в шутку называл поведение Горемыкина империалистической политикой вместо совещательной.
Довольно строго Горемыкин выражался и в переговорах с Родзянко предупреждая о роспуске Г. Думе: «вы позволяете слишком много болтать». «Вы должны законодательствовать, а мы управлять». Горемыкин постоянно ставил Родзянко на место: «мы не дадим вам управлять». Неуравновешенное маниакальное поведение Родзянко позволяло Горемыкину весьма точно звать его полупомешанным.
Решительность Горемыкина в Г. Совете объясняли его «дальновидностью, политическими тактом и общественным чутьём». Горемыкин «сразу понял» что образование блока «явно пахнет революцией». Сравнительно с И.Л. Горемыкиным, Куломзин растерялся и ничего не сделал для борьбы с блоком [Д.Д. Гримм «Воспоминания. Из жизни Государственного Совета 1907-1917» СПб.: Нестор-История, 2017, с.190, 194].
А.Н. Яхонтов вспоминал, что триада прогрессивного блока, земгора и ЦВПК, «встретив “отпор суровый” со стороны И.Л. Горемыкина и не добившись немедленного перехода к ней всей полноты власти, пошла по наклонной плоскости дальнейшего расшатывания устоев нашего государственного строя» [«Возрождение» (Париж), 1936, 15 августа, с.8].
В сентябре 1915 г. в ответ на желание Земгора донести до Государя революции своих съездов «И.Л. Горемыкин составил весьма жёсткий текст ответной телеграммы, посылка и последующее неминуемое опубликование которой фактически означали бы полный разрыв с либеральной оппозицией. Фредерикс считал это крайне нежелательным и потому сделал все, чтобы «сгладить» отказ» [С.И. Григорьев «Придворная цензура и образ Верховной власти. 1831-1917» СПб.: Алетейя, 2007, с.309].
То как Горемыкин пугнул газетчиков цензурой, понравилось Б.В. Никольскому, который нашёл что это поздновато, но хорошо.
Сравнительно с ничтожной вознёй вокруг Г. Думы, важное значение для России имел хороший урожай 1915 г., сравнительно с тем как в прошлом году в некоторых губерниях был неурожай хлебов, с общим недобором на миллиард пудов и особенно плохо росли кормовые травы, что сказалось на скотоводстве. Запрет на алкоголь позволил хозяйствам накопить новые сбережения, а большие семьи получали в поддержку казённые пайки [«Календарь «Спутник Кооператора» Пг.: Комитет о сельских ссудо-сберегат. И промышл. Тов., 1916, с.71-73].
Как пишет мемуарист о Г. Думе 2-й пол. 1915 г.: «являясь законодательным органом, а не исполнительным, была лишена возможности влиять на улучшение всё более и более ухудшающегося положения в стране» [И.С. Васильчиков «То, что мне вспомнилось» М.: Олма-пресс, 2002, с.103].
Бесполезность и бессмысленность, вред учреждения Г. Думы война показала ещё более явно сравнительно с мирным временем, ложь демократического парламентаризма высветилась. Тем более дискредитирует Г. Думу мнение князя И.С. Васильчикова, члена преступнейшего революционного ВКГД, о логической связи между борьбой депутатов с правительством и взрывом февраля 1917 г.
13 сентября Горемыкин выехал в Ставку. Остальные министры последовали за ним 16 сентября для заседания под председательством Царя, где Николай II выразил недовольство попыткам отговорить его от принятия ВГК. При дальнейшем обсуждении проявился ряд несогласий министров с Государем и И.Л. Горемыкиным, который активно опровергал все их доводы в пользу соглашательства с Г. Думой.
По воспоминаниям Крыжановского, Горемыкин обещал убедить Государя назначить его во главе МВД именно в эти дни в Ставке. В точности Крыжановского в данном вопросе несколько усомниться, т.к. Горемыкин не брал на себя выбор министерских кандидатур и потому не мог быть уверен в успехе, как это записано в воспоминаниях Крыжановского. Князь Андроников в те самые дни в числе кандидатов на место Щербатова со стороны Горемыкина называл крайне правых П.П. Стремоухова, А.Н. Волжина и Д.Н. Любимова – «кандидаты слишком порядочного, но устаревшего, к сожалению, Ивана Логгиновича». Однако это не так.
На допросе ЧСК И.Л. Горемыкин говорил, что он был против назначения А.Н. Хвостова, т.к. его не одобрял А.А. Хвостов. На вопрос о Стремоухове, опровергая Андроникова, Горемыкин отвечал: «я в первый раз слышу эту фамилию». Т.е. не продвигал его на МВД. Причину увольнения Щербатова Горемыкин не назвал: «мне это не известно». Точные письма Царицы сообщают о предоставлении Горемыкиным списка кандидатов, Крыжановский был одним из предложенных, но Царица заранее предупредила Горемыкина, что Николай II не согласится выбрать его. Показания С.П. Белецкого подтверждают желание И.Л. Горемыкина назначить С.Е. Крыжановского.
Что интересно, 17 сентября А.Н. Волжин действительно был назначен Государем, но обер-прокурором Синода. Считалось, что именно Горемыкин выпнул Щербатова из правительства вместе с Самариным:
«След Горемыкинских пантофель [тапок]
Пониже чувствуя спины,
Щербатов свёклу и картофель
Сажать отправился в Терны» [А.А. Ознобишин «Воспоминания» Париж, 1927, с.211].
Есть сведения что Николай II дал поручение Горемыкину позвонить Самарину и сообщить о его отставке [Joseph T. Fuhrmann «Rasputin. The Untold Story» Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013].
17 сентября 1915 г. министры собрались на совещание в Ставку в плохом расположении духа. Один из них в беседе с английским генералом назвал Горемыкина старым лисом, которому надо накрутить хвост. Англичанин выразил своё отношение к грубым замечаниям, очевидно, С.Д. Сазонова, в дневнике: «бедный пожилой джентльмен явно не пользуется особой популярностью» [«Государь на фронте» М.: Русский хронографъ, 2012, с.72].
Согласно распространявшемуся во время войны стихотворению, Царь только и делал, что катался из Царского в Ставку, а «Горемыкин всё щёлкал беззубой десной» [И.В. Алексеева «Мириэль Бьюкенен. Свидетельница великих потрясений» СПб.: Лики России, 1998, с.314].
В.В. Розанов иронизировал над критиками Горемыкина, считающими его старым и немощным, хотя Горемыкин «носком» своей обломовской туфли легко устранил депутатов Г. Думы и неугодных министров [«Воспоминатели мгновений. Переписка и взаимные рецензии Василия Розанова и Петра Перцова 1911-1916» СПб.: Росток, 2015, с.158].
Не переставали использовать и столь глубокомысленные приёмы, как коверкание фамилии. «Говорят, что судьба России находится в руках двух старцев: Распутина и Горемыкина. Пока один будет распутничать, под управлением другого Россия будет мыкать горе». Возникает ощущение, что общество инфантильно воспринимала личности министров и чиновников по звучанию фамилии: для них Столыпин не иначе как по той же причине казался единственным в своём роде столпом государства, без которого всё падало. Однако судя по образцу письма солдата от 30 ноября 1915 г., защитники Отечества желали не демократических программ, а министра «с доброю и любящею душою» [И.И. Серебренников «Претерпев судеб удары. Дневник 1914-1918 гг.» Иркутск: Издатель Сапронов, 2008, с.141, 171].
В этом запросы Императора и лучшей части русской нации совпадали. Доброту души Горемыкина можно было увидеть даже в его склонности к домашнему уюту: «Горемыкина упрекали за то, что он правит Россией в туфлях и халате». Да, это не палаческие кожанки Свердлова и Троцкого. Увы, души Горемыкина не желали ценить и почитать, как это делал Император. Историк Михаил Богословский 10 сентября 1915 г. в дневнике писал: «ну что такое Горемыкин? Председатель без портфеля, вероятно [!], очень формально исполняющий свои обязанности по открытию и закрытию заседаний». Скудная фантазия наблюдается даже у такого, на редкость достойного автора дневника, который хотя и подпал под легенду противопоставления Великого Князя Николая Николаевича и Ивана Горемыкина, тем не менее и в ноябре 1916 г. писал о предпочтении сильной власти Монарха – «господствовать в партиях будут купцы – мародёры и жиды» и негативно воспринял отречение в марте. Через год, 5 ноября 1917 г. так и оказалось: «во главе государства стали жиды и негодяи» [М.М. Богословский «Дневники 1913-1919» М.: Время, 2011, с.76, 268, 374, 454].
По стенограммам заседаний Совета Министров возникает совсем другое понимание: «Горемыкин твёрдо и умно ведёт собрания. Он на своём месте. Грех совета: нервозность и постоянные причитания». И.Л. Горемыкин «учитывал бывшие в ходу силы и страсти, комплекс фигур на доске, и его предвидения не слагались в беспредметный выкрик, а направлялись к предупреждению зла». «Горемыкин одёргивал Совет. Ему была присуща обязательная для каждого руководителя большого дела техническая расчётливость, рекомендующая не осложнять главного осуществимого задания заботами о малоосуществимых и притом побочных заданиях» [Н.Н. Чебышев «Разговоры министров» // «Возрождение», 1926, 25 сентября, с.3].
Царица в связи с приездом в Ставку С.Е. Крыжановского, предостерегала против него И.Л. Горемыкина, опасаясь его назначения в правительство, по-видимому, из-за мнения о недостаточно правых взглядах Крыжановского, которые могли бы ослабить положение Горемыкина. В письме Царице, поддерживающей назначение А.Н. Хвостова в МВД, упоминается что И.Л. Горемыкин эту кандидатуру не одобрял. Государыня в дальнейшем выразит сожаление, что А.Н. Хвостов не оправдал её ожиданий, не проявив должной верности и честности. Расчёт был на его энергичность. Николай II 17 сентября отвечал что из-за нежелания части министров работать с И.Л. Горемыкиным, их придётся уволить. 19 сентября Царь упоминает, что Горемыкин предлагал назначение С.Е. Крыжановского, но не получил поддержки.
Хотя Царица ранее упоминала, что И.Л. Горемыкин не занимается делами Синода, в её письме 19 сентября есть запись: «Старик сказал, что ему [Варнаве] больше не следует появляться в Синоде». В других письмах случается, что стариком именуется не Горемыкин, а Фредерикс. Переданная новость про начатое Самариным гонение на архиепископа Тобольского и Сибирского Варнаву.
20 сентября Царица писала, что А.Н. Хвостов навещал И.Л. Горемыкина. Помимо общеполитических вопросов, по просьбе Государыни А.Н. Хвостов мог коснуться и попытки В.Ф. Джунковского дискредитировать Г.Е. Распутина. С распространителями антираспутинской мифологии приходилось бороться, т.к. они подрывали доверие к Престолу. Сама Царица продолжала регулярно видеться с И.Л. Горемыкиным.
Союз Русского Народа Н.Е. Маркова в октябре предложил своим отделам присылать И.Л. Горемыкину просьбы не уступать прогрессивному блоку [В.С. Дякин «Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны» Л.: Наука, 1967, с.137].
Императрица Александра Фёдоровна 8 октября писала Царю о продовольственных поставках. «Милый» Горемыкин «слишком дряхл. В сущности, он сам должен бы поехать, осмотреть всё и наладить работу». По мнению А.Н. Хвостова, это налаживание должен был производить Рухлов. Сложности возникали из-за приоритета в снабжении фронта и необходимости соблюдать баланс с потребностями Империи.
А.А. Поливанов ни разу не упоминает какие-либо проблемы И.Л. Горемыкина со здоровьем или старостью. На допросах 1917 г. Поливанов вспоминал борьбу с Горемыкиным относительно применения военной цензуры против печати. Он указывает, что Горемыкин «всё более и более усиливался». Т.е. не замечается какой-либо спад его служебной активности [«Падение», Т.VII, с.76].
Иначе выражался на допросах Щербатов, ссылаясь на его утомление: «под председательством Горемыкина было трудно заниматься». Но фактические трудности возникали из-за несогласия Горемыкина с другими министрами при обсуждении злободневных вопросов о Польше, Г. Думе, эвакуации Петрограда. Т.е. из-за принципиальных позиций Горемыкина и того что он продолжал крепко держать в своих руках руль управления, не смущаясь числом не согласных с ним министров, не желая предавать свои убеждения и правильные представления о необходимой защите национальных интересов. Личные выпады Горемыкин игнорировал как неделовые неуместные разговоры, иногда огрызался «или иронически пускал довольно удачные выражения».
20 октября 1915 г. «Биржевые Ведомости» и другие газеты распространили слухи об увольнении Сазонова и назначении И.Л. Горемыкина канцлером. Тхоржевский в воспоминаниях датирует обещания Горемыкину канцлерства и графского титула сентябрём. Намеченным управляющим МИД называли Н.Н. Шебеко, бывшего посла в Вене. Слухи сводились к тому, что Горемыкин намерен заключить сепаратный мир с Германией. А.А. Хвостова газеты называли предполагаемым новым премьером [«The New York Herald», 1915, 1 november, p.1].
В октябре князь Андроников предлагал назначить Горемыкина на место Сазонова с сохранением председательства. Горемыкин «проницательного и тонкого ума», «более других явился бы авторитетным толкователем истинных интересов России» [«Источник», 1999, №1, с.31].
27 октября А.Н. Хвостов написал И.Л. Горемыкину, что в скором времени может наступить нехватка многих предметов первой необходимости для городского населения. Тем не менее, в 1915 г. в 49 губерниях Европейской России и Северного Кавказа избыток зерна над его потреблением составлял 881,5 млн. пудов.
По словам Поливанова, А.Н. Хвостов независимо управлял своим министерством и позволял себе оппонировать И.Л. Горемыкину.
А.Н. Наумов написал в редакцию АРР возражения на воспоминания Белецкого, будто он выбран в министры А.Н. Хвостовым. 28 октября 1915 г. Наумов, будучи в командировке в Самаре, получил телеграмму Горемыкина с просьбой срочно прибыть в Петроград. 1 ноября Горемыкин принял его и сообщил о решении Императора назначить его вместо Кривошеина. Наумов отказывался, но не переубедил Царя. С Хвостовым Наумов встречался один раз в 1908 г. [«Архив русской революции» Берлин, 1924, Т.13, с.313].
Тхоржевский, писавший Кривошеину тексты выступлений и о многом осведомлённый в его ведомстве, сообщает, что Горемыкин предлагал не Наумова, а более правого Ст. Ст. Хрипунова, бывшего управляющего Крестьянским банком. Но следует помнить, что Николай II, как правило, испрашивал 3 кандидатуры на 1 место. Царица предложений И.Л. Горемыкина не поддержала.
Подробнее Наумов возвращается к своему назначению в мемуарах. Задушевный разговор с Горемыкиным 1 ноября 1915 г. шёл не так как изложил А.Н. Хвостов в ЧСК, будто Горемыкин вёл себя грубо и тем вызвана попытка Наумова отказаться от должности. По-видимому, от Хвостова этот же поклёп на Горемыкина был передан Царице Александре, что отразилось в её переписке. Горемыкин, как всегда, был учтив и радушен, он сказал, что Наумова избрал на замену Кривошеина лично Император по опыту их знакомства. Горемыкин за чаем обсудил с Наумовым военное положение и посоветовал в дальнейшем «всегда» принимать во внимание доброту и деликатность Государя и написать ему все свои соображения [А.Н. Наумов «Из уцелевших воспоминаний» Нью-Йорк, 1955, Кн.2, с.339-340].
Хвостов признавался Наумову, что целенаправленно спаивает Г.Е. Распутина, чтобы погубить его репутацию, и даже угрожал убийством друга Государя. О том же, чтобы Горемыкин хоть как-то являлся противником Распутина, Наумов не сообщает, хотя отмечает всех подверженных этой политической мифологии. Горемыкин со своей поговоркой, что всё пустяки, являл самый важный пример уверенной стойкости, когда страна погружалась в панику и сумасбродные слухи.
3 ноября Царица Александра писала что Г.Е. Распутин хочет поговорить с ней «о старике, которого я ещё не видала», т.е. о Горемыкине. Царица опасалась, что на следующем созыве Г.Дума «ошикает» Горемыкина, т.е. произойдёт слишком серьёзный конфликт, который может привести к роспуску Г. Думы, чего Государыня хотела избежать. И.Л. Горемыкин «так сильно тебя любит, что не будет обижен, а я постараюсь сказать ему это как можно мягче». В письме от 6 ноября о состоявшейся встрече Царица пишет, что Г.Е. Распутин «жалеет» и «очень уважает старика». Т.е. Царская Семья, информаторы и советники Государя полностью поддерживали И.Л. Горемыкина и не имели никаких причин убирать его из правительства. Только озлобленное ожесточение Г. Думы требовало этого шага.
Сейчас, если знать всю последовательность событий, может показаться, что попытки умиротворить Г. Думу не имели смысла и разумнее всего было бы сохранить во время войны первоначальный состав правительства, чем подстраиваться под вредительские запросы Г. Думы без положительных последствий перемен министров. Но прийти к такому однозначному выводу можно именно потому, что Император Николай II дал русским монархистам этот бесспорный аргумент. В противном случае противники Царской России утверждали бы, будто Государь, не пойдя ни на один компромисс, вооружил всех против себя. Это гораздо более внушительное политическое обвинение, чем легкомысленные сугубо эмоционального толка спекуляции на “чехарде” перемен в правительстве. Главное понимать, что на реальное положение дел в стране смена ни одного министра не оказала сколько-нибудь заметного существенного воздействия. Обвинения насчёт “чехарды” поэтому очень легко отбить, переадресовав их Г. Думе, которая требовала удаления неугодных ей лиц. Оппозиционных депутатов и следует корить, если есть такое желание.
Логика идеологической борьбы Императора Николая II ясно прослеживается. Только ради прекращения внутренних раздоров Государь сначала заменил наиболее правых министров: Сухомлинова, Маклакова, Саблера, сохраняя правительство в надёжных крепких руках И.Л. Горемыкина. Это был достаточно серьёзный компромисс, который должен был вызвать у левых и центристов соответственный позитивный отклик. Но раз его не последовало, а те же самые Поливанов, Щербатов и Самарин, пришедшие на смену для умиротворения, ещё и не сумели полноценно поддерживать И.Л. Горемыкина, то и дальше держать их в правительстве уже не было смысла. Поэтому следовало снова сдвинуться вправо, на что указывала фигура А.Н. Хвостова. При более правом устойчивом кабинете и взятом Царём на себя ВГК стало возможно заменить уже и самого И.Л. Горемыкина. Царской Семье очень не хотелось с ним расставаться, но в условиях тяжелейшей войны, личные нападки на Горемыкина использовались как средство борьбы с Монархией. Следовало выбить у врагов Царя и этот агитационный довод.
Там же в письме от 6 ноября 1915 г. Царица писала насчёт И.Л. Горемыкина и его сохраняющегося значения на будущее: «он всегда может оставаться твоим помощником и советчиком», «лучше ему уйти по твоему желанию, чем вследствие скандала, который может оскорбить тебя, а его ещё больше».
7 ноября Горемыкин вызвал к себе Наумова и сообщил что письмо об отказе от должности произвело на Царя благоприятное впечатление, т.к. оно соответствовало русской монархической идеологии с её требовательностью к себе и не исканию власти. Личная недостаточно высокая компетенция Наумова в текущих делах, сравнительно с давними сотрудниками министерства, не составляла значительной проблемы, т.к. он вносил сторонний важный опыт, а служебный аппарат, остававшийся на месте, и обеспечивал дальнейшую правильную постановку дела, к какой постепенно подключался новый управляющий.
10 ноября Наумов впервые присутствовал на заседании Совета Министров и наблюдал как Горемыкин утихомирил перепалку А.Н. Хвостова и А.Ф. Трепова относительно намерения ревизии железных дорог. Наумов объяснял немногословность Горемыкина его стараниями делиться своими взглядами главным образом с Императором, нежели влиять на суждения других министров. Отношение Горемыкина к своим обязанностям мемуарист обозначает как безупречно корректное.
Царица 10 ноября писала что Г.Е. Распутин хочет увидеть А.А. Хвостова и поговорить с ним насчёт И.Л. Горемыкина. Похвалы Распутина в его адрес вновь переданы Государю наивысшие: «говорит, что он такой праведник». То же сильнейшее сожаление относительно необходимости расставания передано 11 ноября: «в городе опять ужасно ворчат на милого старого Горемыкина. Прямо отчаяние!».
Кандидатура А.А. Хвостова рассматривалась в качестве самого надёжного монархиста, крайне близкого И.Л. Горемыкину министра и единомышленника. Г.Е. Распутин собирался навестить его в министерстве юстиции в приёмный день как проситель.
13 ноября Совет Министров обсуждал порядок пользования конфискованных у немцев земель. Царица также повидалась с А.А. Хвостовым: «очень молчаливый и сухой, но честный. Однако, конечно, нельзя его сравнивать с Горемыкиным. Одно хорошо, что он предан старику, – но упрям». Теперь оказалось что Г.Е. Распутин уже «не допускает и мысли, чтобы старика уволили. Он всё мучился и раздумывал об этом без конца. Он говорит что старик так премудр. Когда другие ссорятся и говорят, он сидит расслабленно, с опущенной головой. Но это потому что он понимает, что сегодня толпа воет, а завтра радуется, и что не надо дать себя унести меняющимся волнам». Для устранения проблемы с Г. Думой Царица предложила Государю лично присутствовать на её открытии, а И.Л. Горемыкину там не появляться.
Хотя все решения принимал сам Николай II, он прислушивался к мнению достойных людей и, не будучи самодуром, пользовался отдельными рекомендациями, но не мгновенно и в разнообразных сочетаниях их совокупности, сообразно со своими взглядами. Как можно заметить по переписке, подавляющее число советов Царю оставалось в статусе нереализованной возможности. Но, принимая во внимания близость мышления Царской Семьи, по письмам Царицы Александры можно представить и примерный ход мысли Императора Николая II. Вполне закономерно видеть и случаи полного совпадения суждений.
В середине ноября 1915 г. Василий Гурко, близко знавший И.Л. Горемыкина, навестил его, чтобы обсудить планируемое назначение генерала Беляева военным министром. Беляева он сравнивал с опытным бухгалтером, не пользующимся авторитетом.
Участникам войны и белоэмигрантам командарм Гурко запомнился как верный Императору Николаю II генерал, в отличие от демократически настроенных изменников в армейском руководстве [Арсений Несмелов «Рассказы о войне» Шанхай, 1936, с.64].
Царица написала 15 ноября, что И.Л. Горемыкин на недавней встрече был убеждён в отсутствии революционной угрозы. По его мнению, А.Н. Хвостов и В.Н. Шаховской чрезмерно насчёт этого волнуются. Также, И.Л. Горемыкин предлагал отложить созыв Г. Думы, т.к. проект бюджета только закончили разрабатывать в министерстве финансов и депутаты ещё не успели как следует в него вникнуть. Горемыкин справедливо полагал что Г. Дума займётся обсуждением сплетен о Г.Е. Распутине и будет оказывать вредное влияние на газеты и общество. И.Л. Горемыкин укрепился в таком представлении после вчерашнего обсуждения с одним из депутатов Г. Думы. Горемыкин хотел чтобы Царица переслала Государю его мнение об отсрочке созыва Г. Думы, «т.е. подготовила бы тебя к разговору с ним». Царица отметила политическую уверенность Горемыкина, беспокоящегося только из-за страданий его жены от астмы.
От А.Н. Хвостова И.Л. Горемыкин узнал о передаче Поливановым Гучкову царских приказов военному министру. Пользуясь этим предлогом, Горемыкин предложил заменить Поливанова на генерала Н.И. Иванова. Упоминается также кандидатура М.А. Беляева.
Однако Г.Е. Распутин высказался категорически за краткий созыв Г. Думы, исходя из тактики налаживания отношений вместо полного разрыва. Царица, также выступив за созыв, с пониманием отозвалась насчёт того что И.Л. Горемыкин «ненавидит» враждебных депутатов, «как и я, из-за России».
Обе предлагаемые тактики поведения были примерно равноценны, включая разное сочетание плюсов и минусов, сводящихся к одному, приблизительно, итогу. Ситуация напоминает 1906 г., когда увольнение И.Л. Горемыкина означало не победу Г. Думы, а её роспуск и передышку для правительства на период спокойной работы. Думу тогда можно было устранить и сохранив Горемыкина, но односторонний шаг без создания представления о компромиссе не способствовал бы утишению вражеских пропагандистских страстей. Рано или поздно Император Николай II вынужден был вновь пожертвовать И.Л. Горемыкиным.
18 ноября И.Л. Горемыкин скрепил Особый журнал Совета Министров о представлении МИД средств для помощи русским пленным в Германии. На журнале Государь надписал: «согласен».
27 ноября 1915 г. А.Н. Хвостов отправил Горемыкину тексты двух «диспозиций», не содержавших сведений о реальном заговоре. Когда Горемыкин дал распоряжение разобраться, что стоит за этими бумагами, Глобачёв выяснил, что они не имеют никакого значения [А.Я. Аврех «Масоны и революция» М.: Политиздат, 1990, с.100-101].
Странно, только, что подобные документы Аврех и его идейные последователи приводят в доказательство того, будто никаких масонских заговоров не существовало. На самые важные свидетельства такие сочинители никогда не обращают внимания. Впрочем, Аврех не убедил историка С.В. Куликова, указывающего в комментариях к воспоминаниям П.Л. Барка на неполноту объяснений А.Н. Брянчанинова о происхождении диспозиций.
Согласно письму Царицы, 28 ноября Г.Е. Распутин собирался навестить И.Л. Горемыкина. Согласно следующей корреспонденции, Горемыкин «очень внимательно» выслушал мнение Распутина о Г. Думе, «но стоял на своём», Дума «ему ненавистна». Царица же разделяла мнение Распутина: «нужно оказать им немного доверия» в рамках прежней тактики периодических задабриваний.
З.Н. Юсупова в письме сыну продолжила осуждать И.Л. Горемыкина за затягивание ревизии по московским беспорядкам. Постоянное натравливание с её стороны толкало Феликса в сторону преступных замыслов против Г.Е. Распутина.
Обеспокоенный астраханский монархист Тиханович-Савицкий продолжал писать И.Л. Горемыкину о необходимости борьбы с лживой печатью, когда правых изображают сторонниками немцев. Он призывал и других монархистов постоянно писать Царю и Горемыкину о наиболее важном в Империи. Довольно проницательно он подозревал расчёт противников Монархии на дворцовый переворот с вовлечением в заговор военачальников, без чего любоц уличный бунт был бы подавлен.
Освобождённые от призыва в Армию студенты представляли собой количественно весьма значительную величину. А.А. Поливанов в декабре 1915 г. писал И.Л. Горемыкину: «в настоящее время воспитанники вузов являются обширным резервом для военного ведомства», причём не требуется призывать в войска всех студентов – это вызовет недовольство и лишит военные училища резерва [«Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде. Сборник статей» М.: Наука, 1980, с.243].
Льва Тихомирова начал удовлетворять тон сильной власти, взятый И.Л. Горемыкиным, А.Н. Хвостовым, П.Л. Барком, но он почему-то не замечал за правильной формулой реального дела, которого в действительности хватало с избытком. Тихомиров понимал, что Горемыкин нужен Императору, т.к. «нет другого, столь же “благонамеренного”». Но Тихомиров заблуждался, под давлением либеральной пропаганды, будто Кривошеин явился бы такой же надёжной фигурой [Л.А. Тихомиров «Дневник 1915-1917» М.: РОССПЭН, 2008, с.170, 192].
13 декабря Горемыкин принял С.Д. Шереметьева, они обсуждали намечаемые на начало каждого нового года перемены в составе Г. Совета. В этот же день в Царской Ставке Император рассмотрел представленные Горемыкиным особые журналы правительства об изменении в правах землевладения и землепользования подданных государств, воюющих с Россией. Николай II 13 декабря выпустил рескрипт И.Л. Горемыкину о необходимости обеспечить полноценное снабжение городов.
Последний царский министр путей сообщения спустя 10 лет вспоминал: «с декабря 1915 г. мне лично пришлось исполнять главную роль в руководстве железнодорожным транспортом на всей тыловой части» — и все перевозки достигали целей [Э.Б. Кригер-Войновский «Записки инженера» М.: Русский путь, 1999, с.47].
16 декабря 1915 г. А.Н. Хвостов писал И.Л. Горемыкину: «по поводу обсуждавшегося при моём участии вопроса о желательности приобретения большинства паёв товарищества «Новое Время», имею честь уведомить ваше высокопревосходительство, что ныне мне удалось приостановить сделку, которую предполагал заключить банкир Д.Л. Рубинштейн с Анастасией Алексеевной, урождённой Сувориной, и её матерью», в связи с чем появляется возможность для приобретения газеты правительством [«Дело народа», 1917, 21 марта, №6, с.2].
В письме И.Л. Горемыкину 19.12.1915 г. Родзянко писал, что неоднократно слышал от него «уверение, что это не Ваше дело и что Вы в дела войны вмешиваться не можете». «Если Вы, Иван Логгинович, не чувствуете в себе сил нести это тяжёлое бремя и не используете все имеющиеся средства для того, чтобы помочь стране выйти на стезю победы, то имейте мужество в этом сознаться и уступить своё место более молодым силам» [«Архив русской революции», Т.6, с.36].
Сравнительно с другими либеральными историками, вероятно, находясь под влиянием С.П. Мельгунова, не склонный к необоснованной критике Горемыкина автор полагает, что он был раздражён «отвратительной» атакой Родзянко и укрепился в решимости целиком игнорировать Г. Думу [Raymond Pearson «The Russian Moderates and the Crisis of Tsarism 1914 – 1917» London, 1977].
Но скорее даже психопатические припадки Родзянко не могли вывести Горемыкина из себя и поколебать его благонамеренность
От Царицы Александры И.Л. Горемыкин 1 января получил рескрипт с благодарностью всем сотрудникам Верховного совета по призрению.
2 января 1916 г. Совет Министров выделил 12 тыс. руб на собрание и разработку статистических сведений о хлебных запасах в Империи, а 7,5 тыс. руб. – о хлебных посевах. Также рассматривалось представление министра народного просвещения об утверждении в Империи сети высших технических учебных заведений, технических и ремесленных училищ. Распространением их будет заниматься специальный совет по делам профессионального образования.
Сравнительно с тем как сторонники захвата власти Г. Думой подрывали устойчивость тыла, раздавались и разумные голоса одобрения политики Императора. В анонимном письме, отправленном И.Л. Горемыкину 3 января 1916 г., М.В. Родзянко и его окружение именовались вельзевулами общественности, которых не следует бояться, а по примеру Победоносцева, гасить огни политического непотребства. «В случае опасности охраняйте дом свой, как крепость, которая защищает твердыню русской монархии, бунтари и поляки негодуют на пристрастие войск и полиции» [«Первая мировая война в оценке современников власть и российское общество. 1914-1918» М.: РОССПЭН, 2014, Т.1, с.395].
Организация латышских монархистов «Родина» под председательством пастора Сандерса отправляла И.Л. Горемыкину план деятельности монархического союза и проект устава, соответствующий программе Союза Русского Народа. Горемыкин «обещал полное своё содействие». «Рассказывали, что И.Л. Горемыкин даже к приезжал к пастору на квартиру», между ними «установились самые дружественные отношения» [«Рижское Утро», 1916, 26 января, с.2-3].
5 января под председательством И.Л. Горемыкина состоялось заседание Совета Министров, который утвердил представление Сазонова о расширении числа предметов, признаваемых военной контрабандой, согласно с британскими и французскими правительственными распоряжениями.
В газеты 9 января попало сообщение о продолжительной беседе И.Л. Горемыкина с В.Н. Коковцовым по вопросам внешней политики, которая будто бы может иметь существенное значение. Этот факт нуждается в проверке на подлинность.
И.Л. Горемыкин до самого конца доминировал в политике. 15 января 1916 г. Лемке записал, что Алексеев не желал входить в споры с председателем Совета Министров, т.к. Горемыкин «всё равно добился бы своего, но при видимом умалении авторитета начальника штаба», при этом Горемыкин всегда запрашивал у Алексеева советы по мере необходимости, сам предложил совместно решать вопросы надзора над периодической печатью [М.К. Лемке «250 дней в царской ставке. 1916» Минск: Харвест, 2003, с.127, 169].
По выражению И.П. Демидова, генералу Алексееву «приходилось долго сражаться с Горемыкиным» за направление строительных дружин Земгора в распоряжение Армии, в том числе для работ подле Могилёва [«Съезды и конференции конституционно-демократической партии. 1915-1917» М.: РОССПЭН, 2000, Т.3, Кн.1, с.245].
16 января 1916 г. прибывший с фронта в Москву, Вавилов пишет: «о войне – хихиканье, чтение каких-то подпольных писем Родзянки к Горемыкину. Бестолковщина и полная неопределённость. Очень рад, что я в мундире, что есть куда хотя на время спастись. Я ведь чувствую сейчас, насколько я бодрее, здоровее и сильнее их» [С.И. Вавилов «Дневники. 1909-1951» М.: Наука, 2012, Кн.1, с.502].
При Горемыкине Вавилову ещё хватило сил перебарывать информационную войну, осуждая зловредность лжи Г. Думы, но к концу 1916 г. легенды о Царице, Распутине, Штюрмере поглотили и его. Революционный обман брал в плен и перевербовывал в свою армию. Другой учёный-мемуарист об этом же напишет, что «до конца 1916 года принципиально стоял за сохранение самодержавия и лишь за несколько месяцев до революции изменил своей натуре» [Н.П. Кондаков «Воспоминания и думы» Прага, 1927, с.21].
17-м января датирован подготовленный И.Л. Горемыкиным проект указа о возобновлении занятий Г. Думы с 5 февраля.
Согласно камер-фурьерским журналам, 18 января в 18 ч. Император принимал Горемыкина с докладом – через 3,5 часа после представления члена Г. Совета Б.В. Штюрмера. Настал час, когда Горемыкину вновь пришлось оставить правительство Государя.
18 января слухи о приходе Бориса Штюрмера на место Горемыкина дошли до дневника Б.В. Никольского. При этом говорили что ещё один будущий глава правительства, князь Н.Д. Голицын, сменит А.Н. Хвостова. Б.В. Никольский был столь высокого мнения о Н.Д. Голицыне, что сразу предположил: он может уже теперь занять пост председателя Совета Министров, и был бы хорошим министром народного просвещения.
«Причины увольнения Горемыкина были ясны. Несмотря на большое своё желание, Монарху не удалось восстановить авторитет Горемыкина в среде коллег, утраченный им при возникших серьёзных разногласиях в составе Совета Министров, когда Государь решил отправиться в действующую армию. Государь пришел к заключению, что его личная поддержка не оказалась действительной и что необходима перемена. Кроме того, Государь сознавал, что Горемыкин не может больше встретиться с Думой, а между тем Государь хотел созвать законодательные учреждения» [П.Л. Барк «Воспоминания» // «Возрождение» (Париж), 1966, №76, с.92].
По свидетельству Е.Н. Шелькинга, Горемыкин предвидел свою отставку, но она настала неожиданно, поскольку незадолго до неё Великая Княжна Татьяна Николаевна написала его супруге ласковое письмо с приветом от Императрицы, а последняя говорила ему, что пока он председатель правительства, «в Царском Селе спят спокойно».
Текст книги Шелькинга за 1918 г., многими местами отличающийся от более позднего журнального варианта, содержит дополнительные указания, что дома у И.Л. Горемыкина мемуарист встретил Б.В. Штюрмера за день до его назначения. Несправедлива характеристика Шелькинга, будто Штюрмер всё время плёл заговоры и интриги против Горемыкина. Своими глазами Шелькинг видел иное: Штюрмер выразил Горемыкину свои преданность и восхищение. Заведомо ложный характер в военно-пропагандистском издании 1918 г. имеет утверждение, будто правомонархическая политика Николая II противоречила настроению большей части русского народа. Из журнальной публикации многие такие утверждения исключены.
19 января И.Л. Горемыкин на заседании Совета Министров предупредил, что председательствует в последний раз. Что опровергает Шелькинга, будто Горемыкин в этот день не знал о своей замене.
Действительные заслуги Горемыкина перечислены в Высочайшем рескрипте 20 января 1916 г.: «ещё в бытность вашу министром внутренних дел Я близко узнал и оценил вашу обширную опытность в области правительственной деятельности, и в особенности крестьянского землеустройства, а равно неизменное стремление ваше к благу страны. Вследствие этого в 1906 году, пред открытием действий Государственной Думы, и вторично в 1914 году вы были Мною призываемы стать во главе высшего управления Империею, в качестве председателя Совета Министров. При исполнении соединённых с означенной должностью важных и ответственных обязанностей, вы не щадили сил, чтобы оправдать Моё доверие своими самоотверженными и исполненными любви к Отечеству трудами» [«Нива», 1916, №5].
Г.Е. Рейн в воспоминаниях отмечает что Горемыкину при увольнении Император Николай II пожаловал 100 тыс. руб. «на устройство домашних дел».
На следующий день в письме к Императору 21 января Горемыкин порекомендовал соединить должность нового председателя правительства с главенством в финансовом комитете – для полноты контроля над имеющей в ходе войны особенное значение финансовой политикой [П.В. Мультатули «Николай II. Отречение, которого не было» М.: АСТ, 2010, с.88].
Вместе с тем Горемыкин выразил глубокую признательность за пожалованный ему высший в Империи чин действительного тайного советника 1-го класса – чин, равный званию канцлера. Горемыкин воспользовался этим же письмом для испрошения возможности аудиенции для принесения им «вечной благодарности».
Приём Горемыкина состоялся 23 января с 18 часов, с 18.20 записан приём Государыни. Газетные сообщения позволяют уточнить что это было также при Горемыкине [«Камер-фурьерские журналы 1916-1917» СПб.: ДАРК, 2014, с.64].
Царица Александра затем вспоминала что при последней встрече с И.Л. Горемыкиным тот продолжал настаивать на необходимости твёрдого упорства и решительности.
Справка Н.Н. Лодыженского о заседании Совета Министров 22 января по вопросу о возобновлении занятий законодательных учреждений подтверждает, что именно в интересах налаживания отношений с Г. Думой, а не по иной другой причине, И.Л. Горемыкин был заменён Б.В. Штюрмером. Повторилась ситуация июля 1906 г., когда Император, не имея не малейших претензий к Горемыкину, вынужден временно отказаться от его услуг после обеспеченного им устранения угрозы 1-й Г. Думы и назначить Столыпина для забалтывания депутатов будущего созыва. В связи с этим ни для кого не представлялось удивительным, если Николай II в ближайшем времени вновь воспользуется услугами столь ценимого им сотрудника. Это казалось чуть ли ни неизбежным.
М. Стахович в газете «Речь» увидел в лице Горемыкина неизменность монархической политики Императора Николая II за все минувшие 20 лет: «почтенный сановник был одинаково пригоден в 1895, и в 1906, и в 1914 годах… Дай Бог ему много лет, и в 1918 и в 1920 годах он может быть, вновь обрадует нас своим возвращением к власти. Я уверен, что Борис Владимирович позаботится о той популярности, к которой Иван Логгинович был высоко равнодушен. Он охотно будет принимать представителей печати, ещё охотнее народных представителей», – единственное, в чём оппозиционная печать обоснованно предполагала разницу между премьерами.
Это свидетельствует о неординарности личности Горемыкина, кого нельзя назвать обыкновенным бюрократом, легко взаимозаменяемым и теряющим всякое значение без кабинета с креслом. Ни одно увольнение не лишило Горемыкина его влияния и значения.
И.И. Колышко ссылался на рассказ В.М. Дорошевича об интервью с И.Л. Горемыкиным. «Я его спрашивал, как он себя чувствует на премьерском посту. А он в это время чертил на запорошенном инеем стекле какой-то рисунок. Я вгляделся. Оказалось – графская корона». «Хватаясь за бока от смеху, добродушный старик повторял: — А ведь угадал, подлец… В самую точку попал…» [Баян «Обломки. XIX. Дорошевич» // «Время» (Берлин), 1924, 22 сентября, с.2].
Этот рассказ точно не датирован, но может иметь отношение к зиме 1915-16 г. Нет никаких подтверждений, что И.Л. Горемыкин действительно стремился к получению герба. Это может быть спекуляцией на слухах у весьма ненадёжного мемуариста. Два предыдущих награждения предшественников Ивана Горемыкина, С.Ю. Витте и В.Н. Коковцова, указывали на связь пожалования графского титула с окончательной отставкой. И.Л. Горемыкин не терял доверия Императора Николая II и не собирался уходить на покой, дабы не исполнять мечты врагов Монархии. Видя перед собой такие примеры, И.Л. Горемыкин едва ли желал пополнять чреду отставных политиков. Напротив, то что Государь не пожаловал И.Л. Горемыкину графский титул, явно указывало, что его роль в предрешении судеб Империи ещё не кончена. Это имело цену выше любого герба.
Молодая большевичка Эсфирь Генкина из Института красной профессуры как о само собой разумеющемся писала: «если Горемыкин был плох, то Штюрмер и Голицын ещё хуже» [«Очерки по истории Октябрьской революции» М.-Л.: Госиздат, 1927, Т.II, с.30].
Это буквальное повторение политической пропаганды 1916 г. не вызовет одобрения у биографов любого из министров. Каждый из них имел свои сильные стороны, для использования которых в нужный момент они и выдвигались Императором на первый план.
М. Палеолог, писал, будто бы сожалел об уходе И.Л. Горемыкина и что ещё более сомнительно, якобы и С.Д. Сазонов был этой отставкой недоволен.
В партии к.-д. считали положение Штюрмера менее устойчивым, чем Горемыкина и надеялись что его удастся «свалить» быстрее.
Дома у И.Л.Горемыкина 29 января прошёл прощальный обед со всеми министрами, состоявшими вместе с ним в правительстве. На другой день, 30-го Горемыкин участвовал в работе финансового комитета под председательством Б.В. Штюрмера.
Отдельно Горемыкин счёл нужным попрощаться с чинами правительственной канцелярии. Обед для них был устроен 2 февраля.
9 февраля 1916 г. И.Л. Горемыкин навестил Вдовствующую Императрицу. Мария Фёдоровна отметила: приняла «старого Горемыкина, который ещё больше постарел после своей отставки».
Царица Александра 14 февраля виделась с И.Л. Горемыкиным и передала ему последние политические новости. У жены Горемыкина из-за прощания с её госпиталем произошёл «сердечный припадок от волнения». «Бедные старики, как мне их жалко! У него вид хороший, но в первое время, когда он внезапно остался без работы после сильного напряжения последних месяцев, – он был в постоянном полусне. Когда он прощается, мне всегда кажется, что он видит нас в последний раз, – по крайней мере, его добрые старые глаза это выражают».
Горемыкин 6 марта приехал на отдых в Кисловодск. Там уже стояли тёплые солнечные дни, привлекшие много публики к посещению курорта [«Московские Ведомости», 1916, №55, с.4].
Историков, интересующих внеслужебным времяпрепровождением Горемыкина, в очередной раз выручает Е.Н. Шелькинг. Про 1916 г. он рассказывает: «Горемыкин, однако, не допускал мысли о возможности открытого революционного движения. – «Вы видите этот пепел», – говорил он мне, указывая на свою сигару. – «Мне стоит дунуть и он разлетится. То же представляет и пресловутая революция». – «Однако же, вы не дули» — спросил я его. – Горемыкин, в то время уже не занимавший места председателя Совета, нахмурился. – «Я не раз хотел дунуть» — сказал он. – «но Государь не хотел идти со мною до конца»» [«Историк и Современник», Берлин, 1923, Вып.4, с.161].
В издании 1918 г. фраза Горемыкина записана Шелькингом иначе: «Реформы необходимы, но они должны начаться после войны. Что касается революции, то она – всего лишь пыль на здоровом теле России. Когда я дохну на неё, она исчезнет».
Так и есть, революционные партии в войне с Императорским правительством потерпели бесспорное поражение, они не могли захватить власть. Шелькинг ошибается, приписывая либеральной критике Царя популярность в народе. Никто из противников Горемыкина или Щегловитова не имел популярности, на которую Николай II мог бы опереться, чтобы сделать свои позиции прочнее. Напротив, только держа в правительстве верных монархистов, Император мог вполне контролировать политические процессы. Утверждения об обратном есть лишь метод внушения антимонархических настроений для захвата власти врагами Царя.
Родственник Горемыкина, юрист, ординарный профессор Николаевской Морской Академии И.А. Овчинников состоял в комитете Красного Креста по обмену и эвакуации военнопленных калек через Швецию. В записке о значении проливов для России в феврале 1915 г. он утверждал, что ни один международный договор не обеспечит русские интересы, гарантии безопасности русской торговли требуют владения проливами. В 1916 г. уже в качестве генерал-лейтенанта, он участвовал в комитете Н.Д. Голицына по оказанию помощи пленным, под покровительством Императрицы Александры Фёдоровны. Иван Александрович Овчинников заведовал центральным справочным бюро о военнопленных и при Российской Обществе Красного Креста.
М.И. Горемыкин в Первую мировую входил в Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, семей раненых и убитых [«Незабытые могилы. Русское зарубежье» М.: РГБ, 1999, Т.2, с.183].
Б.В. Штюрмер на допросе вспоминал, что поляки оказывали давление, чтобы правительство как можно скорее объявило решение в пользу поляков, но глава правительства отказывался спешить и ставил решение вопроса исключительно от результатов работы Горемыкина. Это лишний раз подтверждает не окончательный характер министерской отставки.
И.Л. Горемыкин считал, что самое главное сохранить единство престолов, армии и дипломатии России и Польши. Вопрос о таможенной границе он не считал важным предрешать заранее, отдав его на рассмотрение законодателей. По воспоминаниям Г.Н. Михайловского, С.Д. Сазонов даже согласия на польскую автономию добился с немалым трудом от И.Л. Горемыкина через год войны.
В 1916 г. И.Л. Горемыкин после ухода из правительства также участвовал в переговорах с членами петроградского славянского общества и говорил им о новой эре, открытой самоотверженными действиями чехословаков, выбравшими сторону Российской Империи. «Маленькая горсточка чехословацких дружинников, — сказал он тогда, — ничтожная, быть может, с военной точки зрения, в состоянии увлечь за собою миллионы чехословацкого населения в Австро-Венгрии» [В.С. Драгомирецкий «Чехословаки в России 1914-1920» Париж, 1928, с.20].
Связь И.Л. Горемыкина с представителями чехов, указывает на поддержку их планов образования Царства Чешского и формирования дружественного союза Славянских Монархий. При ожидаемой в ближайшее время военной победе Российской Империи в руках Императора Николая II и И.Л. Горемыкина оказывалось переустройство Восточной Европы в монархическом контрреволюционном ключе.
В выпускавшемся французским военным министерством обзоре русской прессы регулярно отмечалась возмущавшая либералов преемственность политической линии Горемыкина и Штюрмера [«Bulletin périodique de la presse russe» (Paris), 1916, 21 juillet, №14].
В августе 1916 г. находившийся под следствием банкир Д.Л. Рубинштейн просил пригласить И.Л. Горемыкина свидетельствовать в его пользу. Как выяснилось, все обвинения в адрес банкира были преступно-несправедливы.
5 августа А.Н. Куломзин послал телеграмму в с. Белое, спрашивая, может ли И.Л. Горемыкин прибыть в Мариинский дворец 15 августа для приёма в 13 ч. делегации японской верхней палаты. «Желательно присутствие возможно большего числа членов Государственного Совета».
От Царицы Александры все главные деятели её благотворительного совета, включая И.Л. Горемыкина, получили в награду золочёные знаки для ношения, в соответствии с традицией создавать внешние наглядные выражения важных заслуг перед Монархией на поприще добродетели [«Московские Ведомости», 1916, 23 сентября, с.3].
25 сентября 1916 г. И.Я Голубев писал А.И. Горемыкиной, что рад был узнать «о значительном улучшении здоровья Ивана Логгиновича. Дай Бог прочного восстановления сил» [РГИА Ф.1626 Оп.1 Д.1498 Л.24].
М.И. Горемыкин на бланке заместителя управляющего Крестьянском Поземельным банком в письме матери 5 октября упоминал свои взаимодействия с Н.В. Плеве. «Новости которые тебя заинтересуют: А.Н. Яхонтов назначен директором канцелярии М.П. Сообщения с предоставлением ему прав товарища министра при Трепове. Он очень доволен и собирается писать Папа, как только выйдет указ».
10 ноября 1916 г. о назначении А.Ф. Трепова новым председателем правительства Царица писала, что не будет питать к нему чувств, какие были «к старикам Горемыкину и Штюрмеру», которые были духовно близки Святому Государю.
Некоторые издания сообщали будто Горемыкин опасно болен и лежит на поддержке кислородом, когда в действительности он только что выехал в Псков [«День», 1916, 19 ноября, с.2].
Н.Д. Жевахов 12 декабря с полным основанием писал: «кто бы ни сидел в министерской ложе, все одинаково будут оплеваны». В его дореволюционной переписке, как и в эмигрантских мемуарах, легенды о Г.Е. Распутине обозначаются как самые сомнительные.
Организованное англичанами убийство Г.Е. Распутина послужило толчком к разжиганию революционных настроений. Самюэль Хор, один из главных агентов лорда Мильнера, организатор февральского переворота, частично признавал в воспоминаниях, что этот теракт привёл к дальнейшему разжиганию страстей и подрыву авторитета властей.
Настрой английских агентов Мильнера в качестве врагов Российской Империи и Святого Царя показывают их собственные воспоминания с характеристиками типа: «оказался превосходным малым. Фактически он всем сердцем поддержал революцию в марте 1917 года и придерживался радикальных взглядов». «Это великие герои революции» [П. Дьюкс «Британская шпионская сеть в Советской России» М.: Центрполиграф, 2021, с.131, 276].
В конце декабря 1916 г. появились сообщения что Император Николай II снова хочет привлечь к себе и возвысить И.Л. Горемыкина. 24 декабря в газетах писали, что Государь интересовался состоянием здоровья И.Л. Горемыкина.
«Как слышало «Веч. Вр.», некоторые мнения, высказанные И.Л. Горемыкиным, уже нашли осуществление в происходящих переменах. Ныне в виду того, что имя И.Г. Щегловитова упоминается в связи с вопросами внешней политики, упорно говорят о привлечении И.Л. Горемыкина к руководительству занятиями верхней палаты. И.Л. Горемыкин не считает себя подходящим, по состоянию здоровья, к занятию ответственного поста, но имя его встречается с исключительным одобрением. В ближайшие дни будет окончательно разрешён вопрос о присутствующих членах верхней палаты и о её президиуме. Одновременно, как сообщают, вопрос о новой активной деятельности И.Л. Горемыкина должен будет получить окончательное разрешение на этих днях» [«Рижское Обозрение», 1916, 30 декабря, с.6].
Государь знал что И.Л. Горемыкин и И.Г. Щегловитов после их ухода из правительства нисколько не поколебались в своей монархической верности. Бывший министр юстиции поэтому был назначен председателем Г. Совета. А 12 января 1917 г. Император Николай II образовал особое совещание под председательством Н.Д. Голицына, с участием М.А. Беляева, П.Л. Барка, А.Д. Протопопова, Н.Н. Покровского, генерала В.И. Гурко, С.Е. Крыжановского, И.Г. Щегловитова, М.В. Родзянко, С.Д. Сазонова и И.Л. Горемыкина для разработки основных начал будущего государственного устройства Польши.
Общее одурение доходило до того, что занимавшийся театральными постановками В. Теляковский 29 января 1917 г. писал: «клика Вырубовой, Питирима, Горемыкина, Штюрмера и других ведёт прямо страну на погибель». И.Л. Горемыкина продолжали считать находящимся у власти и управляющим Россией. К настоящей гибели вело такое ослепление фантастическими вымыслами.
В газетах появлялось сообщение про судебное дело, связанное с экономкой М.И. Горемыкина Линой Штраус, которую на почве ревности пыталась скомпрометировать Ванда Казер, присылая ей дорогие подарки. Суд оправдал Казем за незаконное ношение формы сестры милосердия [«Рижское Утро», 1917, 12 февраля, с.2].
В польской комиссии с участием И.Л. Горемыкина голоса разделились пополам за независимость и за автономию Польши. 12 февраля 1917 г. Н.Д. Голицын подал на утверждение решение даровать независимость. Император не подписал его [«Российская государственность в конце XIX – начале ХХ века» М.: КДУ, 2013, с.38].
Часть 5.
Падение Самодержавия.
Работоспособность Ивана Горемыкина была до того велика, что проявилась даже в пору революционного срыва успешного завершения мировой войны. В дни февральского переворота 1917 г., как писал комендант Таврического дворца, в который свозили арестованных государственных деятелей, наиболее опасных для заговора, «старый бюрократ сказался в нём и в эту тяжёлую для него минуту. Он приехал в Государственную Думу с пером в руке; как застали его дома пишущим что-то за столом, так с пером без шапки, в солдатской шинели, приехал он на грузовике в цитадель русской революции» [Г.Г. Перетц «В цитадели русской революции» Петроград, 1917, с.38].
Произвольным революционным арестам в будущем подвергнутся миллионы русских людей. И.Л. Горемыкин был одним из первых.
Свидетельств привоза арестованного Горемыкина в Таврический дворец имеется довольно много. Но революционная мемуаристика бесстыже недостоверна.
«Недавно скончавшийся А.А. Риттих, последний министр земледелия императорской России, был человеком необыкновенно мягким, культурным и сдержанным. В те дни, когда на улицах Петрограда уже шли революционные демонстрации, на его долю выпала тяжкая обязанность: снабдить столицу продовольствием. На последнем заседании совета министров А.А. Риттих говорил, что в России начинается не голодный бунт, а революция, которую надо подавить любой ценой. Горемыкин выслушал и спросил: «Что же, стрелять в толпу?». К всеобщему изумлению, обычно мягкий и спокойный человек твёрдо ответил: «Да. Другого выхода нет. Если толпа откажется исполнять предписания власти – колебаться нельзя. Надо стрелять». Подписано псевдонимом Жрец Фемиды, в рубрике «Суды и пересуды» [«Жизнь и суд» (Париж), 1930, 6 июня, №13].
Уж явно И.Л. Горемыкин тогда не присутствовал на заседании Совета Министров. Это не подтверждают другие источники. Нет прямых данных и о неформальных контактах на то время с ним Риттиха, делавшего карьеру ещё в МВД, когда его возглавлял Горемыкин.
Сколько-то правдоподобна фраза Риттиха, что революция не имеет отношения к голодному бунту. Министр земледелия, имевший точные данные о продовольственном обеспечении Петрограда, знал это лучше других. Намного хуже чем в России было положение во всех других воюющих странах, я прежде подробно доказывал в биографии генерала Краснова.
Во Франции производство зерновых уменьшилось на 60%, были введены карточки с выдачей по 300 грамм а день [Жан Монне «Реальность и политика» М.: МШПИ, 2000, с.64]. В Германии зимой 1916-17 г. «брюква стала одним из главных продуктов питания рабочего населения». «В результате постоянного недоедания и голода производительность труда рабочих сократилась на 40%». За все годы войны в Германии умерло от голода и заболеваний 763 тыс. чел. [В.Г. Брюнин «Внутриполитическая борьба в Германии летом и осенью 1917 года» Л.: ЛГУ, 1965, с.38].
Февральская революция лишила Россию этого превосходства в снабжении населения и сделала её нормы потребления, сравнительно самые высокие – напротив, наиболее низкими.
Полностью несостоятельны, следовательно, попытки приравнять причины падения Российской Империи к катастрофическим внутриполитическим условиям распада СССР. Обвинения в неспособности перераспределить ресурсы показывают опору претензий в адрес монархистов на нечестные демократические мифологические традиции [Е.Т. Гайдар «Собрание сочинений» М.: Дело, 2013, Т.6, с.88].
В.Н. Шаховской вспоминал, что, принимая решение о перерыве занятий Г. Думы, Совет Министров вдохновлялся примером И.Л. Горемыкина в августе 1915 г., который не испугался никаких угроз, спасая Россию. Правительство успело принять решение, которые лишило депутатов-заговорщиков всякого легитимного прикрытия революционной преступной активности и помогло изобличить соучастие в заговоре с ними генерала М.В. Алексеева [В.Н. Шаховской «Так проходит мирская слава» М.: Кучково поле, 2019, с.322].
Ключевым фактом, объясняющим схему организации переворота в Петрограде, следует называть распоряжение генерала А.А. Маниковского о выносе ружей из кладовых ко входу в Главное Артиллерийское Управление уже 24 февраля. Такое приготовление напрямую связано с возвращением М.В. Алексеева в Ставку 22 февраля и началом фальшивых хлебных протестов 23 февраля. Связь организована масоном Н.В. Некрасовым, который курировал заговор Г.Е. Львова с генералом Алексеевым. Также, именно Некрасов будет настаивать о назначении Маниковского новым главой правительства вместо свергнутого. Не существует никакого другого объяснения этих обстоятельств, кроме того что Маниковский через Некрасова 24 февраля уже знал, что оружие предназначается для переворота, успех которого будет обеспечен благодаря управлению Ставкой Алексеевым. 27 февраля заговорщик Некрасов бодрствовал уже с 6 утра, когда звонил масону А.Я. Гальперну – сотруднику британского посольства, вовлечённому в заговор Алексеева и придерживавшемуся пораженческих взглядов. Захват здания ГАУ с арсеналом оружия для госпереворота прошёл только к 10 ч. утра. Маниковский предоставил оружие солдатам, которых стройными рядами заговорщики привели к арсеналу. Захват оружия курировали масон М.И. Терещенко, ближайший представитель Некрасова, и А. Нокс, агент англичан, также хорошо знающий о связи Некрасова с Гальперном. Они прибыли в здание ГАУ к Маниковскому прямо перед приводом туда же солдат. Затем Терещенко сразу примчал в Таврический дворец и проинформировал Некрасова об исполнении этой ключевой части заговора. Некрасов в качестве руководителя революции открыл заседание совета старейшин Г. Думы и сообщил о взятии ГАУ, на основании чего Некрасов далее мог насильственно устранить царское правительство и создать революционное – ВКГД. Некрасов поэтому с полным основанием считал себя организатором переворота, наряду с такими людьми как Терещенко [А.Б. Николаев «Думская революция. 27 февраля – 3 марта 1917 года» СПб.: РГПУ, 2017, Т.1, с.180,242,256-258].
Управление выпущенным джинном революции с самого начала оказалось делом чрезвычайно опасным, судя по тому что Некрасов короткое время считал что восставшие убили открывшего им двери Маниковского. Это определённо указывает что часть событий пошла не по плану Некрасова. Скорее всего, Маниковский должен был приручить солдат, подчинить их своему управлению, и на этом основании возглавить новое правительство, но это не удалось и ему пришлось спасаться бегством. Отсюда и мнение Некрасова о смерти. Сумели направлять солдат масон Н.Д. Соколов, Ф.Ф. Линде. Студенты военно-медицинской академии управляли 25 тысячами войск, делегатами которых они были записаны в Таврическом дворце.
Не имеющие ни одного опровержения или малейшего альтернативного объяснения доказательства действий английского заговора А. Мильнера в сторону целенаправленного февралистского разрушения Российской Империи показывают конфликт между целями английских агентов, также участвовавших в организации восстания солдат, и масонской группы Некрасова-Керенского, которым останется только проклинать А. Мильнера, сорвавшего их план дворцового переворота, из-за чего Некрасов не сможет удержать власть за Временным правительством [С.В. Зверев «Генерал Краснов. Монархическая трагедия» М.: Традиция, 2018, Т.1, с.241-254].
Современники, враждебные Императорскому правительству, хорошо понимали, что в итоге победу революции обеспечила измена генералов, а не Г. Дума или направляемые студентами восставшие в Петрограде солдаты. Н.В. Тесленко: «когда царский поезд 1-го марта блуждал между Ставкой и Псковом, всем казалось, что решалась судьба не монархии, а Николая П-го лично, и решалась она, главным образом, не в Петрограде и не в политических партиях или в Государственной Думе, а в штабах фронтов, когда Главнокомандующие обменивались между собой и со Ставкой телеграммами. Николай II только тогда и отрекся, когда все Главнокомандующие, и в том числе и вел. кн. Николай Николаевич, его об этом всеподданнейше попросили» [«Протоколы заграничных групп конституционно-демократической партии. 1923-1933» М.: РОССПЭН, 1999, Т.6, Кн.2, с.104].
Напомню, что при вовлечении в заговор генерала М.В. Алексеева огромное значение имела легенда о том будто И.Л. Горемыкин не был достоин занимать свою должность. На этот крючок его поймал Г.Е. Львов [Nicolas Brian-Chaninov «Complots a la veille d’une revolution» // «Mercure de France», 1931, 1 XI, p.583].
В освещении действий правительства не лучшим образом потом вели себя не только заведомые враги Николая II, но и некоторые более правые эмигрантские издания, позволявшие себе безответственные фантазии революционного толка: «сохранил ли трезвость председатель совета министров кн. Голицын в тот момент, когда кричал генералу Хабалову: пожалуйста не стреляйте». Ставить его в ряд с изменниками генералами в Ставке, с Л. Андреевым и П. Милюковым – возмутительно бесстыдно [«Владимирский Вестник» (Сан-Пауло), 1960, №84, с.1-2].
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 г. И.Л. Горемыкин записан по адресу Фурштадская, 14, тел. 64727. Михаил Иванович Горемыкин – Адмиралтейская набережная 10. Искали по этому адресу, у революционеров имелся кем-то составленный список с главными столпами Империи. Впервые за долгую жизнь Иван Горемыкин не отбил атаки противника, а попал ему в плен.
«Автобус мчится. На крыше автобуса, окруженной решеткой, куда нагружают багаж, везут нечто, не то узел, не то живое существо. От толчков существо бросает то в одну сторону, то в другую. Внутри вооруженные люди, развалясь на подушке, курят и смеются. Говорят, это отвозят арестованного бывшего председателя Совета министров Горемыкина» [Н.Е. Врангель «Воспоминания. От крепостного права до большевиков» М.: НЛО, 2003, с.356].
В этом аресте принимал участие прапорщик Ю.А. Алеев. Он выполнял распоряжения Военной комиссии ВКГД. Арестованных сановников руководители заговора собирались использовать как заложников в случае наступления верных войск [А.Б. Николаев «Революция и власть. Государственная Дума IV созыва 27 февраля – 3 марта 1917 г.» Дисс. д.и.н. С.-Петербург, 2005, с.668, 1002].
Среди тех кто арестовывал министров было значительное число студентов – авангарда февральского переворота. У одного из них, Якова Рапопорта, приехавшего в 1915 г. в Петроград и принятого учиться на медика, под конец жизни успел взять интервью журналист «Вашингтон пост»: «я был в самой гуще! Мне дали винтовку и пистолет. Я вместе с рабочими арестовывал царских министров» [Дэвид Ремник «Могила Ленина. Последние дни советской империи» М.: АСТ, 2017, с.117].
Следует уточнять, кто и когда раздавал студентам винтовки и пистолеты, чтобы они руководили солдатами и рабочими, направляя революционное насилие, начиная с арестов царских министров. В самых ранних воспоминаниях А.А. Танеевой имелись не опубликованные С.Е. Крыжановским свидетельства, что Николай II и Царица Александра узнали об ответственности за организацию переворота изменников из высших кругов (генералов), действовавших в заговоре с Г. Думой и Англией [«Отечественная история», 1992, №5, с.166].
Керенский назначил им строжайшую охрану: пленных боялись и берегли для торга. Н.В. Савич вспоминал: «как раз при мне притащили старика Горемыкина. Он был в шубе с цепью св. Андрея Первозванного на шее. Вид у него был жалкий, запуганный, старик стал как-то ещё меньше ростом, весь съёжился. Керенский немедленно отвел его в угол к камину, позвал двух юнкеров. Явилось целых трое. Он прикрикнул, почему трое, а не два, как он приказал, потом поставил двух из них с обнажёнными шашками около Горемыкина и приказал „никого не допускать к арестованному”» [«Грани» (Франкфурт-на-Майне), 1983, №130, с.52].
По описанию В.Н. Шаховского, арестованный Горемыкин носил голубую ленту и звезду Андрея Первозванного над пиджаком. Граф де Шамбрен в записках за 14 марта писал, что Великий Князь Кирилл прибыл к Таврическому дворцу «с музыкой, с красным знаменем, развевающимся на ветру» во главе полка, а Горемыкина вытащили из кровати и орден Святого Андрея он привязал поверх шубы [А.Н. Бенуа «Мой дневник. 1916-1918» М.: Русский путь, 2003, с.125].
«Привозили на грузовиках под улюлюкание толпы бывших сановников. Как сейчас помню, старика Горемыкина на козлах грузовика рядом с шофёром, а сзади десятки разнузданных солдат с винтовками» [А.А. Татищев «Земля и люди. 1906-1921» М.: Русский путь, 2001, с.260].
Г.Г. Перетц писал, что первым из министров, считая и бывших, был доставлен Б.В. Штюрмер в 8 ч. утра 28 февраля. В 10 ч. П.Г. Курлов и митрополит Питирим. В 12 ч. министр здравоохранения Г.Е. Рейн, градоначальник А.П. Балк и его помощники. В 18 ч. привезли А.И. Дубровина, в 20 ч. министра юстиции Н.А. Добровольского. Затем А.А. Макаров и А.Д. Протопопов. Согласно этой последовательности, за ними идёт И.Л. Горемыкин в 22 часа, затем генерал А.П. Вернанден, А.С. Стишинский.
По другой хронике революции, приводится уточнение: Горемыкина доставили на грузовике к 13 ч. дня 28 февраля [«Как совершилась великая русская революция» Пг.: Народоправная Россия, 1917, с.42].
Не изменяя себе, и в столь исключительных обстоятельствах Горемыкин вёл себя невозмутимо, «даже не волновался», что его недалёкие охранники сочли за тупость. Свидетельство врагов Горемыкина на этот счёт согласуется с рассказами его сторонников. Но революция по любому вопросу порождает и лживую мифологию.
В.Л. Бурцев вспоминал, что единственный раз видел И.Л. Горемыкина, привезённого на грузовике. «Бледный, раздавленный, с глазами, в которых застыл ужас». Фантазёр Бурцев едва ли может ручаться за точность произведённого им чтения по глазам. Более убедительное свидетельство, что Горемыкин не волновался, опровергает очевидный вымысел Савича про запуганность. Надетым высшим орденом Горемыкин сознательно демонстрировал революционным преступникам размеры своих государственных заслуг и недосягаемый для них уровень политического величия. Это был акт политического акционизма, в очередной раз выделивший исключительность фигуры Горемыкина и несломленность духа.
Горемыкин отнюдь не растерялся, а заранее проявил смекалку, как, выставляя напоказ орден, не позволить лишить себя награды и доставить своим противникам неудобства. По воспоминаниям арестованного К.Д. Кафафова, Керенский, уже в качестве министра юстиции, вечером 1 марта пытался заставить Горемыкина снять орден, но Андреевская цепь была закреплена прямо «на теле» и потребовалось бы сперва снять одежду. Это помешало Керенскому получить желаемое. Хоть в чём-то, но Горемыкин снова переиграл врага [«Вопросы истории», 2005, №6, с.89].
В первом микрогулаге арестованные не имели права ни поговорить, ни даже двинуться без разрешения. Ходить кругом по комнате они должны были по команде. В уборную также нельзя было идти без разрешения. Ночью они спали на креслах. Самых важных министров держали в маленькой комнатке, отдельно от министерского павильона. В ней было очень жарко, а при проветривании сильно дуло. Там были Шаховской, Барк, Горемыкин, Белецкий, Голицын. Они сидели вокруг небольшого стола, заваленного снедью.
По воспоминаниям арестованного министра Шаховского, Штюрмер держался рядом с Горемыкиным, Маклаков получил при аресте удар штыком в голову. Аресты контролировал Керенский, он же делал обходы заключённых, высокомерно держал себя, заставил А.С. Стишинского встать. «Крайне дерзко» вёл себя и начальник караула масон Знаменский, приятель Керенского.
Перешедший на агитационное обсуживание коммунистов военный журналист вспоминал, как в Таврическом дворце заклятый враг свободы и парламентаризма И.Л. Горемыкин, «никем не тревожимый, дремлет в кресле в одной из зал под охраной часового. На него бросают мимоходом взгляды и лёгкие добродушно-саркастические улыбки. Ярость толпы – только Сухомлинову» [В.А. Апушкин «Генерал от поражений» Л.: Былое, 1925, с.7].
1 марта в 22 часа появился Керенский и посадил 11 человек в 4 автомобиля: в Петропавловскую крепость тем самым он переправил Горемыкина, Щегловитова, Штюрмера, Добровольского, Макарова, Сухомлинова, Хабалова, Комиссарова, Белецкого, Курлова, Протопопова [Г.П. «В цитадели русской революции» Пг., 1917, с.37-65].
Перевод в крепость лицемерно объясняли заботой об ограждении от народного гнева. В тюрьму были отправлены как формально арестованные, так и генералы и сановники, которых не разыскивали для нейтрализации, но кто сам пришёл в Таврический дворец чтобы обезопасить родных [В.Н. Эдлер фон Ренненкампф «Воспоминания» М.: Посев, 2013, с.131].
Бывший министр В.Н. Коковцов не был опасен для революционного правительства и не попал в списки подлежащих аресту выдающихся русских политиков. Однако выпущенные на свободу демоны революции торопились перевыполнить планы по наполнению тюрем и по насаждению в России социализма. При попытке обналичить чек в банке В.Н. Коковцов был задержан бдительными борцами с капитализмом и частной собственностью. Его препроводили к заключению не в Таврический дворец, а в Городскую думу.
Вечером 2 марта в Петрограде передавали, будто И.Л. Горемыкин скончался в Г. Думе, как и Б.В. Штюрмер [Ф.Я. Ростковский «Дневник для записывания» М.: РОССПЭН, 2001, с.56]. У другого летописца, морально куда менее симпатичного, радующегося революционным арестам и убийствам, есть запись 5 марта: «передают, что Штюрмер, Горемыкин, Протопопов, Щегловитов и многие из деятелей мрачной эпохи – кто арестован, а кто убит» [В.П. Кравков «Великая война без ретуши. Записки корпусного врача» М.: Вече, 2014, с.295].
После ареста отца 1 марта к нему пытался пробраться Михаил Горемыкин. Только на другой день, забинтовав лицо и воспользовавшись удостоверением от Государственного земельного банка, он проскочил в Таврический дворец. Встреченный депутат Кугушев тогда думал, что Иван Логгинович уже убит и всё катится в пропасть. Только поздним вечером Михаил Иванович добился от Родзянко, что отец в крепости и этим заведует Керенский. При переводе в Петропавловскую крепость сопровождавший министров эсер Зензинов видел, как Горемыкину было трудно подняться по узкой чугунной лестнице. Вся процессия арестованных остановилась, пока Горемыкин, утомлённый переходом и тяжелой медвежьей дохой, собрался с силами [«Февраль 1917 глазами очевидцев» М.: Айрис-пресс, 2017, с.150, 201].
В документальном романе, основанном на письмах дочери Хабалова и других документах, имеется художественная реконструкция вывода из Таврического дворца: «Хабалов оказался в шестой или седьмой паре. Вместе с ним вызвали Ивана Логгиновича Горемыкина». «Хабалов помог Горемыкину. Тот слегка стонал и покряхтывал» [Л. Пантелеев «Верую. Последние повести» Л.: Советский писатель, 1991, с.349].
А. Ксюнин в «Вечернем Времени» сообщал, что Горемыкина привезли на грузовике «полумёртвым». Е.А. Нарышкина в дневнике за 4 марта записала, что Горемыкин заболел после увоза в открытом грузовике. 9 марта ей стало известно, что из всех арестованных министров одному Горемыкину по болезни позволили есть белый хлеб – неслыханная революционная щедрость.
Насколько плохо, на грани смерти, чувствовал себя Горемыкин, показывают воспоминания агента английской разведки: «бывший премьер Горемыкин был очень болен и просил священника. Лекарства и препараты, оставшиеся у него дома, так и не были доставлены ему в Петропавловскую крепость» [Albert Henry Stopford «The Russian diary of an Englishman, Petrograd, 1915-1917» London: Heinemann, 1919. P.124].
9 марта 1917 г. в №2 Екатерининской куртины Петропавловской крепости А.Ф. Керенского видели разговаривающим с Горемыкиным. Всем заключённым Керенский объявил, что судить их будет суд присяжных, а Временное правительство признано всеми государствами мира. В изъятие из правил им разрешили носить свою одежду и вести записи в тетрадях. 13 марта в крепость прибыл президиум ЧСК и предъявил приказ Керенского об освобождении И.Л. Горемыкина и Н.Д. Голицына. В тот же день их выпустили [«Записные книжки полковника Г.А. Иванишина» // «Минувшее», 1997, №17, с.540, 542].
С.В. Завадский в декабре 1921 г. вспоминал что ходатайствовал перед Керенским за освобождение И.Л. Горемыкина, а потом просил дозволить ему выехать в Сочи.
На следующий день революционная печать сообщила об их участи. Экстремисты взбудоражились, и на заседании 15 марта ИК СРСД рассмотрел «заявление шофёра Макарова о том, что Горемыкин освобождён. Постановлено запросить Керенского» [«Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. 27 февраля – 31 марта» Л.: Наука, 1991, Т.1, с.294].
Аресту подвергся политический единомышленник Горемыкина, помощник и заместитель Н.В. Плеве. Его подвергли обыску и доставили в министерский павильон. Повторно подвергнется аресту в 1929 г. и погибнет в советских лагерях.
Всюду, как вскоре напишет канонизированный РПЦЗ в 1981 г. священномученик Иларион (Троицкий) на примере Московской Духовной Академии, мартовская революция, докуда докатывалась, производила «огорчение и смущение» [М.Д. Муретов «Избранные труды» М.: Издательство Свято-Владимирского братства, 2002, с.32].
Василий Гурко, верный Царю генерал, как только узнал о свержении Николая II, ожидал самого худшего: «Как это было можно! Теперь Россия потонет в крови!..» [«Генерал Геруа» М.: Посев, 2018, с.395].
Княгиня Кантакузина, судя по её воспоминаниям, продолжала поддерживать контакт с Горемыкиным, несмотря на революцию. Она опровергает вымыслы противников Горемыкина, пытавшихся поквитаться с ним хотя бы в мемуарах и позлорадствовать над арестованным. Подтверждается, что запугать его не удалось никому. «Горемыкин, вопреки немощному телу», в отличие от Б.В. Штюрмера, не переживал, что революционеры могут его обезглавить, «был другим типом; поверх сюртука он надел большую цепь ордена, пожалованного ему Императором. Он оставался величавым и спокойным в трагикомическом облачении. Он был храбр и верен своим основным принципам, несмотря на шаткость физических сил. Вскоре его освободили». «Горемыкин терпеливо ожидал своей участи, регулярно повторяя замечание, что это естественно оказаться узником в результате революции» [Princess Cantacusene «From the Romanoffs to the Bolsheviki» // «Saturday Evening Post» (Philadelphia), 1920, №19, November 9. P.7].
18 марта на допросе ЧСК А.Н. Хвостова спрашивали про кружок Андроникова, бывал ли там Михаил Горемыкин, что не подтвердилось.
Дома у И.Л. Горемыкина 21 марта проходил обыск с изъятием личной переписки.
22 марта новые власти сообразили уволить заместителя управляющего Крестьянским поземельным банком М.И. Горемыкина [«Журналы заседаний Временного правительства. Март 1917 – апрель 1917» М.: РОССПЭН, 2001, Т.1, с.162].
Французские левые газеты со злорадством писали об аресте Горемыкина и других министров, но ничего определённого не могли сказать о работе следственного комитета, повторяя прессу Петрограда [«Le Radical» (Paris), 1917, 14 Avril].
19 апреля министр юстиции Керенский предложил комиссару Государственного Совета лишить И.Л. Горемыкина денежного содержания, а также Н.А. Маклакова, А.С. Стишинского и других правых монархистов. Фамилия Горемыкина в стоп-листе значилась первой.
Украденный у И.Л. Горемыкина автомобиль стоимостью в 20 тыс. руб. затем оказался похищен у революционеров и потом много раз был перепродан [«Петербургский Листок», 1917, 21 апреля, с.4].
Арестованный последний министр юстиции Н.А. Добровольский писал из Петропавловской крепости 25 апреля: «Бог знает, когда этот кошмар кончится. Допрашивали меня раз по обстоятельствам, не имеющим серьёзного значения, но чувствуется злоба г.г. В. и Л., которым пришлось покинуть Министерство после моего назначения». 16 мая он добавлял: «мне предъявлено пока только одно обвинение и притом совершенно сказочное». Без всяких оснований министра продержали в пыточном режиме заключения до сентября, так ничего против него не сумев найти [Н.Н. Добровольский «Революционное правосудие. Из записок сына» // «Часовой» (Брюссель), 1951, февраль, №305, с.17].
В мае на сцене Нового театра Кохмановского ставилась новая пьеса «Весна семнадцатого года», среди действующих лиц которой оказался Горемыкин. Ремарки в помощь исполнителям звали его вопиюще старым, с пергаментной кожей, с бакенбардами и мешками под глазами. Две звезды на сюртуке. «Очень типичен». Появлялся он в балетной ложе, вместе с ним Николай II, Воейков, Протопопов, Фредерикс, Щегловитов, Нилов. Вызывает сомнение, чтобы в таком сочетании эти лица когда-либо встречались в реальности. Горемыкин всё время дремлет, пропуская шутки, реплики и приходит в сознание на одно мгновение [Дон-Аминадо «Наша маленькая жизнь» М.: Терра, 1994, с.322-325].
Согласно записной книжке привлечённого к записи следствия А.А. Блока, допрос Горемыкина начался 15 мая с 13 ч. в Зимнем дворце. «Горемыкин. Породистый, сапоги довольно высокие, мягкие, стариковские, с резинкой, заказные. Хороший старик. Большой нос, большие уши. Тяжко вздыхает. Седые волоски. Палка чёрная с золотым колечком. Хороший сюртук, брюки в полоску. «Государя». Потом всегда прибавляет: «бывшего»». «Руки» «красноватые и в веснушках». «Облокачивается на руку». «Говорит еле слышно почти всегда». Манера разговора Горемыкина злила Муравьёва, председателя комиссии, которому не удавалось добиться желательных признаний. После окончания допроса «Горемыкин хитренько намекнул, что ему, как особе I класса, хотелось бы видеть следователя у себя на квартире (Фурштадтская, 14). Любезно поклонившись, он ушёл, ведомый под руку Лесневским».
Арестованный за причастность к революционной пропаганде, Н.К. Муравьёв в 1898 г. провёл в заключении 4 месяца. Тогда во главе МВД стоял Горемыкин.
В переписке Блок повторял те же литературные фразы про смерть в глазах Горемыкина, что оставлял и в личных записях, но, похваляясь наблюдениями над низвергнутым революцией достоинством, добавлял некоторые красивости: «в понедельник во дворце допрашивали Горемыкина, барственную развалину; глаза у старика смотрят в смерть, а он всё ещё лжёт своим мягким, заплетающимся, грассирующим языком; набежит на лицо тень улыбки – смесь стариковского добродушия (дети, семья, дом, усталость) и железного лукавства (венецианская фреска, порфирная колонна, ступени трона, государственное рулевое колесо), – и опять глаза уставятся в смерть». При всём враждебном предубеждении к опорам рухнувшего трона, Блок всё-таки подпадает под обаяние доброты Горемыкина, которую так ценил Император.
О допросе Горемыкина газеты сообщали, что при нём за 22 месяца было издано 384 акта по ст. 87 ОГЗ, и вопросы к нему касались порядка роспуска Г. Совета и Думы, мероприятий по ограничению печати и распространения закона о военной цензуре, изданного в 1917 г. тоже по ст. 87. Сообщалось и о допросе Горемыкина по вероисповедным ограничениям, не имеющим отношения к обороне страны.
Газета Горького и Суханова про допрос Горемыкина 15 мая писала, что среди распоряжений Горемыкина, о ужас, были введены во время войны новые налоги. Пересказывая лживые и несостоятельные обвинения, газета не представила для читателей исчерпывающие ответы, которые дал Горемыкин [«Новая жизнь», 1917, 17 мая].
По выбранной лексике опубликованные записи допросов содержат упомянутые Блоком поправки: «государя императора; бывшего государя императора». В некоторых случаях оставлено исходное выражение: «это зависело только от отъездов государя. Он иногда писал бланковые утверждения перед отъездом своим в ставку». Н.К. Муравьёв довольно долго повторял не имеющие никакого значения вопросы о порядке выставления даты роспуска Г. Думы. И.Л. Горемыкин упорно повторял: «принципиально решалось это бывшим государем». Упёртость Н.К. Муравьёва действительно, как пишет Блок, вызвала вздох И.Л. Горемыкина, отмеченный в стенограмме и даже в прямой речи: «извините, пожалуйста, я так, немножко тяжело вздохнул, мне тяжело говорить», «у меня был удар». «Мне только предоставлялось право проставлять числа, больше ничего», «самый вопрос о роспуске Думы был уже разрешён раньше». «Число как же государь может проставить? Понятное дело, это невозможно». «Этого не никогда не было. Число всегда писал я». «Государь делал свои распоряжения вперёд» [«Падение царского режима» Л.: Госиздат, 1925, Т.III, с.304-310].
Довольно часто И.Л. Горемыкин, не желая пускаться в длительные, утомительные и бессмысленные перепирательства по очевидным вопросам обрубал их репликой «Я не помню». Примерно такую тактику опоры на свои законные права избрал арестованный Король в пору антифранцузской революции на преступнейшем судилище, которое противоречило даже насильственно учреждённой конституции [К.Н. Беркова «Процесс Людовика XVI» М.: Ленанд, 2015, с.136-159].
Временное правительство желало найти хоть какие-то преступления Царских министров. Особенно наседали на И.Л. Горемыкина, но ничего не удавалось. Следователь А.Ф. Романов вспоминал: «Очень любопытен был допрос в качестве свидетеля И.Л. Горемыкина. Муравьёв вместо того, чтобы задавать ещё вопросы, разразился громкой обвинительной речью. Горемыкин не без ехидства прервал его вопросом: «Вы это меня обвиняете или допрашиваете?». Когда же Муравьёв несколько раз с пафосом воскликнул: – «На каком основании Вы провели такие-то и такие-то законы по 87 ст.?», то Горемыкин с невозмутимым спокойствием потребовал огласить текст этой статьи и ответил: «На точном основании этой статьи». Вообще надо отметить, что большинство представителей старой власти на допросах держали себя с большим достоинством и часто своими остроумными ответами ставили Муравьёва в весьма смешное положение» [«Русская Летопись» (Париж), 1922, Кн.2, с.29].
Ещё один политический раунд И.Л. Горемыкин сумел оставить за собой.
А.Ф. Романова следует считать надёжным источником, поскольку он ещё до публикации протоколов по памяти точно воспроизвёл их содержание. Действительно, есть фраза И.Л. Горемыкина: «пожалуйста, покажите мне эту статью». И ответ после прочтения её текста Н.К. Муравьёвым: «буквально так и понималось советом министров». Описанное же мемуаристом ехидство усматривается в вопросах допрашиваемого Горемыкина: «Я понимаю; а что же вы хотите этим сказать?». «Вы ставите мне это в вину?».
22 мая Н.К. Муравьёв поручил Блоку обработку допроса Горемыкина и особенно исправление его речи. До 28 мая Блок работал над редактированием данных Горемыкиным показаний на 35 страниц стенографического отчёта, 14 июня Блок проверял работу над его показаниями и приводил в окончательный вид 23 июля [А.А. Блок «Последние дни Императорской власти» М.: Прогресс-Плеяда, 2012, с.116-344].
Работа над текстом Горемыкина за 26-м мая записана в ряду с признаниями о провале завоеваний революции. «Горемыкин – опять вхожу в стиль. Я вхожу в него, а на улице – не то взрывы, не то выстрелы, близко и далеко (и так часто), вечный хохот, праздное шатанье, гиканье, семячки, плаванье на лодках с барышнями и всякий такой большевизм, верх неблагополучия». Этот бардак лучшим образом обличал революционный пафос председателя ЧСК и попавшего ему в позорное услужение поэта [А.А. Блок «Собрание сочинений» Л.: Художественная литература, 1982. Т.5, с.210, 215]. Благорасположенные к поэту историки утверждают, что на Блока оказывали давление, чтобы он оформил допрос И.Л. Горемыкина более «литературно». Блок сделал «максимум исправлений», не менявших, однако, смысла [«Путь и выбор историка. К 80-летию профессора В.В. Шелохаева» М.: РОССПЭН, 2021, с.497].
В дальнейшем Блок подпал и под большевизм, в мае 1918 г. Сологуб с полным основанием заявил что не намерен более ни встречаться с ним, ни подавать руки [Г.В. Адамович «Литературные заметки» СПб.: Алетейя, 2002, Кн.1, с.233]. Поэму Блока «Двенадцать» большевики использовали в качестве революционной пропаганды против Белого Движения [«Красноярский библиофил». Выпуск 1987, с.36].
О таком насаждении революции лживо выдаваемым за народ антикультурным меньшинством Огюстен Кошен точно сформулировал, что «свобода» может «царить лишь с помощью обмана и насилия». Это лучшее определение политической свободы [О. Кошен «Малый народ и революция» М.: Айрис-пресс, 2004, с.189].
Из работников ЧСК очерк о Горемыкине должен был написать М.П. Миклашевский, и он же, согласно плану Е.В. Тарле, обязан был предстать Учредительному собранию в составе доклада ЧСК.
По прошествии многих лет Василий Маклаков охарактеризовал муравьёвские протоколы с их революционным запалом: «они производят впечатление скрипа ножом по стеклу, так в них всё фальшиво и лживо» [«Права человека и империи». В.А. Маклаков – М.А. Алданов. Переписка 1929-1957. М.: РОССПЭН, 2015, с.285]. Другой к.-д., А. Шингарёв звал ЧСК срамной комиссией и испытывал стыд перед царскими министрами, которых держали под арестом без предъявления обвинений [П.Д. Долгоруков «Великая разруха» Мадрид, 1964, с.71].
Когда на никому не нужное заседание Государственной Думы 3 июня 1917 г. не явился ни один министр Временного правительства, в «Новом Времени» написали, что Г. Львов ведёт себя как Иван Горемыкин.
Столь упорно добивавшийся отставки И.Л. Горемыкина М.В. Родзянко выглядел жалко и, по воспоминаниям В.М. Вонлярлярского, в полном расстройстве, признавался: «чувствую, что надо что-то делать, но что именно?.. Мозгов не хватает» [«Новое Русское Слово» (Нью-Йорк), 1939, 11 июня].
16 июня Н.К. Муравьёв на съезде СРСД выступил с докладом, утверждая, что Горемыкин, Штюрмер и Протопопов «прямо требовали» у Императора заранее подписанные бланки о роспуске Г. Думы. Лжец прямо противоречил всему сказанному Горемыкиным.
За неимением оснований для суда, новая власть вынуждена была отстать от Горемыкина, хотя его преемник, Борис Штюрмер, погиб в демократических застенках от пыток и издевательств.
«Семье б. премьера И.Л. Горемыкина удалось после настоятельных ходатайств получить от верховной следственной комиссии удостоверение в том, что против бывш. председателя Совета Министров в данный момент не возбуждено никаких судебных обвинений; однако, в виду показаний заключённых под стражей Н.А. Маклакова и бывшего тов. министра Белецкого, комиссия не считает своё мнение окончательным и Горемыкина освобождённым от всяких обвинений; потому судебным установлениям предлагается иметь в виду относительный характер данного бывшему премьеру удостоверения. По словам врачей дни И.Л. Горемыкина сочтены; без посторонней помощи он не в состоянии двигаться» [«Рижский Вестник», 1917, 29 июля, с.3].
За неделю до этого сообщалось, что министр юстиции П.Н. Переверзев отказал И.Л. Горемыкину в выезде в Крым или Кавказ. Но повторное обращение М.И. Горемыкина о разрешении отцу отправиться в Царское Село было удовлетворено.
В связи с этим эмигрант Ф. Винберг приводил пикантную историю некоего доктора Р. В начале 1900-х к нему привезли Керенского «в состоянии полного сумасшествия», тому сделали трепанацию черепа. «Р. понадобилось просить помощи у Керенского для спасения близкого ему человека, старика И.Л. Горемыкина», «Керенский выдал подписанное им приказание об освобождении Ивана Логгиновича» из благодарности за своё спасение [И.С. Глазунов «Россия распятая» М.: Голос-пресс, 2008, Т.I, Кн.1, с.279-282].
Вероятнее всего, это одна из многочисленных легенд революционных времён, но на всякий случай не стоит совершенно её игнорировать. Со многими обошлись гораздо более сурово.
Только 16 сентября было решено освободить Б.В. Фредерикса под залог в 50 тыс. руб., и эту сумму внесли 23 сентября.
Против графа Фредерикса ЧСК нашла единственный “компромат” в официальной просьбе начальнику дворцовой охраны принять на службу поваром определённое лицо [Ювенал «Мировая угроза. Этапы русской революции» Константинополь, 1921, с.6].
А.С. Стишинский оставался в Петропавловской крепости целых 9 месяцев от февраля 1917 г. С 1918 г. он уехал в Полтаву, от гетмана Скоропадского перебрался к Деникину, затем вынужденно отправился в Константинополь, где умер в лазарете от воспаления лёгких.
В.Н. Воейков содержался в Петропавловской крепости, в сентябре переведён в больницу, из которой бежал в дни октябрьского переворота [«Князь Императорской крови Игорь Константинович 1894-1918» М.: Буки Веди, 2014, с.461].
Как и многие русские контрреволюционеры, И.Л. Горемыкин отправился на Юг России из красного Петрограда. Уже в его отсутствие, в докладной записке в ЧСК 13 октября 1917 г. Блок писал, что допрос Горемыкина характеризует бюрократию, умывающую руки.
Переворот большевиков и дальнейшее разрастание революционных бедствий закономерно вызвали правый поворот у многих, кто ещё недавно надеялся на социалистов. Е.И. Лариер писала в дневнике 17 ноября: «многие, даже из народа, жаждут царя и покоя. Я всё правею и правею и, наверное, доправею до монархистки» [«Претерпевший до конца спасён будет» СПб.: ЕУ, 2013, с.146].
Предотвратить все эти тяжкие последствия падения Российской Империи следовало заранее, беря в пример верность И.Л. Горемыкина Императору Николаю II и всех христианским, контрреволюционным принципам. Иван Горемыкин во всём следовал за Государем и разделил трагическую участь Царской Семьи.
Смерть настигла выдающегося русского политика вдалеке от столиц, сообщения о совершённом ужасном преступлении очень обрывисты и противоречивы.
Москвич Н.П. Окунёв 22 декабря 1917 г. в дневнике записал, что в Сочи убиты «разбойничьим манером» Горемыкин, его жена, дочь и зять.
Проживавший в Сочи Воронович оставил самое подробное описание (несколько неточное по дате) их трагической гибели: «Горемыкин жил за городом на даче и в январе месяце был убит с целью ограбления какими-то неизвестными бандитами, арестованными вскоре после убийства и в свою очередь убитыми на базаре разъярённой толпой, расправившейся с ними самосудом» [Н. Воронович «Меж двух огней (Записки зелёного)» // «Архив русской революции», Берлин, 1922, Т.7, с.78-79].
Надо учитывать, что сам Воронович прибыл в Сочи только 1 марта 1918 г. по ст. ст. и потому рассказывает спустя несколько лет то что узнал не моментально после совершённого злодеяния.
В.Б. Лопухин слышал, что семью Горемыкина убили бандиты, напавшие на дачу. Г.Н. Михайловский пишет, что Горемыкины были «зверски» убиты «большевиками». Генерал Василий Гурко винит в его убийстве анархистов. Английский писатель сообщает, будто «Старый Горемыкин был задушен разъярённой толпой» [B. Pares «The Fall of the Russian Monarchy. A Study of the Evidence» London, 1939. P.500].
В 2007 г. в слабенькой книге «Григорий Распутин-Новый» А.Н. Варламов написал, что Горемыкин погиб «от рук неизвестных». В комментариях к изданию дневников Императора Николая II в 2011 г. оказалось прибавлено, что убийцами Горемыкина были революционные матросы.
Первые газетные сообщения передали, что И.Л. Горемыкин убит «с целью грабежа» [«День», 1917, 17 декабря, с.4]. Беспартийная газета «Нижний Новгород» 6.1.1918 г. почему-то сообщила о его убийстве «в результате третьего покушения» [В.П. Булдаков, Т.Г. Леонтьева «1917 год. Элиты и толпы» М.: ИстЛит, 2017, с.552].
«Имение подвергнуто полному разгрому». «И.Л. Горемыкина я прекрасно знал и всю семью его». «По характеру своему он был очень благодушен и приспособителен. Поэтому он и выдвигался в потребные моменты политической жизни. Кто, а более всего он сам, мог ожидать, что его постигнет такая кончина?» [Митрополит Арсений (Стадницкий) «Дневник. На Поместный Собор. 1917-1918» М.: ПСТГУ, 2018, с.175].
Жестокая участь И.Л. Горемыкина и возмездие, настигшее его убийц, явились одним из эпизодов грандиозной Гражданской войны, начавшейся в России из-за утопического обманного пропагандистского помрачения социалистическими иллюзиями и увлечения дешёвыми фантиками демократических голосований, в лучшем случае ничтожных, чаще губительно опасных. Мученичество И.Л. Горемыкина окончательной ясностью закрепляет несомненную правоту его убеждений, христианское величие нравственной силы подвига верности.
Сын Горемыкина, Михаил Иванович, не был подле него в последние его минуты и потому остался в живых. Свидетели замечали его на Кавказе.
Киевские к.-д. в конце сентября 1918 г. слушали записку Горемыкина, прочитанную Д.А. Олсуфьевым, о создании союза окраинных государств для объединения России. Записку написал, конечно, не И.Л. Горемыкин, как написали в неразборчивых примечаниях, а его сын Михаил [П.Н. Милюков «Дневник 1918-1921» М.: РОССПЭН, 2004, с.161].
Идея союза окраинных государств для сокрушения совместными усилиями большевизма полностью соответствовала текущей политике атамана П.Н. Краснова и саботировалась Деникиным.
После героического свидетельства Белого Движения о несовместимости русского и советского Михаил Горемыкин вынужденно отправился в эмиграцию.
В Константинополе М.И. Горемыкин действовал в «Группе русских общественных и политических деятелей» вместе с С.Н. Родзянко, А.С. Гижицким, Г.Г. Карповым, упомянутыми вместе в журнале заседания Константинопольской группы к.-д. 7 апреля 1921 г. Отмечено участие М.И. Горемыкина в переговорах по теме федеративного устройства России и украинскому вопросу [«Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии» М.: РОССПЭН, 1996, Т.4, с.280].
В Константинополе М.И. Горемыкин вошёл в Совет Союза землевладельцев и собственников и был послан им в Берлин для объединения действий с Союзом владельцев недвижимостями в России [«Руль» (Берлин), 1921, 1 сентября, с.5].
Имеется небольшая справка, что Михаил Иванович возглавлял Константинопольский Союз Спасения Родины, от имени которого осенью 1921 г. вошёл в Организационное Бюро по организации монархического съезда. 13 декабря в Берлине М.И. Горемыкин прочитал доклад «Русская Армия на чужбине» на вечере в честь Белого Движения [«Труды учредительной конференции Русского Народно-Монархического Союза» Мюнхен: Восстановление, 1922, с.3].
В Париже среди русских обнаружилось преобладание правых монархистов. «Масса разных комиссий по реставрации Монархии работает денно и нощно» [К.Н. Гулькевич «Письма к Олафу Броку 1916-1923» М.: НЛО, 2017, с.244].
Днём 2 марта 1922 г. помечен написанный в Берлине очерк М.И. Горемыкина об аресте его отца, напечатанный в журнале Высшего Монархического Совета. Приходится сожалеть, если это единственные написанные им воспоминания.
12 июля 1922 г. главнокомандующий барон П.Н. Врангель писал М.И. Горемыкину о своей приверженности возрождению «монархического образа правления» [Л.К. Шкаренков «Агония белой эмиграции» М.: Мысль, 1987, с.28].
20 ноября 1922 г. в присутствии всего Высшего Монархического Совета и Н.Е. Маркова, М.И. Горемыкин прочёл доклад на тему «Русская армия жива». Доклад нашли блестящим по форме, слушали с большим вниманием. В нём уделялось внимание критике союзников России по Антанте [«Русская военная эмиграция» М.: Гея, 1998, Т.1, Кн.2, с.435].
Старый приятель Михаила И.И. Тхоржевский поддерживал с ним дружбу и в эмиграции, хотя политически они разошлись. Тхоржевский на несколько лет вступил в эмигрантское масонство и позволял себе говорить про «полное политическое ослепление наверху» перед 1917 г.[Ив. Тхоржевский «Земля и Скифы» // «Вестник Русского Национального Комитета» (Париж), 1923, 20 июня, №4, с.11].
М.И. Горемыкин вошёл в группировку Великого Князя Андрея Владимировича, поддерживал Кирилла, но хотел примирить его со сторонниками В.К. Николая Николаевича. За это Мосолова и Горемыкина ложно обвиняли в принадлежности к масонству [«Русская военная эмиграция» М.: РГГУ, 2013, Т.6, с.365, 387].
В кириллистской печати, низко павшей вплоть до прославления младороссов и отвержения вооружённой борьбы с большевизмом, весь Высший Монархический Совет относили к прислужникам незримых мировых сил Золотого Интернационала [«Луч. Орган легитимно-монархической мысли» (Белград), 1932, №3, с.3].
По данным ГПУ, Великий Князь Кирилл Владимирович устанавливал связь с П.Н. Красновым, партией Эриха Людендорфа и баварскими правыми. «При участии Горемыкина на Юге Франции состоялся целый ряд совещаний о дальнейших действиях и работе монархистов. Ныне Горемыкин вернулся в Берлин и на днях выезжает в Сербию для свидания с генералом Врангелем. Очевидно, Горемыкин постарается склонить Врангеля к признанию Кирилла Владимировича» [«Протестное движение в СССР (1922-1931)» М.: Прометей, 2012, с.121].
Согласно протоколу группы монархистов, собиравшихся вокруг А.Ф. Трепова и поддерживавших Великого Князя Николая Николаевича, герцог Г.Н. Лейхтенбергский с явным одобрением упоминал, 29 марта 1925 г., о старании Михаила Горемыкина преодолеть раздоры между признающими Кирилла Императором и отрицающими этот титул. М.И. Горемыкин старался учредить Союз Объединённых Монархистов, действуя по своей инициативе, а не от Великого Князя Кирилла [«Российский Зарубежный Съезд. 1926» М.: Русский путь, 2006, с.227]. Многие монархисты обращали внимание, что «рознь в Царской Семье», «схватка двух Князей взаимно подрывает их силы и авторитет», однакоКирилл Владимирович ещё и отвергает важнейшие принципы Самодержавия и Православия [«К Русской Молодёжи» Париж, 1925, с.10].
М.И. Горемыкину содействовали Н.Н. Шебеко и А.А. Мосолов, предлагая объединение на монархическом принципе, а не на том или ином спорном лице, что соответствовало ранней рейхенгалльской программе [«Высший Монархический Совет. Еженедельник» (Берлин), 1925, 19 июля, №139, с.8].
В 1926 г. М.И. Горемыкин был избран делегатом от монархистов на крупнейший Русский Зарубежный Съезд от Парижа и его окрестностей. После Съезда газета «Возрождение» создала Российское Центральное Объединение, в главный совет которого по Франции вошёл М.И. Горемыкин.
Умер Михаил Горемыкин 16 марта 1927 г. в Ницце. Многие замечали, что именно в том городе в самом значительном числе собрались наиболее правые и непримиримые монархисты из всей эмиграции [«Диаспора», 2001, Вып.1, с.646].
В том же 1927 г. была сожжена любимая усадьба И.Л. Горемыкина в селе Белое. Дуглас Смит в книге «Бывшие люди. Последние дни русской аристократии» пишет, что к 1945 г. 95% усадеб были разграблены, брошены и уничтожены: «огромное культурное наследие было фактически стёрто с лица земли».
Из родственников И.Л. Горемыкина, оставшихся в СССР, А.И. Капгер недолгое время возглавлял Общество любителей древности в Новгороде, просуществовавшее с 1894 г. до 1928 г. Он служил лесничим и прежде посещал общество как рядовой участник. «А.И. Капгер был воплощением аккуратности, методичности, добросовестнейшего отношения к раз принятым на себя обязанностям». Своего помещения у общества не имелось, председатель вёл дела у себя на квартире. При нём заседания общества приняли устойчивый характер, был выпущен сборник трудов общества, не выходивших с 1919 г. [Н.Г. Порфиридов «Воспоминания» // «Новгородский исторический сборник», 1982, №1 (11), с.242, 274-275].
В Новгороде работал также археолог и искусствовед Михаил Константинович Капгер.
Эмигрантские газеты сообщали, что «дочь сенатора Мясоедова племянница бывшего премьера Горемыкина давно уже находится в заключении в одном из северных лагерей и вследствие ужасающих условий жизни ослепла» [«Сегодня» (Рига), 1930, 31 июля, с.5].
Регулярно чтилась память о И.Л. Горемыкине в эмиграции на ежегодных благотворительных собраниях выпускников Училища Правоведения, «в своей дружеской семье, в обстановке старой России». К.П. Победоносцев и И.Л. Горемыкин считались главной гордостью выпускников [«Возрождение» (Париж), 1939, 3 марта, с.12].
На квартире Н.П. Горемыкиной в Париже на рю Сен Доминик проходили ежемесячные обеды бывших воспитанников Императорского Александровского Лицея.
Последние свидетельства о семье Горемыкиных относятся ко времени позднее смерти Михаила Ивановича. Его супруга доживёт до 17 мая 1950 г. Во втором браке она приняла фамилию Понтийон. После службы в русской кавалерии, бежавший от большевизма князь Пётр Ишеев записал, как занимался комиссионными делами в Париже и познакомился с пожилой бывшей актрисой Императорского Александрийского театра Святополк-Мирской.
«Она только что вернулась тогда из Америки, где читала лекции. Завязала, благодаря этому, знакомства и умудрилась достать у какой-то американки 5000 долларов на дело своей племянницы Н.П. Горемыкиной, жены сына бывшего министра И.Л. Горемыкина. Горемыкина была тогда вдовой и жила со своим сыном без всякого дела в Париже, сильно нуждаясь. Всё это мне рассказала Святополк-Мирская и прибавила, что она решила дать эти деньги Горемыкиной, но с тем условием, чтобы она открыла столовую. Просила меня найти для этого помещение и вообще помочь ей в этом деле. Чувствуя, что из этой затеи ничего путного не получится, я не советовал Мирской открывать столовую, а употребить эти деньги на что-либо другое, что может сулить успех. Но она была непреклонна, уверяя, что Горемыкина умеет хорошо готовить и она чувствует, что это дело у нее пойдёт. Прежде всего, я начал искать для этой цели квартиру. Обратился к своему знакомому капитану Машкоуцяну, быв. Командиру автомобильной роты. Его отец богатый человек, давно уже живший в Париже, инженер, строил тогда там дома. И один новый дом дал в управление сыну. В этом доме, невдалеке от Шан де Марс, Горемыкина и сняла хорошую квартиру, во 2-м этаже, где и открыла столовую. А так как она всецело была занята кухней, то мне пришлось всё остальное взять на себя. Благодаря широкому знакомству, которое имела Горемыкина, у нас заказывали обеды многие объединения. Всегда устраивали Правоведы (муж Горемыкиной был правовед), л. гв. Измайловцы, л. гв. Драгуны, Белорусские гусары, причём приходил их быв. Командир, генерал Миллер, и сам составлял меню обеда» [П.П. Ишеев «Осколки прошлого. Воспоминания 1889-1959» Нью-Йорк, 1959, с.152].
Большевики думали, что смогут искоренить политическое существование русских монархистов, преследуемых красными во всех оккупируемых ими странах. Истребление носителей подлинной русской культуры внутри Советского Союза, совершалось как основное средство построения революционного тоталитаризма – худших из всех возможных политических порядков. Задачи преодоления советского традиционализма и революционной имитации патриотизма оказываются не решаемы без всестороннего противопоставления их кажущемуся пропагандистскому могуществу контрреволюционных политических принципов Царской России. Император Николай II и его предшественники показали на деле каким образом возможно успешно противостоять самым масштабным левым притязаниям на построение красного нового мирового порядка.
Фальшивая сверхдержавность СССР естественно пошла прахом. Закономерный развал социалистического лагеря доказал лживую утопичность левых идей, во имя которых уничтожалось подлинное величие Российской Империи. Но временное поражение тоталитаризма заставило его сторонников сформировать ещё более опасную, скорректированную в интересах достижения новых пропагандистских манипуляций новую систему организованной лжи. Её контрреволюционное идеологическое разоблачение возможно на основании преемственного развития опыта наиболее выдающихся правых русских монархистов. Пример И.Л. Горемыкина оказывается в этом отношении одним из наиболее вдохновляющих и поучительных.
2016-2024
Красноярск — С.-Петербург
https://www.ozon.ru/product/ivan-goremykin-paladin-samoderzhaviya-1951812212
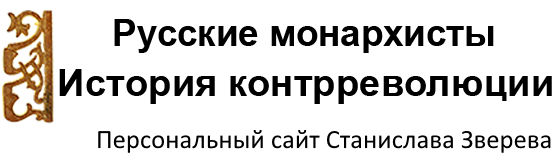
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.