Салонный «монархизм» и Гражданская война
Моральное разложение салонного «монархизма» в начале ХХ века отлично видно по знаменитым дневникам А.В. Богданович, как и по дневникам А.А. Киреева, А.А. Половцова и даже Л.А. Тихомирова, которые игнорировали все объективные успехи Царствования Императора Николая II, вместо них перетасовывая сплетни и ноя на свою отстранённость от политики. Вера Киреева и всей салонной компании в правление Мещерского или Филиппа лучше всего демонстрирует, что их суждения показывают собственную дезориентацию и мифозависимость, а не действительное положение страны.
А.Н. Боханов пишет об этом, давая свой личный монархический реванш за предисловие 1990 г.: «процесс эрозии убеждений неминуемо вёл к убыванию энергии», нехватке собственных действий, замещаемых жалобами на других. «Общий мотив в таких писаниях всегда один: на Престоле оказался «не тот Царь»», «ссылаться на мнение генеральши и подтверждать им любой общеисторический вывод – недостоверно и неправомочно», «высшее общество, пресловутый «столичный бомонд», был насквозь пронизан и пропитан мелкими сиюминутными страстями и личными страстишками» [предисл. А.В. Богданович «Три самодержца» М.: Вече, 2008, с.6,10].
Поскольку убожество А.В. Богданович, постоянным посетителем которой был Л.А. Тихомиров, и без того более чем часто разбиралось в современной литературе, можно убедиться в мелкоте названных страстишек по другой подобной фигуре: отодвинутый от политики бывший государственный секретарь А.А. Половцов. Если раньше все дела проходили через него, то в начале нового века приходилось кормиться одними сплетнями.
Дневник 6 июня 1901 г.: новый директор Императорских театров Теляковский – «ничтожный человек», «будет безмолвным слугой Кшесинской». Директор едва успел получить назначение, а Половцов поторопился вымазать его в ничтожности. Где было знать нашему блоггеру, что В.А. Теляковский будет управлять Императорскими театрами до самого 1917 года, и умелое администрирование в тот период не дало даже советским историкам найти в оценках его деятельности хоть что-то похожее на суждения «патриота” Половцова. И это при том, что приходилось считаться с действительным монархизмом Теляковского, его дневников и мемуаров.
Ещё более поразительный пример озлобленности и пристрастного самомнения Половцова. 16 января 1902 г. В Г. Совете слушался проект нового уголовного положения, для которого член гражданского департамента С.С. Гончаров предложил не наказывать смертной казнью покушение на жизнь любого члена Императорской Фамилии, а только – Государя и Наследника. Стоит ли говорить, с каким изумлением был выслушан Сергей Гончаров. Воцарилось «гробовое молчание», прервать которое взял на себя государственный секретарь В.К. Плеве: «все члены императорской фамилии столь дороги сердцу государя и священны русскому народу, что в этом случае нельзя отделять их от государя». Далее бывший госсекретарь Половцов пишет, что Плеве не считал закон «опасным» для террористов, т.к. не было примеров таких покушений. Немыслимо и думать, будто Плеве заботился о безопасности террористов, может быть, он сказал, что нет опасности для Императорской Фамилии, но не об опасности, какую закон несёт убийцам. Нелепая запись Половцова сама себе разоблачает заботу самого автора о революционерах, а не о Доме Романовых. Не единственная эта оговорка доказывает это.
Вот как Половцов записывает дальше: «Возмущённый наглой подлостью отвечающего г. Плеве, я выступаю в защиту Гончарова и говорю», что Закон Император Павел составил, когда у него было только два сына и вся Фамилия на этом исчерпывалась. Т.е. Половцов считает наглой подлостью заботу Плеве о сохранности Дома Романовых, а не о покушающихся революционерах. Вот уж где нет предела наглости и подлости Половцова! И это после убийства Боголепова, для которого Половцов не нашёл добрых слов и посмертно оскорблял в дневнике [«Красный Архив», 1923, Т.3, с.94, 111-112].
Легенда о 1-м, французском, «Распутине», записанная Половцовым, очень долго служила списывателям основным источником клеветы на Царскую Семью, касающуюся Филиппа. Записанные Половцовым беспардонные сплетни использовали столь же усердно, как «слинявшую» Россию, слабоволие Царя, истерию Царицы, всесилие Распутина, бюрократизм Империи и прочий набор глупостей, переписывание которого избавляло от всякого утруждения мысли.
Однако историки, не занимающиеся одним бесполезным переписыванием, разоблачили не только салонную клевету о Г.Е. Распутине. Был совершенно разбит милый революционным сердцам перечень причисления друга Царской Семьи Филиппа к оккультистам, масонам, шарлатанам, аферистам, к которым всю жизнь, будто бы, тянулись Государь и Государыня. Гиблое дело – ссылаться на дневники Богданович, Половцова или Тихомирова некритически. Если кто-то ещё не в курсе, то существует полноценное исследование «Их первый Друг». [С.В. Фомин «А кругом широкая Россия…» М.: Форум, 2008, с.545-725].
Действительность свидетельствовала о радикальном расхождении между реальностью и воображением охаивателей Царя и Империи. Данные хоть салонного «монархизма”, хоть революционных прокламаций, нисколько не уничтожали востребованность монархической идеи и монархического строя. Неуместно на основании того и другого рассуждать про «неспособность Николая II управлять министрами». О подобном пусть пишет генерал-от-кавалерии Киреев, занимающийся бумагомаранием. Но его компетентность в том, как следует управлять министрами, нулевая, если не отрицательная.
Вспомним ещё раз, на основании чего возник удобный противникам Царя шумок о Его слабоволии. С первых же дней Царствования Николай II несколько раз ставил на место дядю Владимира Александровича, посмевшего не подчиниться решениям Государя о назначении командира 1-й гвардейской пехотной дивизии. 26 ноября 1894 г.: «Во всём этом инциденте виновата моя доброта. Да, я на этом настаиваю, моя доброта, моя глупая доброта. Чтобы только не ссориться и не портить семейных отношений, я постоянно уступаю и, в конце концов, остаюсь болваном без воли и характера. Теперь я тебя не только прошу, но и предписываю исполнить мою прежнюю волю». Снова Император поставил на место зарвавшегося дядю в январе 1897 г., когда тот занял в театре Царскую ложу: «Моя жена и я считаем это совсем неприличным и надеемся, что такой случай в той или другой ложе больше не повторится!», «Не забывай, что я стал главой семейства и что я не имею права смотреть сквозь пальцы на действия кого бы то ни было из членов семейства, которые считаю неправильными и неуместными» [А. Крылов-Толстикович, О. Барковец «Великий Князь Владимир Александрович» СПб.: Абрис, 2010, с.226, 229].
То есть, очевидно, что такие Великие Князья и даже некоторые министры, зная о замечательной доброте молодого Государя, его деликатности и стремлении к поддержанию тёплых семейных отношений, то и дело пытались корыстно воспользоваться этой добротой Святого Царя. Но, воспринимая доброту как слабость, они жестоко просчитались, совершенно утратив и расположение, и доверие, и уважение Императора. Совершенно закономерно поэтому происходило постепенное отдаление между ними и полное отстранение их от политики.
Это последовательное стремление к самостоятельному правлению вызвало массовое недовольство у множества отстраняемых, а также и без того обделённых сплетников, к которым бывшие приближённые Царя присоединялись. Их россказни были просто манной небесной для широкого конституционного движения, которое всё на свете подметало под обоснование гибельности Самодержавия.
Советские историки постепенно, волей-неволей, вынуждены были отходить от основ лжи, на которые опиралась революция, последовательно избавляясь от всех возводимых на Государя напраслин. Не всем и не полностью это удалось. Но сейчас должно быть уже неприлично отступать от усвоенных выводов. В.А. Емец писал: Император Николай II «был твёрд в главном, отличаясь определённостью консервативных взглядов, самостоятельностью и последовательностью в отстаивании самодержавной и великодержавной политики». «По признанию Витте и Куропаткина, проявлял крепнувшую с каждым годом самостоятельность и упрямую волю в реализации своих планов» [«Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории» М.: Наука, 1994, с.62].
Вот почему Мещерский, Безобразов, Ухтомский, Бадмаев, Клопов, Филипп, Распутин, Танеева – любой друг или независимый информатор Царя был грозой всех недобросовестных или чрезмерно честолюбивых министров и Великих Князей, ибо Император Николай II не позволял держать себя в информационной блокаде, осведомлённость давала ему принимать верные решения, проверять правоту и честность своих сотрудников и быть совершенно независимым от любого советника или управляющего. А незаинтересованным в таком положении дел лицам больше всего на свете требовалось опорочить и устранить любого такого информатора.
Про князя Мещерского известный сотрудник «Гражданина» И.И. Колышко напишет: «Не было в русской журналистике большего бунтовщика, как этот пожиратель субсидий». И в самом деле, В.П. Мещерский только и делал, что всех критиковал. В.В. Розанов то и дело ловил Мещерского на высказываниях, противоположных прошлым суждениям, в зависимости от объекта критики. Советские историки, временами беря «критику» Мещерского в свой арсенал «кризиса», этого не учитывали.
Потребность в бумажной критике – лучшее свидетельство о неуместности суждений про «правление» Мещерского. «Ему не прощали влияния на двух реакционных царей. Всеобщему остракизму была предана его карьера «шептуна»» – независимого информатора. Колышко считает, что Мещерский был не правителем, а тем, кто поддерживал самостоятельность Императора, подобно защите Его Самодержавия Царицей Александрой. «Дело в самой сущности его влияния». «Взвинченная царская воля стала обращаться против тех, кто её взвинчивал». Тут наибольшую точность имеют не суждения стоявшего в стороне и домысливавшего Колышко, а материалы переписки. 1 мая 1903 г. Император Николай II писал Мещерскому: «По меньшей мере, смешно, если ты думаешь, что я буду исполнять все твои желания» [И.И. Колышко «Великий распад» СПб.: Нестор-История, 2009, с.168, 170, 397].
Фантазии Киреева о каком-то потенциале славянофильских кругов меркнут перед подлинной реальностью экономических и политических успехов Империи, достигаемых под управлением Царя, несмотря на грандиозное число внутренних и внешних врагов, ведущих войны, устраивающих теракты и шепчущих по углам анекдоты.
С.С. Ольденбург давно доказал способность Императора управлять министрами, и от дневника Киреева его выводы вдруг не посыплются. Киреев просто фиксатор сплетен, и на этом его значение заканчивается. Переписка и болтовня с Плеве Киреева показательно пустякова. Киреев игнорировал объяснения Плеве о недопустимости вмешиваться со стороны в государственную политику. Киреев: «Ваши предшественники» «ни на кого не опирались, шли даже прямо против течения… Но ведь это было давно!» [Ю.Б. Соловьёв «Самодержавие и дворянство в 1902-1907» Л.: Наука, 1981, с.80].
Т.е., Киреев требовал, чтобы Плеве опирался на дворянство и земство, а не вёл самостоятельную политику. Плеве совершенно справедливо игнорировал эти мнимые опоры, не нуждаясь ни в каком «пятом колесе в телеге Самодержавия». Вся клевета на Плеве и на Монарха есть следствие нежелания устанавливать в России олигархическое правление, как называл Александр II проект привлечения дворянства к политическим совещаниям.
Ни на какое дворянство Империя также не опиралась, Самодержавие не представляло отдельные сословные или партийные интересы. Посягательства дворянства, как и посягательства конституционалистов, требовалось отвергать, и ставить их на место. Учреждению «пятого колеса» необходимо было сопротивляться до последнего, т.к. такое колесо тормозило эффективность государственного аппарата, оттягивая у министров время на болтовню и полемику с несведущими депутатами от действительных важных дел.
Оценки Киреевым войны, произошедшей из «детского желания» Николая II присоединить Манчжурию лишнее свидетельство убогого примитивизма суждений, либо же ограниченной ангажированности. Слушать людей, которые столь глупо и оскорбительно оценивают значение глобального геополитического столкновения – зря тратить время. Киреев желал, чтобы его слушали, но его бестолковые советы никому не были нужны.
Советские историки переписывали мнения придворного кавалериста Киреева целыми страницами, ибо их мировоззренческая диффузия, как удачно выражается А.Н. Боханов, очень подходила к намерениям опорочить Империю и Государя, подкрепить ложную гипотезу о системном кризисе: ведь «сам» Киреев так пишет. Однако мнение Киреева должно сопоставляться не с другими сказителями слухов, пребывавшими в панике, завистливом или озлобленном безделье, а с более осведомлёнными и трезвомыслящими суждениями.
Есть другие, куда более достойные внимания, характеристики политики Плеве. Вот что писал не кавалерист в отставке, которому нечем заняться, кроме пустых интриг, а выдающийся экономист и академик Иван Иванович Янжул. В.К. Плеве и И.И. Янжул совместно разрабатывали полезные проекты в области образования, ведомственных служб, рабочего законодательства.
«Нет сомнений также, что жестокая рука убийцы, положившая конец жизни и деятельности этого замечательного министра, как и во многих других случаях, привела к последствиям, совершенно противоположным с его ожиданиями. Россия, я убеждён, лишилась через это мирного и благополучного разрешения многих трудных вопросов» [И.И. Янжул «Воспоминания о пережитом и виденном в 1864-1909» М.: ГПИБ, 2006, с.313-314].
Монархический режим основан на профессионализме под верховным контролем нравственных принципов. Располагая такими сотрудниками и консультантами, как Янжул, Плеве не нуждался в каких-то вымышленных дворянских опорах, ни в советах Киреева, человека несравненно некомпетентного. Советские историки, как и некоторые современные, якобы, «контрреволюционные” писатели, что показательно, в один голос перепевают Киреева, игнорируя более достойные рассуждения.
Неуместность множества предложений Киреева, по-видимому, имел ввиду историк С.Б. Павлов, говоря: «мифологическое славянофильское самодержавие якобы допетровского образца» было также нереально для России, как конституция или победа пролетарской революции. Понимание ложности конституционной мифологии, безусловно, заслуживает одобрения. Весьма поучительным является и следующее наблюдение историка: в губернских комитетах по нуждам с/х промышленности 1902-1903 он сумел увидеть «выдающиеся примеры сотрудничества власти и «общества», до уровня которых сейчас бы дорасти. Не в этом ли был Путь?». Тем не менее, С.Б. Павлов парадоксально пишет и следующее, не сочетая одни наблюдения с другими: «Никакого не то что волеизъявления, но сообщения мнений самодержавие как политический режим не предусматривало» [С.Б. Павлов. «Опыт первой революции: Россия. 1900-1907». М.: Академический Проект, 2008, с.8,12,68].
Попытки историка отойти от либеральных трактовок Самодержавия и парламента оказались не до конца удачными. Безусловно, система соборного представительства, основанная на профессионализме, а не на выборности, превосходила парламент в целях выяснения народных нужд и общения с властью. Она применялась всегда, когда ставились существенные внутренние задачи, и действительно требовалось знакомство с компетентными мнениями, а не для удовлетворения чьего-то самолюбия и мечтания произносить перед страной речи.
Так было с редакционными комиссиями 1859 г. по проекту крестьянского переустройства. Так было с изменением морского устава в 1869 г., перед которым Великий Князь Константин Николаевич рассылал «во все флоты, всем офицерам» просьбы присылать свои предложения. Точно так его сын Константин Константинович, президент АН, «направил во все отделения академии подобные просьбы» [Э. Матонина, Э. Говорушко «К.Р.» М.: Молодая гвардия, 2010, с.193].
Киреев со своим «это было давно» всё проглядел. Подобно тому, как всё проигнорировали парламентаристы. Именно поэтому в претензиях славянофильского дворянства или земского конституционализма не было никакого толку, и Плеве был совершенно прав, двигаясь независимо от них путём академиков, а не кавалеристов-фантазёров.
Мифозависимость была подлинной самой опасной проблемой Империи. Шульгин, дошедший до желания Цареубийства, никак не может считаться полноценным свидетелем «единодушия» февральских восторгов. Надо знать, что было за очень недолгим показным ликованием, и что – рядом с ним или вместо него.
Ничего не стоит разбить фантазии о том, сколь специфический характер носило такое показное, местечковое и показное единодушие. Интеллигентское ликование не было народным.
А.А. Блок. Дневник 25 мая 1917 г., запись в начале работы в ЧСК: «Старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской души, на свойства, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, в кругах гораздо более широких (полностью или частями), чем принято думать; чем полагается думать «по-революционному». «Революционный народ» – понятие не вполне реальное. Не мог сразу сделаться революционным тот народ, для которого, в большинстве, крушение власти оказалось неожиданностью и «чудом»; скорее, просто неожиданностью, как крушение поезда ночью, как обвал моста под ногами, как падение дома. Революция предполагает волю; было ли действие воли? Было со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю, была ли революция» [А.А. Блок. Собрание сочинений. Л.: Художественная литература, 1982. Т.5, с.214].
«Отречение Государя от престола за себя и за сына Алексея, прозвучало громом среди ясного неба. Вначале это сообщение вызвало почти у всех чувство растерянности и удрученности. И только через несколько дней на улицах стало появляться все больше людей с красными бантами. Потом была организована манифестация – шествие «победы бескровной революции”. Маршировало много людей» [П.В. Жадан «Русская судьба. Записки члена НТС». М.: Терра, 1991, с.34].
Крестьянин Смоленской губернии А. Котов вспоминал: народ был «ошеломлён» вестью о свержении Монархии. «Около двух недель крестьяне не могли поверить этому» [Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Москва. Фронт. Периферия. М.: Наука, 1971, с.391].
Письмо ротмистра А.В. Поливанова 9 марта 1917 г.: «Все беспрекословно признали власть нового правительства». На контраст с настроениями офицеров: «Солдаты весьма равнодушно отнеслись к событию» [«Вопросы истории», 2012, №9, с.89].
Для сравнения, есть сводка настроений по всем фронтам: сообщения приняты примерно одинаково «сдержанно и спокойно», многие «отнеслись с грустью и сожалением» [С.П. Мельгунов «Мартовские дни» М.: Вече, 2006, с.337-340].
20 октября 1917 г. сын Владимира Вернадского Георгий «указывает, как и все кругом, на рост реставрацион [ных] желаний» [В.И. Вернадский «Дневники 1917-1921». Киев: Наукова думка, 1994. Ч.1, с.26]. Когда в 1920 г. епископ Вениамин рассказал о бывшем ему видении венчания Царя в Москве, одни прихожане радовались, другие огорчались. Никогда не бывший монархистом, Владимир Вернадский после поражения Деникина, 9 апреля (н. ст.) 1920 г. задавался вопросом: «Если будет царь – едва ли очень прочен?».
Дневник З.Н. Гиппиус. 18 ноября 1917 г. доктор Манухин слышал от матроса, приставленного к комиссару в Петропавловской крепости: «А мы уж царя хотим». Этот матрос голосовал за большевиков в Учредительное собрание, но те стали уже нестерпимы. «Конечно, мы царя хотим» [Д.С. Мережковский «Больная Россия» Л.: ЛГУ, 1991, с.222].
Е.Н. Сайн-Витгенштейн. Дневник. 20 января 1918 г.: «Если у меня когда-нибудь и были либеральные мысли, они исчезли как дым». 26 января 1918 г.: «В Петрограде в хвостах уже поговаривают, что при «старом режиме” было лучше. А скоро настанет такое время, когда очень многие будут желать возвращения старых времён. Тогда, Бог даст, мы коронуем себе монарха».
Можно взять совершенно любой дневник на начало 1918 г. и везде найдём одно и то же, самые левые авторы пишут об этом со скрипом и неприязнью.
В 1918 г. Бубликов признаёт, что Россия «начинает уже завершать цикл» и «неудержимо идёт к восприятию вновь идеи единодержавия». Теперь не как 6 или 9 месяцев назад, восстановление Самодержавия не встретит единодушного отпора в России. Революцию поддерживают теперь только те, кто были неудачниками при Царе [А.А. Бубликов «Русская революция» Нью-Йорк, 1918, с.106, 108, 109, 110].
А.Е. Котомкин: «Население в своей массе оставалось глубоко равнодушным к разного рода «демократическим» призывам, ибо оно уже один раз больно обожглось на этих лозунгах». Имеющийся комплекс воспоминаний указывает в пользу утверждения П.П. Петрова: «власть эсеровская, партийная, непримиримая даже с кадетами, а воинская сила в большинстве из правых элементов, враждебных эсерам» [«1918 год на Востоке России» М.: Центрполиграф, 2003, с.18, 205].
Необходимо брать в расчёт частично сохраняющуюся силу действия антимонархической мифологии, но не забыть и о том, как дискредитировала себя идея демократии, с каким равнодушием относились в народе к выборам в Учредительное собрание и его краху, сколько было в связи с этими выборами обмана и фальсификаций. «От Учредительного Собрания оставалась большая оскомина», надежд на него не было даже до созыва [С.П. Мельгунов «Воспоминания и дневники» Париж, 1964, Вып.2].
С.П. Подболотов совершает очевидную крупную ошибку, рассуждая о вырождении монархической идеи во всём народе, ко времени Гражданской войны, на основании салонных и партийных настроений, что само по себе абсурдно и сводит на нет все его выводы. Точь-в-точь те же ошибки допускает по Кирееву и Тихомирову К.М. Александров в работе «Генералы и присяга».
Стоит поразмышлять, почему наши «контрреволюционные» писательские силы так любят тиражировать поверхностную антимонархическую мифологию, создавшую революцию, игнорируя все её опровержения.
Май 2013 г.
Отзыв написан к статье Сергея Подболотова «Была ли жива монархическая идея в годы гражданской войны? К дискуссионному вопросу об идейных ценностях Белого движения» // «Труды I международных исторических чтений, посвященных памяти профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина» С-Петербург, 2010. http://beloedelo.ru/researches/article/?31
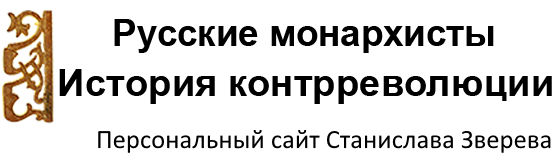
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.