Всеволод Кочетов. Атака на монархистов
С.В. Зверев
Всеволод Кочетов. Атака на монархистов.
Национализм в СССР. Часть 2.
В 1969 г. главный редактор журнала «Октябрь» Всеволод Кочетов опубликовал роман «Чего же ты хочешь?». Сейчас его называют самым советским романом. В нём имя П.Н. Краснова упоминается чаще, чем в каком-либо другом советском литературном произведении – не историческом, а самом злободневном. Писатель-коммунист, поверхностно изучивший стопы антисоветской литературы, нашёл в Краснове своего антипода.
Старейший советский журнал «Октябрь», чуть ли не самый престижный в сталинские времена, в 60-е находился в постоянной полемике с «Новым миром», отстаивая социалистический строй от либеральных поползновений. Однако судьба самого советского романа оказалась несчастливой. На него набросились отовсюду. Его осудила официальная «Правда», не говоря уже о либеральной критике и самиздате.
Иван Бунин в статье «Третий Толстой» (1949) заметил про журнал «Новый мир»: там печатаются «знатнейшие» советские писатели. Знатнейший А.Т. Твардовский 22 сентября 1969 г. пишет в дневник про «места из новой штуки [!] Кочетова. Устами положительного отца разъясняется положительному сыну, что едва ли не первым условием нашей победы была ликвидация пятой колонны, то есть 37-й и 39-й годы».
Негодование Твардовского по поводу пропаганды подлейших идей вполне понятно. Примечательно иное: метод Кочетова доселе на вооружении у всех апологетов массовых убийств. Они не понимают или им до дрожи страшно признать, что коллективизация (для «индустриализации») и 1937 г. не спасли от Хитлера, именно они стали причиной массовых сдач, всеобщего бегства и грандиозных поражений 1941 г. С технической стороны, «русское танкостроение настолько опередило наше, что мы так никогда и не смогли наверстать это отставание» [В. Кейтель «Размышления перед казнью» Смоленск: Русич, 2000, с.273].
Но за такой режим, уничтожающий голодом и отстреливающий свой народ, воевать никто не желал, немецкая оккупация казалась предпочтительнее коммунистической власти. Мало создать лучшее на свете оружие, нужна рука, способная его поднять.
Далеко не один Кочетов проповедовал те подлейшие, по оценке Твардовского, настроения.
За 30 лет до него писатель еврейского происхождения Лион Фейхтвангер сочинил излюбленный аргумент сталинистов всех времён – книгу «Москва. 1937. Отчёт о поездке для моих друзей» о своём посещении СССР, где признал справедливыми советские суды и казни.
Историки считают, что Фейхтвангер так поступил, дабы поддержать СССР против Германии, где жгли его книги, конфисковали имущество и лишили гражданства. Т.е. планомерные уничтожения сотен тысяч русских Фейхтвангера не беспокоили, ему главное отмстить Хитлеру за преследования евреев, ограничения в правах и притеснения, которые до войны 1939 г. и близко нельзя сравнить с массовыми уничтожениями «врагов народа» в СССР. Фейхтвангер мог не знать обо всём, но Московские процессы – это верхушка всенародного террора, прилюдно явленная. Признать её – оправдать все преступления, не желать знать даже не скрываемое.
Когда Германия в 1940 г. оккупировала Францию, где находился Фейхтвангер, его посадили в концлагерь, но отнюдь не казнили, как жертв на прославленных им Московских процессах. Посему поведение антифашиста Фейхтвангера в Москве вполне заслуженно следует считать также подлейшим, как суждение Кочетова: «был своевременно ликвидирован кулак и разгромлены все виды оппозиции в партии».
А спустя почти что 20 лет после Кочетова преемник Твардовского во главе самого либеральнейшего «Нового мира», знатнейший писатель Сергей Залыгин написал так о проекте поворота рек: «наш родной консерватизм тоже возник не на пустом месте, а из прогрессивных и революционных идей, вернее всего из идей и практики конца 20-х – начала 30-х годов».
«Любое отклонение – это был уже уклон левый, а чаще правый, любой уклон – это деяние антиобщественное, антигосударственное, антисоветское. Либо – либо! Ими мы победим, или нас победят. Отсюда и «любая цена» во всём, и жертвенность, которую мы тогда проявили, и категоричность суждений («Если враг не сдаётся – его уничтожают»), и энтузиазм, и нетребовательность в отношении материальном».
«Эта однолинейность, этот курс дал нам Кузбасс и Магнитку, Турксиб и Днепрогэс с его «бешеными темпами» строительства, Челябинский и Сталинградский тракторные. Весь мир был удивлён нашим достижениями, и действительно это был опыт мирового значения, он доказывал, на что способен человек, на что способен народ, воодушевлённый идеей переделки всей жизни. Динамика этого движения сыграла свою роль и в нашей победе над фашизмом и в войне 1941-1945 годов, быть может, решающую роль» [С.П. Залыгин «Поворот» // «Новый мир», 1987, №1, с.7].
В такие-то годы «Новый мир» толкал примитивную пропаганду «подлейших настроений», ни в чём не отличаясь от одиозного Кочетова в оценке 1930-х годов. Только для Залыгина в 30-е истреблять сотни тысяч сограждан в год – это прогрессивно и революционно, а истреблять, начиная где-то с 50-х, стало «консервативно» (!). Кочетов не соглашался: революционность не может устареть и агитировал за методы 30-х, дабы снова «удивить мир», а не зажраться.
Совершенна очевидна негодность двойных стандартов, согласно которым Кочетова отлучили от литературы (даже от плохой литературы). Объясняя такое явление, поэт Станислав Куняев упоминает салон Бриков, считая его могущественной силой в литературном мире со времён Маяковского вплоть до 1970-х. «Что еврейские интеллектуалы не прощали Грибачёву, Софронову или Кочетову, то всегда сходило с рук Симонову, Антокольскому или какому-нибудь Арону Вергелису» [С.Ю. Куняев «Русский дом» М.: Институт русской цивилизации, 2013, с.91, 264].
Вот что писал пасынок Л.Ю. Брик (Каган) в полумемуарной биографической книге, где, кстати, тоже приводятся не одобряемые автором чужие суждения о литературной мафии Бриков. «Паперный был очень интересный человек, один из самых остроумных в Москве. Но в один прекрасный день он написал пародию «Чего же ты хохочешь» на жутко бездарный опус Кочетова «Чего же ты хочешь» – черносотенную мазню. Однако Союз советских писателей встал горой за «своего», и Паперного «казнили» (в духе большинства наших кретинских решений в области литературы) — запретили заниматься Маяковским, а велели взяться за Чехова» [В.В. Катанян «Лиля Брик. Жизнь» М.: Захаров, 2010].
Катанян написал полную ерунду, т.к. по воспоминаниям самого Зиновия Самойловича: «Я уже задумал тогда новую работу «Записные книжки Чехова», хотя в ту пору шансы напечатать ее были весьма невелики», т.е. заниматься Чеховым тогда было более проблематично, нежели красным Маяковским, выбор сделан добровольно [З.С. Паперный «Музыка играет так весело» М.: Советский писатель, 1990].
Союз писателей вовсе не вставал горой за Кочетова, ему не дозволили отдельное издание романа в Москве, выпустить удалось только в отдалённом Минске, где, например, дозволялось печатать антисионистскую публицистику. Нынешний одноимённый журнал напоминает об остракизме, постигшем своего бывшего главного редактора: «тупое и бездарное это сочинение смутило даже правящих тогда нашей страною большевиков, ибо верный, но недалёкий их слуга, сам того не понимая, подложил им изрядную свинью, простодушно высказав «с последней прямотой» всё, что он думает о мире, окружающем его и СССР» [«Октябрь», 2004, №8].
Но самое поразительное из написанного кинорежиссёром Катаняном, представителем Бриковского клана, это объявление романа «Чего же ты хочешь?» черносотенной мазнёй – романа, полностью посвящённого изобличению монархистов: белоэмигрантов, сотрудничавших с немцами, а также новой националистической поросли – основателей националистического возрождения в Советском Союзе – Ильи Глазунова и Владимира Солоухина. Кочетов именно в них увидел крупнейшую угрозу советскому строю. В националистах, белоэмигрантах и западных диверсантах – предводителях психологической войны против СССР.
Однако еврейская критика обозвала В.А. Кочетова черносотенным из обострённого нюха к антисемитизму и навязчивой идеи сравнять монархизм со сталинизмом. То ли им не понравилось поношение Льва Троцкого и его последователей, то ли наличие еврейского шрифта у рассылательницы подмётных писем, то ли подвергаемые критике имена Евгении Гинзбург, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Исаака Бабеля, Феликса Дана, Марка Вейнбаума. Достаётся и другим кумирам либеральной интеллигенции: Марине Цветаевой (а она вышла замуж за Эфрона, значит, тоже неприкасаема) и Леониду Андрееву, его всегда в СССР едва терпели за упадочничество, а ведь он твердил: «конец еврейских страданий – начало нашего самоуважения», мечтая, когда же русские станут европейцами, а не варварами-антисемитами («Первая ступень», 1916).
Издаваемые в СССР, из числа не запрещённых упомянутых авторов, к негодованию романиста, они вытесняют имена Маяковского и… Кочетова, выведенного в романе под вполне себе большевицким псевдонимом Булатов. Причём это вытеснение из советской литературы на второй план убеждённых коммунистов осуществляется в результате проведения коварного плана спецслужб капиталистического мира. Такой конспирологии Советский Союз не знал со сталинских времён, когда всё происходящее в мире объяснялось революциями и заговорами против неё.
Это только в сочинении бывшего масона Льва Любимова показано так, будто Краснов считал, что жидомасоны его замалчивают, и потому только – их ненавидел. Но там недобросовестные мемуары, а здесь – авторская жалоба, прикрытая настолько прозрачной занавесью псевдонима, что так расхваливать себя, как делает Кочетов, изображая Булатова, можно, кажется, только стремясь перещеголять «Автобиографию» Аверченко. Автора это ставило в смешное положение и располагало юмористов писать пародии – «Чего же он кочет» и «Чего же ты хохочешь» З.С. Паперного и С.С. Смирнова.
Склонный, как все писатели, по максимуму использовать автобиографический материал, Краснов никогда не опускался до самоапологии. Атаман Белая Свитка появляется эпизодически и лишён специфически авторских черт. Реальное, и весьма блестящее, атаманское правление Краснова не нашло художественной передачи. Геройские конные атаки – отображение солдатского, а не лично своего подвига. К своей роли писателя Краснов относился всегда демонстративно скромно. По отношению к единомышленникам считал себя подбадривающим барабанщиком, а в отношении идеологических врагов – говорит священник, в романах Краснова по справедливости всегда более других приближенный к правде: «Обманывать не стану… Не победили их… Их искусством победить нельзя… Выпаханные у них души…» [П.Н. Краснов «Выпашь» Париж, 1931, с.107-108].
Косвенно здесь затрагивается невозможность одолеть большевизм написанием романов, но в прямом смысле – персонаж Краснова не может силой музыкального дарования увлечь к чему-то возвышенному интеллигентскую среду, объятую сребролюбием и относящуюся скептически ко всему прочему, презирающую военную службу. Это очень похоже на реальный эпизод, касающийся пребывания в Джаркенте и стараний талантливой супруги, Лидии Красновой.
Сцена из романа Краснова приводит сразу к нескольким аналогиям: насколько одержимо рвался к власти В.И. Ленин, использовавший тот же сельскохозяйственный образ: «Я заявляю: недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлёк моего брата, он увлёк и меня. Он меня всего глубоко перепахал». «Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют» [Н.В. Валентинов (Вольский) «Встречи с Лениным» Нью-Йорк, 1953, с.104].
Советским литературоведам так понравился этот рассказ, что они запросто приводили его как самый достоверный, не смущаясь эмигрантским происхождением и полувековым разрывом между описанным временем и публикацией – слишком правдоподобно.
Перепаханный дурно написанным нигилистическим романом Ленин остался невосприимчив к искусству и всю жизнь писал статьи исключительно на политические темы, используя образы и цитаты из романов лишь как агитационное оружие. Л.Ю. Брик тоже сходила с ума по Чернышевскому, вплоть до ругани и ссор со всеми несогласными.
У Всеволода Кочетова есть схожая по замыслу сцена, где иностранные разлагатели советского строя привозят магнитофонные записи с музыкой, «под воздействием которой человек постепенно начинает дёргаться», однако, когда доходит до осмысленных рифмованных текстов, верх всё же берёт советский патриотизм, молодёжь выбирает петь:
«Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна».
В романе Краснова «Выпашь» на время толпу инженеров одолевает гимн «Боже, Царя храни», только когда приходит известие об объявленной России войне 1914 г. Не очень-то реалистично, чтобы без аналогичного повода те самые разгильдяи начали бы петь «Войну народную», а не современное им и популярное в тех кругах, даже по поводу Великой Отечественной.
Ещё в одной книге Краснов приводил стихотворение, полное тоски и правды, про зарубежный «dancing», где дикий мотив пустыни печально и скучно воют негры. «Вместо обеда – кафе… Вместо семьи – ресторан… Вместо бренчания дома на фортепьяно – dancing… Это новый мир, устроенный господами социалистами!..» [П.Н. Краснов «Понять – простить» М.: Интелвак, 2000, с.170-171].
Забавно: для Кочетова «суматошный джаз» в «шалеющей компании» – буржуазная зараза. В представлении Краснова – фокстроты и джаз-банды есть обратная сторона социализма, как «Дивный новый мир» Хаксли – социализм победившего либерального гуманизма – предел обобществления (до полного уничтожения одиночества), достигнутый в рамках западной демократической цивилизации, альтернатива победе советского или нацистского социализма в «1984» Оруэлла.
Связь между 1920-ми в изображении Краснова и 1960-ми годами по Кочетову действительно существовала, течения тех лет выражали один антикультурный процесс, несколько приостановленный в эпоху кризиса 30-х и войны 40-х. Американский правый идеолог справедливо видит «гибель основанной на религии культуры» именно в 1960-е: «Эпоха секса, выпивки и джаза трансформировалась в эпоху секса, наркотиков и рок-н-ролла». «Через управление культурой левые навязывают обществу свою мораль» [П. Бьюкенен «Смерть Запада» М.: АСТ, 2003, с.135-136].
Эту новую мораль Патрик Бьюкенен, подобно Петру Краснову, считает марксистской. Последовательна поэтому поддержка, которую в СССР оказывали антикультурному молодёжному протесту 60-х, имевшему террористический уклон и являвшемуся деструктивным выплеском насилия со стороны малоидейных бездельников. Вопреки советским (и позднейшим западным) подтасовкам, протест 60-х не носил сугубо антивоенный и антирасистский характер, будучи нигилистическим, анархистским и экстремистским. В 60-е студентов совершенно точно звали «хулиганствующие активисты» [«Техника дезинформации и обмана» М.: Мысль, 1978, с.48, 162].
Это не дезинформация, а самое точное определение мелкой преступности, какую в СССР покрывали, т.к. она была революционна. При попадании в СССР эта зараза разъедала советскую культуру, как и американскую.
Свой мемуарный очерк на поднятую П.Н. Красновым тему дал Владимир Солоухин. В исповедальном романе «Последняя ступень» он изображает первую обстоятельную встречу с Ильёй Глазуновым в присутствии итальянской журналистки, с выпадом, какой делает художник против джаза и перехода демократического мира «на танцы африканских отсталых людоедов». Глазунов покоряет собравшихся у него гостей, поставив исполненные Козловским романсы на стихи Ф.И. Тютчева «Я встретил вас», запрещённый в СССР вплоть до описываемого времени любимый А.В. Колчаком «Гори, гори, моя звезда» и «Не пробуждай воспоминаний» Булахова.
«Вместо лохматых, с дикими взглядами молодых людей, трясущихся в современном дансинге», возникла близость к подлинному национальному искусству, «я почувствовал в себе порыв неизъяснимой гордости, что хоть каким-то краем причастен к этому искусству, что оно моё, русское, и я русский». Возникло чувство благодарности к Илье Глазунову. «Я почувствовал в себе желание идти за ним».
Вот каковы в действительности националисты Глазунов и Солоухин, которых Кочетов избрал объектом литературной атаки. Они не меньше Кочетова воевали с разрушительным воздействием западной интернациональной массовой культуры. В критике демократии монархисты всегда смыкались с марксистами, Ленину приходилось оправдываться за использование Союзом Русского Народа критических материалов социал-демократической прессы. В остальном пути расходились.
С Кочетовым Владимир Солоухин познакомился в 1954 г., когда вошёл в редколлегию «Литературной газеты», возглавляемую этим сталинистом. Солоухин, давая согласие на работу, ещё не интересовался, под чьё начальство попадёт, и какую линию должен будет проводить в газете.
В 1976 г. он написал: «оклеветал в своём пасквильном романе (хотя и под другим именем) Всеволод Анисимович Кочетов. Написал доносное стихотворение о моём перстне с изображением Николая II не антисемит, но всё-таки Степан Петрович Щипачёв» [В.А. Солоухин «Последняя ступень» М.: Русскiй мiръ, 2007, с.12, 37, 44-45].
В такой формулировке лазейка, позволяющая назвать антисемитом Кочетова, очень узка. Окончательно её затыкает такой убедительный довод, как популярная среди советских карьеристов его женитьба на еврейке (пускай в романе она и показана старой и надоедливо глуповатой). Впрочем, брак не помешал Кочетову ещё в 1954 г. лишиться места ответственного секретаря Ленинградского отделения Союза писателей – задел кого не следовало: «в отместку за Панову её муж Давид Яковлевич Дар мобилизовал еврейские силы Союза писателей и тех, кто к ним примкнул, и в результате тайной интриги, точнее, тайного голосования, Кочетова выдавили». Интересно также направление удара «Чего же ты хочешь?» по адресу французского коммуниста-ревизиониста Роже Гароди [Михаил Золотоносов «Праздник на станции Кочетовка» // «Литературная Россия», 22 июня 2012, №25].
В 1995 г. Р. Гароди, ударившись в исламизм, осмелится изобличать владычество евреев на примере своей страны – тождественно с ситуацией в США: «Ни один кандидат в президенты Французской республики, к какой бы партии он ни принадлежал, от Мишеля Рокара до Жака Ширака, включая Миттерана, не мог обойтись без паломничества в Израиль за благословением средств массовой информации. Власть над этими средствами лобби, руководящим центром которого сегодня является ЛИКРА (Международная лига против расизма и антисемитизма), столь сильна, что позволяет ему манипулировать общественным мнением по своему желанию: хотя евреи составляют во Франции около 2% населения, решающий голос принадлежит в средствах массовой информации сионистам: на телевидении, на радио, в ежедневных газетах и еженедельниках, в кино (прежде всего благодаря вторжению Голливуда) и даже в издательствах, которым так называемые "комитеты читателей” могут навязывать свое вето. Всё это в руках сионистов, равно как и реклама, от которой зависит финансирование средств массовой информации» [Р. Гароди «Основополагающие мифы израильской политики» // «Наш современник»,1997, №4].
Формально, главный редактор «Октября» знал поэта и писателя Солоухина 15 лет, когда его изображал, но знал до очевидности слабо, опосредованно, изобразив неотёсанно грубым пожирателем чеснока и нюхательного табака. Илья Глазунов в романе «Чего же ты хочешь?» показан под именем Тоника Свешникова слабовольным недоучкой под каблуком жены, рисующим одних богатырей и царевен, а потом перешедшим на портреты из соображений выгоды. Его не принимают в союз художников только потому что он высокомерно не подаёт заявление, а ждёт, когда его позовут. Биографические данные обоих перевраны до неузнаваемости.
Солоухин становится сыном кулака, мстящим за потерю нажитого эксплуатацией добра. В советской литературе вся психология героев, последовательность их поступков объяснялась классовым происхождением. Так, в романе об А.А. Власове в СССР сочиняли, будто его отец был скупым кулаком [К.М. Александров «Мифы о генерале Власове» М.: Посев, 2010, с.28-29].
Родители Глазунова, погибшие в ленинградскую блокаду, у Кочетова превратились в убитых немцами советских разведчиков.
Назвавший «Чего же ты хочешь?» самым советским романом критик Денис Драгунский записывает самую малоправдоподобную, но популярную сплетню:
«Такого хамства Солоухин не стерпел и однажды позвонил Кочетову прямо в дверь. Тот открыл. У здоровенного Солоухина была в руке тяжёлая трость. Кочетов убежал и заперся в спальне. Солоухин переколотил тростью весь старинный фарфор, который стоял на стеклянных полках в гостиной, и ушёл. Дело было утром. Кочетов вызвал машину и тут же помчался в ЦК КПСС. Но товарищи из ЦК брезгливо спросили: «А почему, собственно, вы не обратились в милицию, товарищ Кочетов?» Это было даже хуже, чем разгромная статья в «Комсомолке». Это был конец. Дальше водка, рак, ружьё».
Нехорошо выставлять всех монархистов погромщиками. Надуманность происшествия несомненна.
Напрасно Драгунский, сын известного детского писателя, считает «Чего же ты хочешь?» ответом на первую публикацию в журнале «Москва» «Мастера и Маргариты» М.А. Булгакова в 1966-м. Этот внеполитический реликт едва ли беспокоил Кочетова. Настоящие противники чуть ли не поимённо перечислены: это зарубежные антисоветские журналисты, мемуаристы, романисты и домашние националисты.
Уместнее будет другое сравнение – с «Белой Свиткой» П.Н. Краснова, но больше не из-за сходства персонажей или проникновения в Москву белогвардейцев. Близость наблюдается в использовании, наряду с постановкой самых серьёзных политических вопросов, развлекательных и пародийных приёмов. «Белая Свитка» не только воодушевляет на антикоммунистическую борьбу, она способна заставить читателя смеяться.
Всеволод Кочетов, не к чему скрывать, автор одарённый. Его книга – редчайшее явление в советской литературе. Писать: «жутко бездарный» (Катанян) «тупое и бездарное» (Евгений Попов). «Романом эту вещь можно было назвать лишь при большом воображении» (Вячеслав Огрызко) – значит совершенно не уметь отрешиться от политических пристрастий в литературе.
Либеральный террор выбрасывал из литературы не только каждый «самый белогвардейский» роман Краснова, «самый советский» Кочетова. За сто лет до «Чего же ты хочешь?» вышел «самый романный роман» «Обрыв» Ивана Гончарова. «Демократическая журналистика и критика была беспощадна к роману», поскольку в нём увидели антинигистический умысел «высмеять молодое поколение». Салтыкову, как и Ленину, больше нравилась идея высмеивания всех русских в «Обломове», согласно идеям Белинского. «Шелгунов пошёл дальше в отрицании даже и собственно эстетической значимости «Обрыва», объявив роман «театром марионеток»» [П. Николаев «Художественная правда классического романа» // И.А. Гончаров «Обрыв» М.: ХЛ, 1980, с.25].
Демократическая журналистика точно по тем причинам расправилась с Красновым и возненавидела Кочетова. В. Огрызко уже в 2010 г. пишет про книгу «Журбины» (1952), прославившую Кочетова: «написана из рук вон плохо». Я читал её 10 лет назад, году в 2003-м, и не имею желания пересматривать её заново, но могу назвать её вполне заслуженно неисчислимо часто издаваемой и вознесённой в качестве лучшего производственного романа социалистического реализма, наряду с «Битвой в пути» Г. Николаевой. А «Чего же ты хочешь?» – книга, написанная весьма неординарно и с редчайшей увлекательностью.
Автор смешон. Но разве не намного комичнее самомнение и поучительные наставления стародавнего лауреата Сталинской премии (1951) Рыбакова о том, как в Российской Империи «царила злейшая реакция» и что «истинный путь России – демократический социализм» (1997). Его «детскоарбатские» представления о Сталине и революции в эпоху перестройки стали символом либерального примитивизма и невежества, выявленного Вадимом Кожиновым в «Правде и истине» [«Наш современник», 1988, №4].
Позиционирующий себя как еврей, Рыбаков в мемуарах славит антимонархическую революцию, позволившую его отцу осенью 1919 г. захватить в Москве квартиру на Арбате. В опустевших столицах евреи в массовом порядке присваивали себе недвижимость умерших от голода, убежавших за рубеж, в деревни или к белогвардейцам. Анатолий Рыбаков обвинял Астафьева, Белова и Распутина в антисемитизме, Солоухина даже в сталинизме – за книгу «При свете дня» против Ленина. Прославляя Ленина, революцию, 20-е годы, погубившие столько русских, Рыбаков уподобляется столь нелюбимым им «фашистским молодчикам», пропагандируя куда более худшие изуверства.
Илья Глазунов вспоминает про своё рождение в 1930 г. «в страшные годы геноцида, прежде всего, русского народа». «20-е годы – годы погрома русской культуры». «Я помню Натана Альтмана», «его имя действительно связано с разнузданным террором 20-х годов. Многие помнили его участие в газете «Искусство Коммуны», в которой печатались призывы взрывать памятники прошлого, например Петру I Фальконе, и закрывать «гробницы искусства» – музеи» [И.С. Глазунов «Россия распятая» М.: Голос-пресс, 2008, Т.I, Кн.1, с.3; Т.II, Кн.2, с.280, 285].
Рыбаков ничего не желает знать о разгроме традиционной культуры, Православной Церкви, казачества, всего, что составляет русскую нацию. «Золотые» 20-е для него так хороши, поскольку они благоприятны для евреев. В 1920 г. евреев в Москве проживало 28 тысяч, в 1933 г. уже 226 тысяч [Я. Рабинович «Быть евреем в России» М.: Алгоритм, 2005, с.235-236].
Вот почему среди националистов сильнейшее негодование вызывали песни Булата Окуджавы (который подозревал у себя наличие еврейских предков и ненавидел антисемитов), со словами «Арбат, ты – моё отечество» и «Арбат, ты – моя религия».
«После смерти Панферова журнал возглавил Всеволод Кочетов, сталинист, журнал при нем стал оплотом реакционных сил. Интеллигенция презирала и журнал, и его редактора» [А.Н. Рыбаков «Роман-воспоминание» М.: Вагриус, 1997, с.239].
Упивающийся своей скандальной популярностью Рыбаков не рассказал, что не только за «Детьми Арбата» выстраивались многомесячные очереди в библиотеках.
«Жёсткая полемика определила огромный интерес «широкой советской общественности» к новому роману Всеволода Анисимовича. Журналы с ним невозможно было купить в киосках, в библиотеках читатели записывались в очередь на полгода вперед» (Михаил Герчик «Невыдуманные рассказы»). Т.н. «черносотенную мазню» готовили к изданию в Белоруссии еврей Герчик и еврей Юрий Идашкин, которого Герчик зовёт правой рукой Кочетова.
Идашкин, ответственный секретарь журнала «Октябрь», сам написал о нём воспоминания для сборника, составленного Верой Андреевной Кочетовой, и о других пообещал: про Кочетова будут писать книги. Авторами воспоминаний чаще были единомышленники сталинисты: М. Алексеев, Н. Грибачёв, А. Софронов, Ф. Чуев. Но написал и Валентин Катаев, подписывавший письма к Брежневу против сталинизма; пародист С. Смирнов сложил несколько стихотворных строк о достоинстве покойного. В сборнике избегали называть роман «Чего же ты хочешь?», но М. Алексеев и не ссылаясь на одну эту книгу, мог сказать обо всём творчестве Кочетова: «имя, вокруг которого не перестают бушевать страсти» [«Всеволод Кочетов. Публицистика. Воспоминания современников» Л.: Лениздат, 1976, с.143, 181, 197].
Не о каждом советском писателе посмертно выходило несколько сборников воспоминаний. Однако «Чего же ты хочешь?» не вошло ни в один из 3-хтомников и 6-титомников собраний сочинений 70-х и 80-х.
Кочетов был нарасхват в СССР, в эмиграции самым популярным писателем был Краснов, читатели в Российской Империи восторгались «Обрывом» Гончарова, но репутация врагов демократии губила их имена для критики.
11 ноября 1969 г. Шолохов написал лично Брежневу: «Сейчас вокруг романа Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?» идут споры, разноголосица. Мне кажется, что не надо ударять по Кочетову. Он попытался сделать важное и нужное дело, приёмом памфлета разоблачая проникновение в наше общество идеологических диверсантов. Не всегда написанное им в романе – на должном уровне, но нападать сегодня на Кочетова вряд ли полезно для нашего дела. Я пишу об этом потому, что уже находятся охотники обвинить Кочетова во всех грехах, а – по моему мнению – это будет несправедливо» [В. Огрызко «Далёкий от эстетики ортодокс» // «Литературная Россия», 2010, №22].
Не зря шолоховеды-сталинисты писали о его преклонении перед памятью партийного вождя. И не так уж, значит, далёк Кочетов от эстетики, раз за него вступился Шолохов. По воспоминаниям Олега Платонова, Шолохова в еврейских литературных кругах также звали черносотенцем.
Мемуары Платонова, совсем как исторические работы, нельзя вполне воспринимать всерьёз – слишком много голословных преувеличений, налицо неумение и нежелание разбираться в достоверности и точности описанного, чрезмерно часта декларативность. Попытка изобразить себя сызмальства антисемитом, повсюду встречающим одинаковых хищных и опасных евреев, выглядит как профанация главной провозглашаемой борьбы не с каждым попавшимся евреем, а с вражеской идеей. По сравнению с тем, как пишет В.А. Солоухин, столь топорный подход несколько деморализует. Солоухин оттолкнулся от бытового антисемитизма – «Первой ступени», по наименованию Леонида Андреева, в намеренном соотнесении с этим начальным доброжелательным отношением к отдельным евреям, дойдя до «Последней ступени» их борьбы за мировое господство.
В обширных записях Олега Платонова, среди не столь многих наименований художественных произведений тех лет, заслужил упоминание последний роман Кочетова: «Когда в 1969-м стал публиковаться в журнале «Октябрь» роман В.А. Кочетова «Чего же ты хочешь?» о подготовке западными спецслужбами агентов влияния среди еврейских кругов советской интеллигенции, многие узнали среди персонажей романа черты личности Э. Генри. Да и сам прототип узнал себя, и рассказывали, что был взбешён. Осенью 1969-го он написал донос на Кочетова в КГБ и ЦК КПСС, где обвинил его в антисемитизме, а также организовал коллективное письмо «советской интеллигенции» против публикации романа «Чего же ты хочешь?» отдельной книгой. В нашем институте роман пользовался популярностью. В библиотеке института на прочтение его в журнальном варианте выстроилась очередь в несколько десятков человек» [О.А. Платонов «Русское сопротивление. Война с антихристом» М.: Столица-принт, 2010, Т.1, с.62, 87].
Такому воспоминанию можно поверить, т.к. оно лишний раз доказывает популярность рассматриваемого романа. Сильно затёрт и сохранившийся библиотечный экземпляр «Чего же ты хочешь?» 1970 г. изд., с которым знакомился я, особенно в сравнении с почти не тронутыми другими массовыми изданиями Кочетова.
Э. Генри – псевдоним еврея Хентова, автора книги «Гитлер против СССР» (1937), советского разведчика в Британии, который после возвращения в СССР и ареста в 1951 г., в 60-е подписывал вместе со многими советскими евреями, письма к Брежневу, доказывающие правоту осуждения «культа личности».
Олег Платонов пишет о наибольшей популярности среди патриотически настроенных русских в СССР Глазунова, Лобанова и Солоухина. Можно найти надёжные подтверждения и этому.
В 1971 г. Вадим Кожинов давал интервью о повороте к старине и к сосредоточению: «теперь Илья Глазунов может десятками варьировать застывшие лики икон». По словам Кожинова, Солоухин породил моду на простонародность, т.е. на поверхностное внешнее выражение духовного смысла жизни. Мода всегда – обесцененное содержание, подражание, а не бытие. Но с другой стороны, модным становится то, что вызывает душевные переживания, отклик, вовлекающий в движение к соответствию видимому. Солоухин не следовал моде, а порождал её, значит, он подлинен, а не вторичен. Т.е. Кочетов ошибался, изображая его бесполезной дурной копией, без художественного вкуса.
«У В. Белова пафос нравственного бытия, не расщеплённого рефлексией, безличным практицизмом и дробной прагматикой, – доходит до лирического апофеоза. У Вл. Солоухина этот пафос становится осознанной философской программой… И отсюда, наконец, начинается прозаическая мода шестидесятых годов: лиричный флер, вязкость и туманность стиля, медитации на пустом месте, ностальгия по «сельскому уголку», тяга «к истокам», к «околице», и пр., и пр. Да, это мода, а у Солоухина – не мода, а программа. Но связь очевидна: мода любит те программы, в которых есть перспективность» (1971) [«Вадим Кожинов в интервью, беседах, диалогах и воспоминаниях современников» М.: Алгоритм, 2005, с.153, 157].
Михаил Назаров, будучи в эмиграции, позволял себе сказать больше о значении писателя, который вызвал «официально терпимое в СССР стихийное движение "собирания камней”, оставшихся от разрушенной большевизмом русской национальной культуры». «Главное в том, на что не преминули отреагировать идейные наследники тех разрушителей, сегодняшние большевики». «"Вылазки”, подобные солоухинским «Камням», неизменно встречаются организованными сверху же истерическими выкриками "кандидатов” марксистской философии» [«Посев», 1981, №12].
Кочетова взбесила мода на русскую культуру, а не коммунистическую, пришедшую ей на смену. Обострённый советский нюх распознал взаимоисключаемость возрождения всего русского национального с ценностями человека «нового типа», разорвавшего все связи с прошлым, подобно рабочему с плаката из романа «Журбины».
Кочетов не смог по-настоящему оклеветать Солоухина, поскольку не сумел изобразить его. Удар не попадал по цели: можно высмеивать неумелое подражание чему-то небывалому, древним сказкам, и это будет по адресу неоязычников, занимающихся «силами додревними». Или попадание будет бить по головам тех, кто не видит духовного содержания, следуя моде.
«Солоухин слишком глубокий писатель», как выразился Кожинов, выводя его из-под критики, и найдя, однако же, повод вышутить собирание вёдер грибов и езду деда на тарантасе. То, что нам приходится «с горя летать на лайнерах» (острит Кожинов), есть серьёзная экологическая проблема пожирания энергоресурсов и отравления выбросами огромных территорий. Нравственное сознание Солоухина чутко к опасностям потребительской цивилизации именно в материальном её выражении, тут нет ничего неуместного.
Так В.П. Крапивин в СССР воспевал парусники, противоставя их дымящимся гигантским пароходам. Или взять городские пустыри, бывшие для Крапивина отдушиной природы и местом самовыражения вне социальных условностей и безликости пресловутого асфальта – врага последователей «деревенской» моды. Тут можно найти определённую закономерность: приближение к природным стихиям давало свободу от обязательных норм идеологической маршировки по стандартам пионерской организации, ВЛКСМ или КПСС. Отсюда стремление к внутренней эмиграции.
Куда хуже ненависть Кочетова к церквам и монастырским стенам. В тяге к Церкви Кочетов видит опасность полного отвержения всех завоеваний революции. В этом отношении изображение обращения к Церкви может расцениваться как клевета, но только в малой части образа поэта Богородицкого.
Роман Кочетова трудно считать клеветой и потому, что он намеренно написан в форме пародии. Смирнов и Паперный слегка шаржировали всё то, что уже было пародией, т.е. нарочитым изменением облика прототипов автором для создания комического эффекта.
Либеральных критиков задело за живое другое. Они вцепились в трагический 1937 г., и за неуместную шутку о нём Паперному влетело. Критики и пародисты ухватились за единожды упомянутый проклятый в «Крутом маршруте» Е. Гинзбург 1937-й, но никто не заметил более важного раздавленного «кулака», ровно как ничего не хотела о нём знать Е. Гинзбург, восплакавшая о погубленной революции и жертвах среди единомышленников Ленина.
Паперный и Смирнов высмеивали опасность идеологической диверсии в форме стриптиза. Как не смеяться, если Катанян упивается процессом отрывания бананов, когда их связка служит единственной одеждой, найдя нужным писать о таком шоу в мемуарах, наряду с одобрением революционных преставлений Л. Брик о праве на свободную любовь и таковую практику. Кстати, весной 1969 г. левый диссидент А. Амальрик выразил ту же тенденцию обнажения, что и Кочетов, заметив: «Быть может, у нас и будет "социализм” с открытыми коленками, но отнюдь не социализм с человеческим лицом» («Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?»).
Сравнение с революционной эпохой будет не в пользу Кочетова, если брать нравы 1920-х. А парады физкультурников в 30-е наводят на сопоставления с олимпийским "Триумфом воли" в Германии. Кочетов и здесь видел подтасовки антисталинистов: «Я перевожу с французского. Слушайте! «Не даром же в Германии говорят о „медхенвундер“ – немецком „девичьем чуде“, которое приятно изменило внешность девушки. Она все меньше походит на мускулистую валькирию, которую так ценили нацисты и сходство с которой объяснялось злоупотреблением картофелем и спортом». Это статья французского журналиста о неонацизме в ФРГ. Как вам она нравится? То, что говорят о немках, ваш парнишка приложил к нашим девчонкам, да еще и культ личности приплёл».
С.С. Смирнов, автор книги о Брестской крепости, значится среди сторонников И.С. Глазунова. В книге Льва Колодного ещё одним таким покровителем зовётся Алексей Аджубей – «всесильный» член ЦК КПСС, редактор «Известий», зять Хрущёва, автор перестроечных мемуаров «Те десять лет», не дающих повода относить его к националистически настроенным советским верхам. Участие такого лица могло бросать на Глазунова тень сомнений. По хронике жизни, на один 1962 г. приходится и знакомство с Аджубеем, и портрет Смирнова, и основание клуба «Родина».
Какие-то основания нашёл Солоухин для присоединения к эмигранту Голомштоку в подозрении о сотрудничестве Глазунова с КГБ. В 1976 г., когда дописывалась «Последняя ступень», эмигрант Голомшток отправил в гамбургский суд письмо: «его двойная жизнь, его принадлежность к КГБ не вызывала сомнений» в «московских художественных кругах». Причём не только в еврейских кругах, поскольку В. Чивилихин, чьё произведение даст наименование характерному обществу «Память», в дневнике за 1966 г. записал подозрения Глазунова в провокации, обсуждаемые с другим писателем патриотического направления Леонидом Леоновым [Л. Колодный «Любовь и ненависть Ильи Глазунова» М.: Голос, 1998, с.407, 493-494].
Леонов был одним из первых читателей «Последней ступени». Но не принимали ли они за провокацию, по советской привычке всего бояться, монархическую смелость Глазунова, продвигавшего национальную идею при каждой возможности?
Леонид Бородин значительно дополнил имеющиеся описания взаимоотношений художника с властями: его квартира постоянно была под наблюдением у КГБ, т.к. Глазунов постоянно собирал у себя людей, потенциально полезных русскому делу. Глазунов помогал очень многим из собственных средств, включая Бородина. Глава МВД Щёлоков, по утверждению Бородина, сочувствовал Глазунову и даже находился с ним в дружеских отношениях, а художник служил в академии МВД и имел от министерства удостоверение [Л.И. Бородин «Без выбора» // «Москва», 2003, №8].
Михаилу Лобанову Илья Глазунов дарил книгу А.И. Солженицына «Ленин в Цюрихе», а когда Лобанов с перепуга засомневался, брать ли, Глазунов назвал колебания советской трусостью, пообещав отказаться от знакомства, если Лобанов его выдаст. Так Глазунов вёл антисоветскую проработку в творческих кругах. Лобанов оценил его как «феноменального во многих отношениях художника и человека» [М.П. Лобанов «Твердыня духа» М.: Институт русской цивилизации, 2010, с.464].
К писателю Кочетову Лобанов относился критически, и это было взаимно. Еврея Пастернака Лобанов считал себе куда более близким по духу, чем коммуниста Кочетова, вопреки этнической близости [В.Г. Бондаренко «Русский вызов» М.: Институт русской цивилизации, 2011, с.425].
Аджубей имел силу только до 1964 г. при Хрущёве. Журнал «Знамя», в котором в 1988 г. (№6-7) Аджубей публиковал мемуары, относился к антирусскому направлению, его главный редактор Григорий Бакланов (Фридман) печатал фальшивые письма еврея Норинского от имени национал-большевицкого общества «Память». Бакланов присоединился к деятельности фонда Сороса, который будет финансировать «Знамя» в 1990-е. В том же журнале «Знамя» Аджубей предлагал закрыть патриотические журналы о русской культуре и истории. Еврейский олигарх из США, поставивший целью утвердить в СССР американское мышление, объявил прямо: «Самым опасным из всех националистических движений является русский национализм» [Д. Сорос «Концепция Горбачёва» // «Знамя», 1989, №6, с.177].
Именно так всегда считали в СССР. Лидия Гинзбург в записных книжках замечала: в СССР разрешён даже еврейский национализм, только не русский. Она никогда не испытывала монархических чувств, но как почитателя русской культуры, это её оскорбляло.
В 1982 г. журнал «Коммунист» обвинял «Наш современник» в «пропаганде религиозно-мистических взглядов члена КПСС Солоухина». Георгий Владимов, из числа советско-еврейских писателей-эмигрантов, замечал в 1983 г.: «Главным объектом гонений становится «Русская партия»» [М.В. Назаров «Вождю Третьего Рима» М.: Русская идея, 2005, с.366-367].
В романе Кочетова состоялось перевоспитание художника, отвергнувшего националистический соблазн и ухаживания иностранной прессы. Кочетова могла подкупить поездка Глазунова во Вьетнам в 1967 г. Художественное изложение, донельзя идеологизированное, объясняет перелом настроений известием о тайной службе в советской разведке родителей художника, которые ошибочно считались им казнёнными за измену родине. Это переворачивало представления Свешникова, лишало его чувства кровной обиды. Аналогия в жизни, если она может быть проведена, касается не покойных родителей, а родного дяди Бориса Глазунова, который вместе с Николаем Рутченко в 40-е сотрудничал с немцами и состоял в НТС. А в эмигрантских изданиях по-прежнему подозревают Рутченко в работе на КГБ. Все эти бесчисленные подозрения, будучи недоказуемы, малого стоят.
О.А. Платонову от бывших работников КГБ известно о внедрении в ВООПИК многих информаторов и агентов влияния, которые прониклись идеологией патриотов. «Мне известны имена некоторых из них, несколько человек ещё живы и пользуются заслуженным авторитетом в патриотических кругах».
Ещё Олег Платонов передаёт рассказ Владимира Солоухина о знакомстве с «Протоколами сионских мудрецов» в клубе «Родина» (предшественник общества по охране памятников).
Меня волнует другое. Чем интересна эпоха СССР после Сталина, это тем, какое оказывали влияние на советских граждан запрещённые монархисты. В особенности – казнённый генерал Краснов.
Монархисты Советского Союза читали его. Но можно ли судить о сильном влиянии Краснова на их убеждения?
На крупной и многоликой картине «Великий эксперимент» (1990) в ряду Белых генералов, ближе всех к портрету Царской Семьи, из-за спины Деникина, символически им полузаслонённый, выглядывает седой и белоусый… да не иначе как Краснов. Левее него Деникин, Врангель, Корнилов и Колчак, все под крупным ликом и плечами Столыпина. В «России распятой» Глазунов, подобно многим, преувеличивает значение этого министра и напрасно додумывает подозрения по адресу губернатора Гирса.

Пока поверим, что это действительно Краснов, точно не М.В. Алексеев (больше смахивает на Милюкова, но в таком ряду ему не место). Не будь Краснова на этой картине, письменные и устные упоминания Краснова Глазуновым не говорили бы столь наглядно о значимости личности Краснова в его понимании событий ХХ века.
У Владимира Солоухина Краснова сразу не найти. Нет в «Последней ступени» (красуются Колчак, Деникин, Врангель), нет в последней «Чаше», промежуточной книге «При свете дня». Хотя точно известно о давнем знакомстве Солоухина с книгами Краснова, за несколько лет до «Чего же ты хочешь?».
Можно утешиться соображениями, что писатель намеренно умолчал о нём, предпочитая ссылаться на признанные культурные величины. В СССР Краснов был фигурой малоизвестной и опороченной, его имя не могло помочь в воздействии на смену представлений о монархической России.
Но вот радость. Как только в РФ опубликовали в журналах «Дон» и «Наш современник», а также отдельными изданиями несколько книг генерала, когда читатели могли самостоятельно составить мнение о его личности, убеждениях и культурной значимости, в повести Владимира Солоухина «Солёное озеро» (1994) имя Краснова появляется первым в ряду: «Не покорились Краснов, Деникин, Дроздовский, Врангель, каппелевцы, Колчак… Не покорились те русские офицеры и рядовые чины Добровольческой армии, Белой Гвардии, которые дрались с подневольно мобилизованной и парализованной страхом» РККА. В этом перечне упор сделан на монархистах, каковыми с особенной отчётливой выразительностью являлись Краснов, Дроздовский, Каппель, Врангель.
Тем значимей становится то внимание, которое уделил Всеволод Кочетов политическому влиянию и литературному наследию П.Н. Краснова ещё в СССР, когда монархисты не могли использовать его имя.
Для примера, Вадим Кожинов смог сослаться на романы генерала Краснова только (или уже, смотря как взглянуть) в 1990 г. в статье «К спорам "о русском” в дискуссии "Русская идея: прошлое или будущее”». Кожинов использовал написанное в 1867 г. Ф.И. Тютчевым: «всё более патологический характер» принимает «русофобия некоторых русских людей». Кожинов посему заключает: «Таким образом, относить зарождение борьбы с «русофобией» ко временам писательства белого генерала Краснова – значит, простите, обнаруживать элементарное невежество» [В.В. Кожинов «Россия как цивилизация и культура» М.: Институт русской цивилизации, 2012, с.378-379].
В эмиграции, рассказал Кочетов, «генерал Краснов принялся строчить антисоветские романы, в духе которых, равняясь на него, выступил и молодой Сабуров под псевдонимом Распятова». Сабуров – один из главных героев романа Кочетова, белоэмигрант, последователь Краснова в неотступной антисоветской непримиримости. «Отец Сабурова, связавший свою судьбу с генералом Красновым, с подобными Краснову сторонниками германской ориентации, не стронулся с места» в 1933 г., когда эмигранты покидали Германию. Только к той поре Краснов 10 лет поживал во Франции, потому связать с ним свою судьбу, оставаясь в Германии, не представлялось возможным. Нет оснований приписывать Краснову ориентацию на Германию в 1933 г.
В романе, писанном на протяжении 1933 г. и оконченном в марте года следующего, Краснов объясняет: «Читал в «Ленинградской правде» – в Германии революция в полном разгаре. Идёт героическая борьба германского пролетариата с Хитлером. Кровавый террор хитлеровского правительства и штурмовиков встречает энергичный отпор со стороны рабочих. Повсюду забастовки. Жгут фашистские знамёна. В Кобленце кровавая борьба между рабочими и штурмовиками. Читал сегодня: «Зверские пытки не могут сломить коммунистов. На пытках, в фашистских застенках, коммунисты заявили палачам: "Убейте нас, но мы останемся коммунистами”»… Нет, Борис Николаевич, немцам не до нас… Англичане и французы только что подписали с Советами пакт о дружбе. Везде одно и то же. Весь мир с ума сошёл» [П.Н. Краснов «Ненависть» М.: Вече, 2007, с.265].
В «Подвиге» (1932) Краснов предрекал: «в Германии большевизм будет» (ч.2, гл.XVII). Отсюда следует: Краснов воспринимал 1933 г. для Германии как 1917 г. для России – разгар революции, коммунисты пытаются захватить власть, начинается затяжной этап гражданской войны, в которой сторонники Хитлера – равно страдающая сторона, в Германии царит бедлам, какая тут может быть ориентация. Ориентация на дурдом?
Кочетов узнал о последователях Краснова на литературном поприще из книги перебежчика Любимова. Она впервые вышла в 1963 г. «Книга «На чужбине» помогла Любимову занять хоть и не очень громкое и высокое, но положительное и спокойное место, как говорится, в обществе», – В.А. Солоухин не без издёвки поведал, как Любимов желал попасть в Союз писателей. Оргсекретарь В.Н. Ильин навёл справки: «Цитирую, – сказал Виктор Николаевич, – газета «Возрождение». 1941 год. Париж. «Гитлер — наше спасенье, наше солнце, Гитлер — наша надежда…» Лев Любимов». В предисловии к «Чаше» Солоухин предупреждал, что не ручается за буквальную точность цитирования, но такие статьи Любимов в Париже действительно пописывал, будучи единомышленником Н.Н. Головина и С.Н. Краснова.
Надо отдать должное Кочетову, путающемуся в датах и местах пребывания генералов, мысль Краснова и его сторонников при выборе стороны Германии, он передал довольно сносно: «Да, они, немцы, всегда были врагами России,– говорил он упрямо. – Но в мире, как видите, всё перемешалось. Сегодня главные враги русского народа – большевики. И уже то со стороны немцев будет их дружеским актом в отношении России, если они помогут русскому народу избавиться от большевиков» (отец Сабурова).
Именно так расценили приход немцев казаки, помощь которым потом оказывал генерал Краснов. Сотрудничавший с Красновым Л.Н. Польский в 1990 г. вспоминал об оккупации Ставрополя, где он жил: «истреблявшиеся искусственно создававшимся в 1933 году голодом в массе своей были рады приходу немцев» [«Под немцами» СПб.: Скрипториум, 2011, с.432].
Или ещё об оккупации Житомира: «по виду всех граждан в городе не заподозришь о перенесённой голодовке. Всё это так не вязалось с нашей пропагандой и так противоречило нашей действительности, что подействовало как ушат холодной воды после похмелья на мою голову. На нашей неоккупированной территории повсеместно люди голодали, все были жёлтые, истощённые, миллионы умерли от голода, а здесь о голодовке и не слыхали. Есть над чем подумать» [П.В. Золотов «Записки миномётчика. Боевой путь советского офицера. 1942-1945» М.: Центрполиграф, 2007, с.202].
«Немцы нашу белогвардейскую братию готовы были пригреть и пригревали, пригревали. И Врангель от них кое-что получил, и Краснов, и всякие там Бискупские паслись на лугах Баварии и под липами Берлина». В отношении Врангеля Кочетов ошибается, а Бискупского немцы не только пригревали, но и под арест сажали. Краснов же большую часть пребывания в Германии ни у кого не пасся, а уединённо творил исторические романы.
Кочетов зарисовал отдельные картины войны и оккупации. «В занятом немцами Париже, по Елисейским полям, расхаживает, разрядившись в форму немецкого полковника – кто бы вы подумали! – племянник генерала Краснова! Вон начищает шпоры, готовясь к походу в Россию, господин Столыпин».
Про С.Н. Краснова Кочетов тоже узнал у Любимова, а с Аркадием Столыпиным, сыном убитого председателя правительства Империи, водили знакомство в Париже, и очень его ценили оба, Глазунов и Солоухин.
«Племянник Краснова по советскому суду был повешен вместе с дядей», – завершает Кочетов политпросвещение, но с именем генерала Краснова не покончено с его казнью. Осталось литературное наследство. Кочетов вынужден считаться с ним, объявляя Солоухина наследником похороненного в Москве генерала Краснова.
И.С. Глазунов в своих книгах приводил насчёт Ленина народную мудрость, какую теперь Кочетов запросто переадресовал бы Краснову: лучше, если б он сам всегда оставался жив, а дело его умерло.
«Однажды в руки к нему попал роман генерала Краснова, называвшийся «За чертополохом». Содержание его Сабуров помнил до сих пор. Это было сочинение о будущем России. Конец двадцатого столетия. Два американских журналиста сидят над картой мира. На месте старой царской России они видят сплошное пятно, через которое идёт надпись: «Неизвестно что». Они знают, что в конце двадцатых годов государства Западной Европы установили глухой кордон перед границей СССР, граница заросла стеной чертополоха, и, что творится за нею, никто в мире не ведает. Журналисты решили проникнуть в «неизвестно что», рискуя головами. С ними отправился туда и потомок русских князей, некий набожный, высокоталантливый юноша, проживавший во Франции. Кое-как преодолев стовёрстную полосу чертополоха, они добрались до границы. Их встретил там пограничник в старинной одежде стрельца, в высокой боярской шапке. После проверки паспортов всех троих усадили в дирижабль, в котором над спальными местами теплились лампады. В коридоре дирижабля журналисты и высокоталантливый юноша видят генерала, который курит папиросу марки Месаксуди. «Ваше превосходительство! Значит, Россия жива?» – вскрикивает растроганный до слёз потомок русских князей. Генерал словоохотлив. Оказывается, в 1930 году, когда в Советской России ещё существовала грозная ЧК, со стороны Памира, с диких, глухих гор, весь в белых царских мехах, спустился царевич из дома Романовых Игорь Владимирович. Он привёл с собой превеликое войско в белоснежных одеждах. Солдаты Игоря Владимировича громили большевиков и двигались на север, к Москве. Заняв Москву, они тотчас начали строить новую, небольшевистскую Россию. Созван был всероссийский собор, появились царь, двор, генералы, сановники. Народ стал жить не классами, не партиями, а семьями, родами. Всё везде стало благостно, задушевно, празднично звонили колокола в церквах, люди под их музыку возлюбили друг друга; если где-нибудь вдруг нарождался большевик, царская полиция в тюрьму его не заключала, не казнила. Только отрезали такому молодцу язык, дабы не распространял яд большевизма.
Сабуров не казался себе чудаком, какими были те, красновские, отправившиеся в российское «неизвестно что». Он ещё со времен войны знал, что в Советской России нет ни царя, ни сановников, ни колокольных звонов, ни чертополоха. Но вот поэт Богородицкий, живущий в Советском Союзе, в своих воззрениях возвращается, кажется, к тем временам, когда генералы Красновы ещё проектировали такую Россию, такой строй для нее, при котором бы вера в господа бога сочеталась с верностью некоему монархического толка правителю, просвещённому и на свой манер демократичному. Откуда этот бред, с каких Памиров?».
Столь подробного изложения содержания романов Краснова не отваживалось приводить ни советское литературоведение, ни авторы мемуаров, ни историки Гражданской войны и эмиграции. О писательстве Краснова отмалчивались или обходились краткими пренебрежительными замечаниями.
Кочетов переврал весь роман, как оболгал поэта Богородицкого – Солоухина. Но Кочетов «За чертополохом» несомненно читал. Эмигрантские либералы, жаловавшиеся на скуку благополучия фантастического романа, просчитались. Роман Краснова не забывали десятилетия спустя. Интерес Кочетова могло вызвать сопоставление Империи Краснова с надуманными им самим коммунистическими утопиями.
Кочетов как будто имел с Красновым личные счёты. Куда бы Кочетов ни обратил взор, занимаясь историей революции, он всюду сталкивался с этим генералом.
Откуда взялись в «Чего же ты хочешь?» итальянские сюжеты, ясно из посещения Кочетовым Италии: в 1961 г. в «Молодой гвардии» вышла книга «По двум тысячелетиям. Поездка в Италию». В 1968 г. в издательстве «Правда» – его «Итальянские странички».
Пристальное внимание писателя к атаману Краснову прослеживается в историческом романе Всеволода Кочетова «Угол падения» (1967). Это роман о защите Петрограда в 1919 г. В нём можно отследить несколько сюжетных линий. Это борьба положительных героев – Павла Благовидова в Комитете Обороны и чекиста Константина Осокина с белогвардейскими войсками, буржуями, спекулянтами, вредителями. Одна такая буржуйка – баронесса М.Д. Врангель, о пребывании которой в Петрограде до 1920 г. Кочетов мог знать из её воспоминаний «Моя жизнь в коммунистическом раю».
 Троцкий 1919 г. Фронт Юденича.
Троцкий 1919 г. Фронт Юденича.
Вредителями представлены Троцкий и Зиновьев. Троцкий спасал и выгораживал Балаховича. «Ерунда», – беспечен Зиновьев в начале наступления Юденича, а когда враг на подступах города, паникует: «У нас нет сил защищать город со всех направлений». И тут появляется Сталин. «Зубы Зиновьева скрипнули, когда он увидел эту фамилию». Всё строго по концепции «Истории гражданской войны» 1940-х: Сталин приезжал и спасал все фронты.
Троцкий тоже хочет сдать Петроград. Любая вредительская активность измышлена романистом без всяких документальных опор. Насколько не способен Кочетов домысливать беседы в реальном контексте, показывает такая беседа с Зиновьевым:
«А я вот в тех газетках прочитал, Григорий, что ты взял к себе повара убиенного Николая Александровича Романова. Не пикантно ли?
У Зиновьева дёрнулись губы. То, о чём сказал Троцкий, было правдой. Но он, конечно же, об этом нигде не читал, а ему уже доложили об этом его петроградские агенты. Всё видит, всё знает, во всё запустил свои щупальца».
Повар Харитонов погиб вместе с Царской Семьей. Кочетов недооценил жестокость своих персонажей, показывая их мелкими, готовыми только подгадить.
Про повара Кочетов не мог прочесть в белогвардейских газетах, неудачный домысел показывает не просто незнакомство с расследованием Екатеринбургского злодеяния, но и самое широкое непонимание хода исторического процесса и его закономерностей. Потому Кочетов будет ошибаться всегда, отрываясь от букв документов. Его спасает только удивительно частое их использование, иначе фантазия, увлекательная, но подменяющая исторический смысл, поглотила бы всё.
Авторские желания часто задавливали правду. Кочетову хотелось объединить Белое Движение с национал-социализмом. Результат: «Розенберг – одно из главных лиц в деле возникновения русских добровольцев в Пскове». Намечавшаяся линия с Альфредом Розенбергом в романе заглохла, т.к. он не имел ни малейшего касательства к Пскову, в 1919 г. находился в Германии.
Упоминание об участии Н.Н. Юденича в тайной офицерской организации Н.Е. Маркова сразу говорит об использовании изданных в Германии мемуаров Авалова. Жандарм Владимиров – из сборника «Юденич под Петроградом», выходившего в СССР в 1927 г. Источник можно выискать всюду, где Кочетов прав. Но он часто ломает хронологию. У него В.Н. Воейков уже пишет книгу «С царём и без царя» (1936) в Гельсингфорсе. А это был ответ на мемуары Мосолова (1933), побудившие бывшего дворцового коменданта взяться за исправления.
Кочетов грубо зовёт Воейкова «свитский хомяк». Многие белофевралисты то и дело отводят вину от главных изменников, судя Воейкова за неубережение Царя. С ними заодно Кочетов. «Первыми в бега ударились, как только пальнул кто-то под окошком дворца». Никто из них не рассказывает, что на самом деле Владимир Воейков не бросал Государя. М.В. Алексеев потребовал его удаления из Ставки. Дворцового коменданта заставили уехать.
Постепенно в романе «Угол падения» проявляются две важные линии. Это жизнь А.И. Куприна в Гатчине, где он занимается огородом, удалившись от полной смертей столицы. Кочетов высмеивает копание картошки в эпоху великих битв. Мельком Кочетов упомянул посещение Куприным Кремля, не сказав, что его принимал сам Ленин. 13 (26) декабря 1918 г. Куприн предложил Ленину издавать для крестьян газету «Земля». Куприн передал Ленину рекомендацию от Горького [«Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т.6. Июль 1918 – март 1919» М.: Политиздат, 1975, с.358].
Кочетов затруднился объяснить, как же эпохальная встреча с «великим вождём» кончилась с тем, что Куприн бросил всё и начал, по любимому выражению Деникина, сажать капусту. Чтобы потом – присоединиться к генералу Краснову. Это вторая из линий, чьё пересечение загодя задумано автором.
Кочетов подготавливает объяснение их сотрудничеству, разматывая рулон предыстории. Подготовляется вступление на сцену с замечания про Авалова: формировал части на Украине «для донского атамана Краснова».
Немного спустя Кочетов запускает коронное коммунистическое оправдание: «приходится воевать до полного подчинения или истребления», т.к. каждый «из тех расстрелянных гидряков» поступил бы как Краснов. «Генерала Краснова отпустили в семнадцатом году, под его честное генеральское слово. И что? Удрал. И сколько же наших людей погубил он, зверствуя на Дону, после этого!».
Не самое полезное дополнение к моей главе «Честное слово генерала» – это дословный повтор речевых оборотов Ленина и его подголосков 1920-х. Основная ошибка всех пользователей большевицкого пропагандистского инструмента, наряду с незнанием того, какое честное слово давал Краснов, есть неведение его роли относительно донского казачьего восстания весны 1918 г.
Расстреляв Краснова или его изолировав, они бы ничего не изменили: донские казаки всё равно восстали бы против грабителей, убийц, интернационалистов и лжецов. И мобилизованные против восстания красные части встретили бы то же ожесточённое сопротивление, какое они получили без покончившего с собой атамана Каледина и "добросовестно” убитого красными его заместителя, атамана Назарова. Краснов демонстративно отказывался принимать участие в этом восстании, пока оно не закрепилось в Новочеркасске как следует.
Дальнейшие жестокости, на которые временами ссылаются критики генерала Краснова, являются следствием не им запущенного процесса. «В марте 1917 г. харьковский комитет РСДРП провозгласил: «Да здравствует гражданская война!»» [Э.Н. Бурджалов «Вторая русская революция. Москва. Фронт. Периферия» М.: Наука, 1971, с.225]. Вторя сочинениям Ленина, красноармейские теоретики писали: «Революции, т.е. превращение войн империалистические в гражданские, неизбежны» [М.Н. Тухачевский «Избранные произведения. 1928-1937» М.: Воениздат, 1964, Т.2, с.21].
Революционный догматизм классовой борьбы требовал гражданской войны. Убеждения требуют соответствия им. Если кто-то виновен в зверствах Гражданской войны, то именно те, кто считал нужным истреблять всех несогласных, утверждая свою идею. Ни в чём таком Краснов невиновен. Защищая сначала монархическую легитимную власть, потом даже и незаконную, но установленную и потому ценную по сравнению с анархическо-утопической, власть Керенского, Краснов показал себя наименее всех виновным в разжигании гражданской войны, ибо он боролся не за власть для себя, а против самовольных преступных посягательств, ведущих к конфликтам и анархии.
Не добиваясь того, атаман Краснов получил власть, и не употреблял её на разжигание и без него бушующих «зверств». «Реакция, которую несут с собой населению Красновы по мере продвижению их отрядов, – это самая страшная гроза пробуждающемуся национально-государственному самосознанию широких народных масс». – Эсеровские критики уцепились за одну деревню, сожжённую за убийство служащих в Донской Армии казаков [«Дело народа», 1919, №10, с.1, 3].
Прошло 95 лет, а описание репрессий атамана Краснова по-прежнему включает единственную деревню. Отсутствие других примеров доказывает всю разницу между режимом Краснова и давимым по всей РСФСР антисоветским восстаниям.
Кочетова влечёт к Гатчине – свидетельнице первого контрреволюционного похода. «Именно отсюда, объединив свои силы, направили свой контрудар по революции свергнутый премьер Временного правительства господин Керенский и командир прошенного сюда из-под Острова кавалерийского корпуса казачий генерал Краснов. Сложенный из серого камня дворец Павла I мог бы многое рассказать о тех днях. Под его сводами они перегрызлись все: и Керенский, и Краснов, и бомбист Савинков».
Можно заметить закономерность: негативные оценки додумываются автором в искреннем убеждении, что иначе не может быть. Однако Краснов отверг грызню Савинкова против Керенского, а потом спас свергнутого главу Временного правительства из окружённого красногвардейцами дворца.
Кочетов обращается к Гатчине, используя проживание в ней Куприна и его воспоминания «Купол Святого Исаакия Далматского», заимствуя оттуда мысль о знакомых Куприну солдатах: «Я допускаю, что все эти дорогие моему сердцу, чудесные солдаты: Николенко, Балан, Дисненко, Тузов, Субуханкулов, Курицын, Буров и другие – могли быть потом вовлечены мутным потоком грязи и крови в нелепую «борьбу пролетариата»» («Купол»).. Куприну отвечает герой Кочетова: из них «одни, может, генерала Краснова от Питера гнали и сейчас тоже в Красной Армии».
С фактической стороны Кочетов ошибается на каждом шагу. Приводит вздох: «А ведь я революцию завоёвывал, Краснова с Керенским возле станции Александровской бил, новую жизнь добывал». На самом деле под той станцией сотнями били красногвардейцев пулемёты частей генерала Краснова, а от красного огня единственными пострадавшими были мирные жители Александровской – жертвы снарядов, никак не попадавших на солдат Краснова.
Немногие оценки, сделанные от имени монархистов, в романе удачны. Из таких: «Дума только и занималась клеветой на царствующий дом», М.В. Родзянко подрывал устои Самодержавия – родственник А.П. Родзянко из Северо-Западной Армии. Так Кочетов расставил действующих лиц, приготовив всё к появлению на сцене генерала Краснова.
«Ломались карандаши, ломались спички от нервных закуриваний, сыпался на паркетный пол пепел папирос.
Генералы не сразу поняли, чего от них хочет адъютант начальника штаба, появившийся в дверях.
– Что-что? – переспросил Родзянко.
– Прибыл его превосходительство генерал Краснов.
– Кто? – уже удивился и Крузенштерн.
– Генерал Краснов! – повторил адъютант.
Родзянко и начальник штаба переглянулись.
– Ну-ну, просите! – сообразил наконец Родзянко. – Нельзя же столь знаменитого полководца заставлять ждать в приёмной.
Поблёскивая стёклами пенсне с золотыми зажимками, чуть усмехаясь, вошёл энергичной походкой кавалериста не поладивший ни с генералом Алексеевым, ни с Деникиным на юге и потому вот устремившийся на север недавний атаман Всевеликого Войска Донского, в прошлом фельдфебель роты его величества, гвардеец, танцор, сочинитель романов, стихов, виолончелист, дававший, бывало, в столичных гостиных сольные концерты.
Генералы поднялись ему навстречу.
– Господа! – не погасив своей усмешки, сказал, подходя, Краснов. – Чрезвычайно рад видеть настоящих рыцарей белого движения.
Были пожаты руки, все вновь, в том числе и гость, опустились в кресла. Глаза Краснова скользнули по разостланной на столе карте.
– Гатчина? – сказал он. – Царское Село? Александровская? Знакомые места, господа.
Родзянко и Крузенштерн заёрзали в креслах. Им не нравилось, что этот фанфарон заглядывает в их сокровенное. Русским офицерам давно было известно по тому телеграфу, которые летит от губ к уху, от следующих губ к следующему уху, что донской атаман разошёлся с генералами белых армий юга из-за своей германской ориентации. Немцы его вооружали, немцы ему покровительствовали, поддерживали его. Кто знает, откуда он появился сейчас. Не из тех ли русских формирований Бермонта-Авалова, не из тех ли войск, в которых германские генштабисты скрывают от жёстких параграфов Версальского договора своего фон дер Гольца с его «Железной дивизией»? У той части русских белогвардейцев, накрепко спаявшихся с немцами, совсем другие планы. Генерал Юденич предпринял уже не одну попытку объединённых действий с Бермонтом, но каждый раз как бы наталкивался на стену. Кто их знает: может быть, они сами хотят пойти на Петроград со стороны Риги? И кто знает, не их ли агент этот кавалерийский вояка-сочинитель, по пути в Нарву из Новочеркасска обогнувший всю Европу?..
Крузенштерн позвонил в колокольчик, сказал вошедшему адъютанту, чтобы тот распорядился подать ещё кофе.
– Прибыл, господа, в вашу армию, – заговорил Краснов, качая ногой в щегольском генеральском сапоге. – Но в строй, очевидно, не пойду. Я уже имел беседу и с главнокомандующим и с весьма интересным человеком генералом Владимировым. Приму участие в пропаганде.
Родзянко и Крузенштерн снова переглянулись. От такого заявления подозрительное отношение к гостю усилилось.
– Что ж, рады, безусловно рады, – ответил Родзянко, встав, и, как бы показывая тем, что служебная работа завершена, сложил карты. – Газеты, листовки, прокламации… У нас даже есть специальные аэропланы, которые предназначены для разбрасывания всего этого на головы противника. Благодатное поле, генерал.
Принесли кофе. Посверкивая пенсне, Краснов пил его маленькими глотками.
– В Батуме турки приготавливают прекрасный напиток из тех же зёрен, что получаем и мы. Но у нас их только портят. Нет должной школы. Но ваш вполне приличный. Кто варит?
– Простой солдат, совершенно простой, – ответил Крузенштерн. – А сам он этого кофе и в рот не взял ни разу.
– Ах, господа! – перейдя на другую тему, с пафосом заговорил Краснов. – Кто бы мог подумать, что мы будем сидеть когда-либо на самом краю родной земли и терзаться мыслью, как вернуть себе свой родной дом! На той карте, которую вы только что сложили, генерал, я увидел всем нам известное село Пулково. Помню грандиозные манёвры, кавалерийские примерные атаки на глазах его и её императорских величеств. Если быть откровенным, господа, я был серьёзно влюблён в нашу императрицу. Обаятельнейшая женщина, обаятельнейшая. Тонкой, изящной души человек. Если бы мне в руки попались те её хулители, которые с трибун Государственной думы склоняли августейшее имя вместе с именем грязного мужика, я бы…
– Вы это можете сделать, генерал! – радостно воскликнул Родзянко. – Случай благоприятствует вам. В наших войсках, под чужим именем, правда, подвизается, кто бы вы думали? Господин Марков-второй! Один из тех самых, вам ненавистных. Вы с ним будете трудиться по одному ведомству. Он издаёт изумительную газетку «Белый крест».
Краснов насупился. Невозможно было не почувствовать, что над ним смеются.
– Да, – отделался он невнятным ответом, так и не найдя, что же сказать ещё.
– А между прочим, – сказал Крузенштерн, – мы в наших войсках, и особенно среди населения освобождённых уездов, стараемся не поминать членов царствовавшего дома. Идея монархизма не встречает сочувствия в народе. Ка вы ни думайте, а с монархией в России покончено. Это бермонтовцы, те германофилы из в Латвии, ещё носятся то с великим князем Николаем Николаевичем, то с Кириллом Владимировичем. А мы, генерал, нет. Новое устройство в России будет основано на республиканских началах. Учтите это, пожалуйста.
Краснов понял, что здесь, в штабе, к нему относятся с неприязнью. Разговор с генералом Владимировым был ему несравнимо более по душе. Владимиров проявлял полнейшую почтительность к бывшему донскому атаману, благодарно восторгался тем, что столь известный всей России боевой генерал прибыл в Северо-Западную армию и что, если он хочет получить дело в пропаганде, вся она будет предоставлена ему.
Допив кофе, Краснов встал и попрощался. Проводив его до дверей, Родзянко вернулся к столу.
– А ведь хлыщ! – сказал он. – Чего удивляться, что он подвёл Керенского. Таких, знаете, в оперетках представляют. Вокруг них субреточки миловидненькие крутятся, а они индючками, индючками, хвост веером, по сцене фланируют и этакие-разэтакие куплетики распевают.
– Не скажите, Александр Павлович, – не согласился Крузенштерн. – А мне думается, что это лишь видимость легковесности. На самом деле он человек опасный. Карьерист. Себялюбец. И очень-очень подозрителен своей ориентацией на Германию. Какого ему у нас чёрта надо? Немцы его прислали, немцы! Вынюхивать будет. Недаром же не захотел в строй. В пропаганду ему! Чтобы свободней болтаться повсюду да вот, говорю, вынюхивать» [В.А. Кочетов «Угол падения» М.: Воениздат, 1970, с.348-352].
Советский писатель как будто искренне верит в сочинённую им интермедию, не имеющую прямых литературных аналогов в подобранной им белогвардейской литературе. Подача комической сцены дана в стиле воспоминаний М.Д. Бонч-Бруевича и в продолжение трактовок Краснова советскими писателями – М.С. Шагинян, М.А. Шолоховым, А.Н. Толстым. В советской критике воспоминания Бонч-Бруевича, появившиеся в 1957 г., обвинялись в недооценке врагов, отнюдь не глупых. Потому Кочетов ориентируется больше на образ Шагинян, Шолохова и Толстого – образ Краснова блистательного, очаровательного генерала, писателя, а не солдафона, но авантюриста, склонного к острым ощущениям и продажного германофила. Карьеризм сохранён из Бонч-Бруевича. От себя Кочетов мог добавлять впечатления, вынесенные им от знакомства с книгами Краснова.
Сочинение стихов, танцы и виолончель не соответствуют известным биографическим данным П.Н. Краснова. Он был слишком поглощён военным делом, историческими исследованиями, оттачиванием литературного мастерства, чтобы тратить жизнь на побочные занятия музыкой, которую он очень ценил как слушатель. Краснов, будучи человеком целеустремлённым, понимал, что достигнуть чего-то значительного можно только сосредоточением на основном роде деятельности.
Основная ошибка, допущенная Кочетовым и доныне неизжитая среди лиц, мыслящих советскими схемами, – это отношения Краснова с Германией. Удаление Краснова с Юга России не может быть объяснено ориентацией, поскольку Германия проиграла, немцы покинули области, примыкающие к Дону, Краснов обратился к Антанте, страны которой всегда считал союзными с русскими и желал совместных действий против большевиков, не исключая такого и в пору сотрудничества с Германией (ожидание прихода чехов с Востока). Причина, по которой атамана Краснова свергли в 1919 г. – это нежелание Антанты оказывать действительную помощь Белым Армиям и терпеть Краснова – самостоятельного политика и монархиста. Антанта предпочитала ему послушного и заискивающего перед заморскими демократами Деникина.
Германофобия взаправду создала на Севере, даже среди высших офицеров, представление о Краснове как об опасном вредителе – довольно дикие мнения о нём действительно можно найти в записках видных деятелей Северо-Западной Армии, не опубликованных при жизни Кочетова и потому им не использованных. Но такие записи делались только в пору незнакомства с настоящим Красновым, при незнании действительной обстановки на Юге. Когда Краснов приехал к Юденичу, те же лица активно сотрудничали с Красновым и, конечно, разуверились в представлениях, будто он – агент Германии.
В особенности потому, что «откуда» появился Краснов – было отлично известно. Краснов имел направление от Деникина, а действия Авалова – соперника Юденича – Краснов печатно осуждал. Фантазии о работе Краснова на немецкую разведку при Юдениче – хороши для романа, но совершенно неприменимы в используемых исторических условиях.
Кочетов верно показывает А.П. Родзянко демократом и противником Н.Е. Маркова. Но Кочетов гнусно клевещет на Николая Маркова, утверждая, будто он участвовал в преступных обвинениях Императрицы в Г. Думе. Н.Е. Марков яростно протестовал против изменнических деяний прогрессивного блока, являясь образцом для поведения монархистов.
Последующая сцена встречи П.Н. Краснов и А.И. Куприна в Гатчине прописана с обширным использованием «Купола Святого Исаакия Далматского». Автор делает отдельные вставки к описанию Куприна, передавая его отношение к Краснову: «знаменито-шумный военный литератор». Происхождение названия газеты «Приневский край» Кочетов подаёт так: Краснов «вспомнил донской «Приазовский край», на страницах которого не так-то давно его превозносили и славили». Затем Кочетов даже сочиняет выдержки из этой газеты, хотя не читал её, т.к. приводит ошибочные выходные данные по мемуарам Куприна. Зато нет в «Куполе» убогих бытовых подробностей: «Краснов и Куприн поздравили друг друга с успехом, выпили по стопке водки, взялись за папиросы».
В «Автобиографических заметках» И.А. Бунина досталось всему литературному шабашу, мечтавшему о революции. Куприну, по справедливости, за пьянство. Александр Блок в дневнике 1.1.1913 г. о нём выразился кратко: «всегда пьян» [А.А. Блок «Собрание сочинений» Л.: Художественная литература, 1982, Т.5, с.178].
Однако, говоря о Краснове, следует поостеречься и не записывать его в собутыльники или курильщики.
Писатель Борис Тумасов, который в 2003 г. написал романсированную биографию атамана Краснова, ещё в 1970-е творил романы о древнем прошлом России, что в СССР – показатель почвеннических настроений автора. Хотя прямых сведений об отношении Б.Е. Тумасова к т.н. «русской партии», войну которой объявил Кочетов, нет, но о том говорят его романы и главное – факт написания книги «Краснов. Не введи во искушение». В ней допущено фактических ошибок, быть может, не меньше, чем у Кочетова в книгах «Угол падения» и «Чего же ты хочешь?». Но автор, несомненно любящий историческое прошлое России, закономерно показал Краснова человеком безупречным с нравственной стороны. И в отличие от Кочетова, писатель не считал себя познавшим историческую истину, он именем Краснова ставил наперёд задачу: «Но ничего, – говорил себе Краснов, – история нас рассудит. Не лживая, советская, а честная, которую когда-нибудь напишут будущие российские учёные» [Б.Е. Тумасов «Краснов» М.: АСТ, 2003, с.377].
Кочетов не желал изображать Краснова честно ни с исторической, ни с художественной стороны. Автор романов, отлично владеющий языком, Краснов даже устно выражается коряво, отвечая на вопрос о псевдониме в самых неестественных выражениях для кавалериста:
« – Да так, знаете. Любимую свою коняжку [!] вспомнил. Была у меня такая. Её звали Град. В своё время немало призов взяли мы с ней вместе в Красном Селе и Михайловском Манеже. Люблю лошадей, Александр Иванович.
– Ваш брат, слышал я, любил растения, был большим естествоиспытателем, ботаником, путешественником.
– Совершенно точно. Самый старший брат. Андрей Николаевич. Батумский Ботанический сад – его детище. Он натащил туда зелени со всего света. Бывал в Японии, Китае, Индокитае, на Цейлоне… Чай, всякие такие экзотические культуры, прижившиеся на Черноморье, – всё это он, всё он, Андрей наш. Его работа. Жаль, рано умер. В год начала войны. У него там, в Батуме, на Зелёном мысу, свой дом. Чудесный уголок. Писать, сидя над морем, среди зелени, – одно удовольствие. После Новочеркасска… Вы знаете, конечно, мою историю с Деникиным?.. После неё я уехал именно туда, на Зелёный мыс, и начал было новый роман…
– Бывает же так, жизнь в разные стороны разводит близких людей, родных братьев… – Куприн задумчиво щурился: вежливо слушая генерала, он думал своё.
– Да, разводит, вы правы, – рассуждал Краснов. – Брат делал одно, очень мирное. А я вот всю жизнь воюю. Эти места – Гатчина, Царское, ох, как мне знакомы они все, дорогой Александр Иванович! Между прочим, если бы тогда, в октябре семнадцатого, у меня под ногами не путались эти опереточные персонажи – господин Керенский, месье Савинковы, Станкевичи и всякие иные, я бы уже тогда покончил с большевиками, их комиссарами, и с Лениным в том числе. У тех, если посмотреть, не было тогда никаких сил. А у нас они были. Вернее, могли быть. Что ж, наверстаем. За ваше здоровье! За нашу газету!» («Угол падения»).
А.И. Куприн, быть может, и не знал про значение Андрея Краснова для отечественной науки. В.А. Кочетов знал точно, т.к. в 1967 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышла его книга о путешествии на Цейлон «Остров Бурь». Собирая материалы для этой книги, Кочетов встречался с работами А.Н. Краснова и выявил родство с интересующим его Белым генералом.
Как всегда, один Кочетов набрался смелости заявить об этом. Все биографические работы, выходившие в СССР, естественно, не афишировали нежелательные семейные связи. Возвращение имени Андрея Краснова настало в СССР вскоре после казни П.Н. Краснова в Москве.
В 1949 г. напечатали: «В 1910 году ботаник Андрей Николаевич Краснов (1862-1914) только строил проекты заселения русских субтропиков растениями со всего мира. Это был еще «Сон на Чёрном море», как он назвал одну из своих статей. А.Н. Краснов предлагал правительству проект использования субтропиков. Он писал: «На Зелёном мысу могут расти под открытым небом самые теплолюбивые экзоты; наш русский турист должен искать иллюзию субтропиков и тропиков не в садах Алжира и Туниса; не в Ниццу и Савойю и даже не в Швейцарию должны стекаться тысячи экскурсантов, а на Зеленый мыс».» [Н.М. Верзилин «Путешествие с домашними растениями» М.: Детгиз, 1949].
В следующем году Исаак Бейлин выпустил книгу «А.Н. Краснов ботанико-географ и путешественник (1862- 1914)» М.: Издательство Московского общества испытателей природы, 1950. Затем появилась книга: Ф.И. Мильков «А. Н. Краснов — географ и путешественник» М.: Географгиз, 1955. До 1946 г., когда в бюллетене МОИП вышла статья «А.Н. Краснов» Е.М. Лавренко, за годы существования СССР с библиографии значится единственная статья в «Советской ботанике» за 1935 г. к двадцатилетию его смерти. Начиная с 50-х перечень удлиняется, что не может быть случайным.
В записи Кочетова распознаётся знакомство с предисловием ко второму изданию романа «От Двуглавого Орла к красному знамени», где автор сообщает о работе на даче и Зелёном мысе. Принадлежность дачи А.Н. Краснову додумана Кочетовым – и в этом соображении есть определённый смысл (при не совпадении с материалами допросов, использованных А.А. Смирновым).
Сюжетная линия с Красновым заканчивается на эвакуации из Гатчины. «Краснов бодро поблёскивал стёклами пенсне – ему не впервой было покидать Гатчину под натиском красных. А писатель Куприн выглядел удручённо». Последняя ошибка: отнюдь не натиск красных заставил Краснова покинуть Гатчину 2 ноября 1917 г.
Роман «Угол падения» «очень» хвалила писательница Мариэтта Шагинян, известная угодническим карьеризмом и когда-то бывшая чуть ли не первой, кто изобразил Краснова в литературе.
В 1970 г. в Ленинграде сняли одноимённый двухчасовой чёрно-белый фильм «Угол падения». В фильме наиграны улыбчивые чекисты в кожанках, слабо передана кошмарная нищета вымирающего города, особенно тех, кто не продался власти. Сохранено обличение капитулянтской позиции Троцкого и Зиновьева, но антиподом их Сталина не показывают.
Фразу о пользе чекистов в фильме привели полностью: «Приходится воевать до полного подчинения или истребления одной стороны другой». Однако сразу не прибавлено сожаление об освобождении генерала Краснова: вместо того говорится, что упустили жандарма Владимирова, который теперь у Юденича. Несколько позже чекисты выразили недоверие слову офицера: «Генерал Краснов уже давал генеральское слово. Вы уж чем-нибудь другим ручайтесь». Больше имени Краснова не произносилось и зрителям его не показывали.
Кочетов не успокоился на изображении Краснова в 1919 г. Желание досказать о Краснове всё, что он думает, подвигло его на включение имени генерала в следующую книгу «Чего же ты хочешь?».
Кочетов смелее других демонстрировал знакомство с книгами Краснова. Его отвагу разогревала преемственность Ленина со Сталиным – дабы революционное прошлое не становилось только «прошлым» и не переставало считаться по-настоящему «революционным». Но для верхушки КПСС он становился «святее папы» и потому не мог быть ею поддержан. КПСС нуждалась не только во всегдашней правоте в прошлом, более значимым для партии значило считаться правым и популярным прямо теперь.
Доколе «культ» уже осуждён, КПСС пользуется одобрением этого и снимает с себя ответственность за преступления прошлого, может лавировать между надеждами на дальнейшую либерализацию и примирением со сталинистами, продавливая общие для всех великие «ленинские нормы» и сохраняя осуждение ненавистного Кочетову Троцкого. Мирил со сталинистами и не разбитый вместе с культом «личности» культ победы, объяснение которой давалось исходя из значения «рывка» 30-х годов.
Как видно из статьи Залыгина «Поворот», просталинистская мифология сохранялась в СССР до конца перестройки. Только году в 1990-м, когда «министерство правды» почти заглохло и вернули имя Троцкого как главного соратника Ленина, выяснилось, что никакой разницы между Троцким и Сталиным не сыскать.
В 1926 г. Троцкий стоял за ускоренную индустриализацию (с ним Каменев и Зиновьев). Сталин, лишь бы подавить оппозицию, на апрельском пленуме ЦК ВКП (б) делает доклад, скрытый во всех собраниях сочинений: «преувеличенные планы промышленного строительства – плохое средство для подхлестывания. Ибо, что такое преувеличенный промышленный план? Это есть план, составленный не по средствам, план, оторванный от наших финансовых и иных возможностей». Минимальный темп развития индустрии вместе со Сталиным декларировали Дзержинский и Рыков. Т.е., избавившись от Троцкого, Сталин будет проводить его безрассудные планы насильственного развития промышленности за счёт деревни. План Бухарина не являлся альтернативой, имея минимальные отличия от заданных раздутых темпов. Историки, которым впервые позволили сделать сравнения как следует, пришли к выводу о намерении Сталина «перетроцкистить» поверженного соперника. Т.е., Сталин старался быть большим Троцким, чем сам Троцкий.
К слову о том, что из себя представлял голодомор в связи с «троцкистским» «подхлёстыванием» планов индустриализации. «Цены на зерно упали на мировом рынке. Экспорт большого количества хлеба в 1932-1933 гг., когда голодный мор косил советских людей, суммарно составил всего 369 млн. руб., а лесоматериалов – почти 700 млн. руб., нефтепродуктов – ещё столько же. В 1933 г. только продажа пушнины позволила выручить средств больше, чем продажа хлеба». «Выручка за хлеб уже не могла ничего изменить, а сохранение зерна внутри страны в тот трагический час спасло бы жизнь многим нашим людям».
Сталин лгал, утверждая, будто СССР отстал на 50-100 лет, и без насильственно взвинченных темпов «нас сомнут», он лгал, будто до первой пятилетки в СССР не было чёрной металлургии, «не было станкостроения», а по показателям производства электроэнергии, угля, нефтяных продуктов «мы стояли на самом последнем месте» [В.С. Лельчук «1926-1940 годы: завершённая индустриализация или промышленный рывок?» // «История СССР», 1990, №4, с.6, 17, 20].
Всё это отъявленное враньё целыми полосами цитируется сталинистами, падкими на никуда не годный обман Кочетов ошибался, противопоставляя Сталина Троцкому и выворачивая наизнанку значение Монархии, Церкви, революции 1917 г., Ленина, 1930-х годов и всего построения социализма в СССР. Но точно такие же ошибки делала вся советская историческая наука и публицистика, пока работало «министерство правды».
Глеб Струве, несколько раз упомянутый в романе Кочетова, в книге «Русская литература в изгнании» выставил Краснова из литературы в литературу возле литературы. Александр Твардовский выдворил Кочетова даже из плохой литературы. И всё – сугубо по политическим мотивам. Краснов не стеснялся быть монархистом, националистом и даже противником еврейского владычества. Кочетов объявил Сталина полноценным наследником Ленина. Он отстаивал коммунистические идеалы с редким пылом. Говоря, как он защищал героев революции и первых пятилеток, Кочетов так захваливает себя, что даёт основание литературоведам говорить о непроизвольной самопародии. Н.В. Ковтун в диссертации «Русская литературная утопия второй половины XX века», замечает её, не касаясь романа «Чего же ты хочешь?», по материалам других книг.
«Вы слишком отчётливо заняли партийные позиции в литературе, слишком отчетливо обнародовали свое кредо. Значит, добровольно встали в передовой отряд борьбы за коммунистическое будущее. Чего же удивляться тому, что пули летят прежде всего в вас и в таких, как вы? Сидели б в заветрии, за омшаником, расписывали красоты природы, всякие омуты и заводи, сельские идиллии с буренками и жеребёнками, от которых пахнет молоком и навозом, с мудрыми дедами Михеичами, с боевыми молодайками, лихими на тряску подолами,– исполать бы вам тогда, батюшка! А то вот всё до главного докапываетесь: как, мол, то да сё да третье-четвертое, с точки зрения интересов рабочих и крестьян, да какую роль в том да сём да в третьем-четвертом играют акулы мирового империализма. Ну, и коль без этого не можете и коль Михеичи да буренушки вас не вдохновляют, – терпите, дорогой мой, ко всему будьте готовы, ко всему. В меня барон Врангель стрелял… В вас… Вот уж разбирайтесь сами, кто в вас стреляет».
Немыслимо представить, чтобы П.Н. Краснов написал о своих книгах что-то настолько бестактное. Он не превращал своё изгнание в пошлый спектакль, как Виктор Гюго. Автобиографические эпизоды, проецируемые на личность генерала, в его книгах не заносчивы. В романе «Ненависть» герой Краснова рассуждает: «Не нам с тобою мировыми вопросами заниматься. Наше дело маленькое… Мировые вопросы решат и без нас. Мудрость жизни, счастье народа в доверии к своему правительству и в том, чтобы каждый по совести делал своё дело, не озираясь на соседа» (Ч.2, гл.VIII).
На доверии, стоит отметить, основана монархическая система. Иван Ильин в работе о монархии и республике отмечает: монархист обязан доверять, иначе система Самодержавия не может существовать. В республике избиратель должен не доверять, иначе к чему тогда выборы? Испытывай народ доверие, выборы будут пустой тратой времени. Но поскольку есть выборы, то возникает опасность победы жуликов и проходимцев, утопистов и самодуров, марионеток и политпроституток.
Иван Ильин: «Республика есть по существу своему такой политический строй, при котором глава государства или совсем отсутствует (как в современной Швейцарии) или же обставляется всевозможными гарантиями недоверия». «Обязанность честного монархиста – доверять главе своего государства; обязанность честного республиканца – не доверять» («О монархии»)
В окончании трилогии «Подвиг» Краснов даёт авторское пояснение о своей задаче: «Романист всегда историк. И – историк гораздо в большей степени, чем это принято думать. Романист в своей душе, в своём сердце, которое вкладывает в произведение, отражает жизнь и, отражая, изображает её в ряде картин и сложившихся типов» (не исторических лиц). Т.е. Краснов и думать не мог хвалиться подъятием мировых вопросов, как делал Кочетов. Однако это не значит, что Краснов от них уклонялся. Это очередная соотносимость противоположных полюсов.
Кочетов покушался на акул мирового империализма, враждебных СССР. А Краснов обвинял их же – масонов и банкиров – в поддержке большевизма. «Несколько самых крупных представителей мирового банковского мира должны были съехаться на совещание в ноябре, в одном из банков Берлина, и там обсудить, как и в какой степени капиталистический мир может помочь государству, где осуществляется чистый социализм» [П.Н. Краснов «Подвиг» СПб.: Ленинградское издательство, 2009, с.415, 462]
Роман «Подвиг», 2-й том которого включал фантастические эпизоды борьбы банкиров за социалистическое строительство, вышел в 1932 г. в Париже. И тут снова открывается неприятное для Кочетова обстоятельство. По словам американского министра внутренних дел (1933-1946) Гарольда Икеса, президент Франклин Рузвельт так оценил свой Новый курс: «То, что мы делали в этой стране, по сути соответствовало тому, что делалось в России, и даже тому, что проводилось в жизнь в Германии под началом Гитлера». Американский историк об этом пишет: «к 1932 году восхищение русским «социальным экспериментом» стало непременным атрибутом американского либерализма. За два десятилетия до этого точно так же воспевался прусский социализм». СССР стал для США «золотым стандартом» экономической и социальной политики. В немецкие компании эпохи нацизма вкладывало деньги не лично семейство Бушей, как это часто ошибочно утверждается, а их начальник, Аверелл Гарриман. Именно он направлял инвестиции как в немецкие, так и в советские предприятия, после чего стал послом Рузвельта в Москве и министром торговли при Трумэне [Д. Голдберг «Либеральный фашизм» М.: Рид групп, 2012, с.131, 141-142, 490].
После смерти Ф. Рузвельта отношение изменилось, но прославляемая Кочетовым эпоха индустриализации – это время признания Штатами СССР и самого активного сотрудничества. В 30-е СССР стал для США крупнейшим торговым партнёром. В 40-е Соединённые Штаты спасли СССР, когда напал Хитлер, не армией, а ленд-лизом.
Э. Саттон факсимильно воспроизводит следующий документ компании «Симпсон, Тэчер и Барлетт, 120, Бродвей, Нью-Йорк, 21 июля 1927 года»: «Государственный Банк СССР» вложил «крупные суммы денег в различные банки США. Ввиду увеличения торговли между компаниями нашей страны и СССР, а также желания СССР расширить эту торговлю, Госбанк хотел бы увеличить свои вложения в банках США», «несмотря на непризнание СССР нашим правительством». Из этой фирмы Тэчер был связан с Феликсом Франкфуртером, крупным еврейским политиком в США, а также с Раймондом Робинсом, который поддерживал большевиков, находясь в России в 1917 г.
А. Гарриман вкладывал деньги в промышленность СССР с 1920-х. Марганцевая концессия в районе Батума оказывала «значительное влияние на сталелитейную промышленность США», как сообщалось в 1925 г. в документе департамента торговли. Государственный департамент США собирался провести «расследование» по поводу концессии Гарримана ввиду затронутых стратегических интересов США, однако олигархи не позволили его начать [Э. Саттон «Орден «череп и кости»» Киев: МАУП, 2005, с.276, 280, 283, 288].
Представление, будто СССР и США были всегда кровными врагами, особенно несправедливо именно в излюбленный Кочетовым героический сталинский период. Да и в начале 20-х помимо активности Ашберга, Хаммера, Гарримана, в СССР действовала благотворительная организация АРА масона Гувера – будущего президента США, а также Джойнт – комитет помощи евреям. «Сразу после отгремевших боев, в 1921—1924 годах, Джойнт истратил на помощь истерзанной России двадцать четыре с половиной миллиона долларов. И хотя большая часть этих денег действительно была отдана пострадавшим евреям, немало было вложено в помощь всем голодавшим тогда в израненной стране» [Л. Сонин «Джойнт: ответственность друг за друга» // «Урал», 2004, №11].
Ф.А. Григорьев, дед Ильи Глазунова, писал в дневнике 18.3.1921 г.: «Пришёл с американским флагом пароход» «с пищевыми продуктами». «Раздают по преимуществу детям евреев. Очевидно, это помощь американских евреев своим русским соотечественникам! А евреи у нас, как я уже упоминал неоднократно, не голодают: в хвостах ни одного нет, все вновь открытые лавки – еврейские» [И.С. Глазунов «Россия распятая» М.: Голос-пресс, 2008, Т.I, Кн.1, с.182-183].
Иван Ильин в книге, вышедшей в 1938 г., подводил такой итог: «Движимая враждебными побуждениями Европа была заинтересована в военном и революционном крушении России». «Европа под всякими предлогами и видами делала всё, чтобы помочь главному врагу России – советской власти» [М.В. Назаров «Миссия русской эмиграции» М.: Родник, 1994, Т.1, с.98].
Лишь после того, как с помощью Красной Армии, правители США утвердили своё господство в Европе, покончив с угрозой демократии со стороны национальных диктатур и монархических режимов, США действительно стали расшатывать выращенный с их помощью Советский Союз. Одним из главных направлений борьбы стала психологическая война. О ней выходило немалое число исследований в СССР, потому художественное выражение этой войны заслуживает отображения, даже требует его.
Для сравнения, в одной из таких книг написано: «Организаторы антисоветской пропаганды рассчитывают влиять на людей, у которых старая психология ещё не вытеснена новой и ещё недостаточно перестроилась под влиянием новых, социалистических отношений». Потенциальными жертвами считаются «одиночки-отщепенцы, противопоставляющие себя коллективу», ищущие другую социальную общность [В.Л. Артемов «По тылам психологической войны» М.: Молодая гвардия, 1973, с.171].
Тип одиночек Кочетов показывает на примере художника Свешникова, но писатель сформулировал проблему куда острее, чем в этой книжке. Кочетов увидел причины отсутствия «новой» коммунистической психологии в потере старой революционной убеждённости, не передаваемой детям, утончающейся среди интеллигенции, главное – у властителей дум, литературных критиков, публицистов, писателей, поэтов, кинорежиссёров, и даже, о чём Кочетов посмел дать понять, у нынешних партийных верхов.
Всеволод Кочетов перестаёт быть смешным, задавая главный вопрос романа, вынесенный в заглавие. «Чего же ты хочешь?» – это вопрос о будущем всего Советского Союза. Будет ли он и дальше стремиться к построению коммунизма, вернётся к национально-монархическим традициям, чьи ростки с трудом выбились из подполья, или сдастся перед натиском капитализма, требующего беспредельного воцарения власти денег.
Таковы были, и в какой-то мере остаются доныне, три развилки, подстерегавшие Россию весь XIX век. Объединённые силы коммунизма и демократии свергли Монархию, за ней пал социализм.
Смертельные симптомы Советского Союза Кочетов замечал и отобразил, хотя, будучи оптимистом, верил в превосходство «передовых» своих идей над соперниками, проигравшими бои Гражданской войны за судьбу России.
Не пали перед величием Советского Союза недобитые белогвардейцы и их идейные последователи. Не одолел культ Дзержинского и классовой борьбы массовую культуру гедонизма и потребления, привлекающую на свою сторону тем же коммунистическим миражом счастья, только без советской идеалистической требовательности, и потому кажущуюся выигрышнее.
Итог психологической войны подведён в перестройку – окончательную капитуляцию идеи коммунизма. В советском фильме «Курьер» (1986), комедийном, но одновременно и самом многозначительном (совсем как роман 1969 г.), поколение отцов показано обеспокоенным, пойдут ли прахом их труды, кто будет нести их знамя, «в чьи руки попадёт воздвигнутое нами здание?». «Я хочу понять, что он хочет!», – кричит один из строителей коммунизма преклонных лет, полностью повторяя вопрос Кочетова, самый важный, исторический вопрос, обращённый к поколению детей (1969 г. р. – времени злосчастной публикации в журнале «Октябрь»).
Сакраментальный вопрос, занимающий всех со времён Кочетова, в фильме совсем не приносит ответа, или же даёт самый обескураживающий. Заученно-школьное, даже выговариваемое с трудом, служение гуманистическим идеалам человечества, не вызывает ничего, кроме смеха. Мечта выйти замуж за японца, преклонение перед заграницей, показывает, насколько остался слаб давимый сверху русский национализм в СССР, а без националистических убеждений закономерно, при потере коммунистических, идёт деморализация, потеря веры в свой особый путь и в ценности, не имеющие вещественного выражения. Произнесённые вслух неискренне, для внешнего эффекта, слова «я мечтаю, чтобы коммунизм на всей Земле победил» уже вызывают оторопь, если не испуг, то неловкость.
В эпоху красного террора, какие бы преступления ни совершали, в полном сознании, партийные деятели и чекисты, они держались за одно оправдание: счастье будущих поколений. Ради коммунистического рая они могли уничтожать «лишние» сословия, стирать русскую культуру во всех выражениях, мешающих воздвигаемому «зданию». Все слезинки детей, все пытки и весь обман, в их представлении, оправдывало светлое грядущее. Но казни Царской Семьи и генерала Краснова не спасли СССР.
март 2014 г.
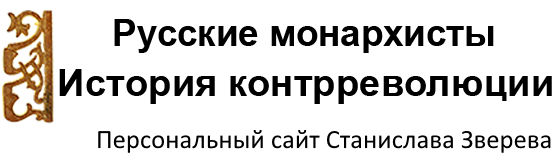


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.