Война Всеволода Кочетова (П.Н. Краснов и 1941 г.)
Станислав Зверев
Война Всеволода Кочетова (П.Н. Краснов и 1941 г.)
Особое внимание советского писателя к личности генерала Краснова исходит из весьма отдалённых времён, ещё до того, как в СССР стало поднимать голову новое поколение монархистов, которое народилось после революции и Гражданской войны.
В 1934 г., в день открытия первого съезда советских писателей, когда В.А. Кочетов работал агрономом Красногвардейской МТС, в Гатчине, переименованной тогда в Красногвардейск, в газете «Красногвардейская правда» опубликовали первое стихотворение Кочетова «Дозор».
Редактором газеты, осуществившей для Кочетова первую публикацию рядом с именами Михаила Шолохова и Алексея Толстого, был Семён Лазаревич Каминер (редактор в 1933-1937 и 1946-1952). Кочетов вспоминал, что получил вторую премию размером в 75 рублей за победу в литературном конкурсе, но не пожелал рассказать, что первое же его вступление на литературное поприще началось со скандала.
Московская «Правда» 16 июля 1934 г. напечатала на всю страну статью «Литературные Магнитострои за восемь дней», где подвергла разгрому скоропалительно устроенный и плохо подготовленный литературный конкурс, лауреатом которого стал Кочетов http://gtn-pravda.ru/sobyitiya-i-faktyi/
Вся дальнейшая литературная жизнь Кочетова будет проходить в окружении скандальной критики. Из серой массы не стоящей внимания советской литературы стоит вновь выделить Кочетова, ибо он не работал как все и не писал как все. Его нестандартная въедливость и нелицемерная борьба за идеалы носили его от одного конфликта к другому. Кочетова не назвать карьеристом и приспособленцем, вступающим в партию из корыстных целей.
В другом месте Кочетов вспоминает о дальнейших газетных публикациях перед 1939 г., когда «Крестьянская правда» вошла в «Ленинградскую правду»: ««Крестьянская правда» просила тогда к одной из очередных годовщин разгрома белых под Петроградом написать очерк. Я объездил, точнее, обходил пешком район Красногвардейска, Красного Села, Пулково, Александровской, Детского Села – ныне Пушкина, многих сёл и деревень. Стоял перед намогильными столбиками, разбросанными вдоль наших пригородных дорог, шёл путями разных полков и эскадронов, из которых состояли войска Юденича и Родзянки, отыскивал отметины тех далёких и героических времён».
Ещё в довоенное время Кочетов сверхусердно отнёсся к полученному заданию и углубился в историю борьбы с Белыми войсками, которую позднее изобразит в романе «Угол падения».
Собранные в сборнике «Улицы и траншеи» воспоминания Всеволода Кочетова впервые были опубликованы в журнале «Октябрь» в 1964 г. В них описаны дни войны и отступлений 1941 г. под Ленинградом.
В этих очерках не может не бросаться в глаза неистовое стремление автора объединить историю походов Краснова и Юденича с наступлением немцев в 1941 г.
Аналогии проводятся с первых же страниц, как только кончается предисловие с предупреждением писателя: быть может, «та война, о которой я хочу рассказать, окажется уж очень субъективной».
Так и есть. Едва успел начаться очерк «Зарева по горизонту», а Кочетов уже не может обойтись без Краснова:
«За вокзалом сразу же начинается город. Когда-то его называли Гатчиной, потом он был переименован в Троцк, а теперь вот – Красногвардейск. Только у железнодорожной станции Красногвардейска название всегда оставалось прежнее: Гатчина. Да, Гатчина, так памятная со времён революции и гражданской войны. Отсюда, из Гатчины, рука об руку начинали свой марш на красный Питер генерал-монархист Краснов и социалист-революционер Керенский, марш, который закончился тем, что генерала взяли в плен и он был доставлен в Смольный, а «революционер» поспешно переоделся в том вот дворце, может быть, ещё во что-то из гардеробов вдовой императрицы Марии Фёдоровны и, путаясь в юбках, бежал по дороге на Лугу до автомобиля, который поджидал его за железнодорожным переездом.
Они, тот генерал-рубака и тот бывший бесславный премьер Временного правительства, годы спустя исписали пуды бумаги, понося друг друга и обвиняя один другого в том, что поход провалился» [В.А. Кочетов «Улицы и траншеи: записи военных лет» М.: Воениздат, 1984, с.6-7].
Кочетов поддался легенде о женском платье, явно преувеличивает пуды статьи или брошюрки Керенского «Гатчина» и нескольких глав «На внутреннем фронте» Краснова. Причём Краснов никогда не думал обвинять Керенского в неудаче: слишком несопоставимы противостоящие силы. В отличие от самодура Корнилова, Краснов понимал, что может рассчитывать не на свой авторитет, а на поблекшее обаяние Керенского, и главное: на его официальные правительственные и верховные полномочия.
Но сколь же эксцентрично такое начало воспоминаний о дне 6 июля 1941 г. в Гатчине – в день, когда немцы захватили Остров за Псковом, откуда в действительности начался поход Краснова через Гатчину и Царское Село. 9 июля был уже захвачен и Псков.
Только отрапортовав о Краснове, Кочетов отдаётся личным воспоминаниям о пережитой коллективизации в Красногвардейской МТС, о жизни в Мариенбурге.
В следующий раз Кочетов вкладывает мысль о Краснове в уста бригадного комиссара Мельникова, проинтервьюированного корреспондентами «Ленинградской правды»: «Фронт сокращается и возле Ленинграда уплотнится очень сильно. На каждом километре фронта окажется в несколько, во много раз больше войск и оружия – пулемётов, миномётов, пушек. Там немцу будет устроена настоящая мясорубка. Вспомните прошлое. Как бодро ходили на красный Питер Керенский и Краснов, а позже генерал Юденич. Докуда они дорывались? До Царского Села, до станции Александровская, до Пулковских высот. Верно?» (с.77).
Бригадный комиссар не только вторит мыслям Кочетова, он разбивает авторитет Клаузевица, к которому обращались советские журналисты за ободряющими мыслями о благих последствиях отступлений.
Биение мысли Кочетова толкало его на обращение к огромному множеству литературных источников.
Подобно Н.Н. Головину, Кочетов ставит нерешаемую проблему определения военного дела как искусства или науки, склоняясь более к науке в её синтезе с искусством.
Кочетов смеет затрагивать и самые острые темы о причине последовательности поражений 1941 года. Сталин официально объявил такой причиной неожиданность нападения мобилизованных сил противника.
Вот как передаёт мнение Мельникова сталинист Кочетов: «Неожиданность – одно, – сказал, досадливо морщась, бригадный комиссар, – а внезапность – иное. Наверху, – повторил он, – возможно, преувеличивали прочность договора с Гитлером».
В ответ Кочетов высказал: «Но одно же другому не помешало бы: можно было верить и в договор, а тем временем и самим накапливать войска у границ» (с.77).
Общение дошло до опасной черты, и бригадный комиссар поспешил отложить разбирательство до победы, ибо признание, что накопление войск у границ не остановило Хитлера, наводило на ещё более значительные выводы в плане критики верхов, которой сталинист Кочетов оказывается не чужд.
Кочетова не удовлетворяет официальное объяснение внезапностью. Хотя советские военные теоретики часто не считали труды Клаузевица вполне научными, Шапошников продолжал на него опираться в «Мозге армии», отрицая значение «нечаянности». В том числе и по текущим данным: «При современных средствах разведки одним государством военной подготовки другого нельзя говорить о какой-то политической внезапности» [Б.М. Шапошников «Воспоминания. Военно-научные труды» М.: Воениздат, 1974, с.518].
Кочетов перечисляет прочитанное им в количестве, далеко не обязательном для обычного корреспондента. Это было проявлением всегдашнего стремления Кочетова к серьёзным обоснованиям рассуждений.
В одной охапке: два тома Клаузевица, очерки Ф. Меринга, «Канны» Шлиффена, «Некий Кокенгаузен с его «Вождением войск» – и он в связку взятого мною в кингисеппской библиотеке».
Даже из советских публикаций Кочетов мог узнать, что в 1918 г. Кохенгаузен представлял Германию на Дону при атамане Краснове, а в эмиграции Краснов некоторое время проживал в его имении. Но настолько эрудиция Кочетова не распространялась, . О том же, что именно Кохенгаузен уговорил Краснова переехать в Германию из Сантени в 1937 г., Кочетов знать не мог. В сентябре-октябре 1939 г. Кокенхаузен недолгое время был комендантом Варшавы и покровительствовал русским эмигрантам.
Очерки Кочетова выдают его неудовлетворённость официальным советским информационным пространством. «История – это видимость науки. Есть политика, и к ней имущие власть во все века подгоняли и подгоняют факты прошлого» («Улицы», с.200). Это любимая отговорка людей, не желающих разбираться в сложных результативных исследованиях и выносящих суждения по противоречивым поверхностным поучениям. Отрицать научный характер истории могут и те, кому попросту не нравятся выводы науки. Для советской эпохи недостоверная подгонка очень характерна и недовольство ею естественно.
Кочетов передаёт эти смелые слова своему собеседнику, речь в них ведётся как будто о далёком прошлом, вплоть до древних папирусов. В СССР такую подгонку для всех времён прошлого достаточно справедливо декларировал историк М.Н. Покровский, но Кочетов, записавший якобы не свои слова, а некоего старого ленинградского учёного, отлично понимал, что, начиная с того же Покровского началась новая подгонка под интересы нынешних власть имущих.
И Кочетов тогда прибегает к приёму, дозволенному немногим привилегированным учёным, он хочет оправдать коммунистические идеи, отталкиваясь от принципиальной неправоты её противников и для этого обращается к несоветским источникам, хочет утвердить своё мировоззрение на них, т.к. свои подогнанные данные не всегда надёжны: в этом ему довелось убедиться на трактовках эпохи Сталина.
Кочетов вынужден сравнивать сокрытие Совинформбюро полных цифр потерь с недостоверными данными древних летописей о малых потерях Александра Невского. К подобным оригинальным приёмам не раз будет прибегать Кочетов для попытки отнесения пороков СССР на человеческую природу, перенося их с советской идеи. Это будет не очень-то убедительно, ибо СССР базировался на гуманизме, и получалось, что это не самая лучшая идейная основа.
Выбор для примера Александра Невского связан со сменой торжествовавшего ещё в начале 1930-х классового подхода в изображении князя в качестве угнетателя народа. В дальнейшем западники будут обвинять Александра Невского в коллаборационизме – сотрудничестве с восточным оккупантом. Действительно, продолжается спор о достоверности летописей и их подлинном смысле. Наиболее взвешенным представляется оправдание действий святого князя, выбравшего эффективные средства защиты от агрессии [К.Ю. Резников «Русская история: мифы и факты. От рождения славян до покорения Сибири» М.: Вече, 2012, с.152-160].
Одобрение вынужденного сотрудничества с одним из врагов при условиях двойной оккупации как меры спасения русской цивилизации поучительно и для сопоставления с мотивами действий Краснова в 1940-е, при всей фактической разнице обстоятельств.
Кочетову пришлось заночевать в домике на окраине Ямбурга, переименованного в Кингисепп. Виктор Эдуардович Кингисепп 1888 г.р., в 18 лет вступил в РСДРП. После победы революции работал в чекистском трибунале, эстонская полиция расстреляла его в 1922 г. В РФ город, чьё прежнее название имело древние новгородские корни, по-прежнему носит имя чекиста, символизируя подмену русской культуры советскими оккупантами и их наследниками.
Следующий эпизод из военных очерков В.А. Кочетова отлично показывает, почему этому корреспонденту суждено было стать одним из лучших советских писателей, а не обычным воспроизводителем стандартных газетных трафаретов, которым не дано дожить ни в чьей памяти до следующего дня.
Выбранный Кочетовым домик оказался полон клопами.
«За обоями просто кишело. Но там оказалось и нечто такое, от чего можно было позабыть обо всём ином, в том числе и о клопах.
Михалев отправился досыпать в машину, к Бойко. А я сказал, что лягу на столе.
Но я не лёг [!], а принялся отдирать обои дальше [!]. Они были наклеены слоями – слоёв десять, двенадцать. Их в своё время смазывали мучным клейстером, и эту смазку когда-то ели мыши и тараканы: вся бумага была в дырьях.
Обои переслаивались газетами. Старыми, рыжими газетами. «Красной газетой», «Крестьянской правдой», ещё дальше в слоях шла «Петроградская правда», а за ней замелькали неведомые мне газетки гражданской войны. На их обрывках я прочитал какие-то хвалебные слова о «батьке» Булах-Булаховиче, вступившем в Псков, о выпуске новых денег «правительством» Северо-Западных областей России и с подписью генерала Юденича; попалась даже листовка, сохранившаяся от мышей и тараканов, строки которой я переписал в свой корреспондентский блокнот» («Улицы», с.45).
Под отодранными обоями в чужом доме Кочетов затем нашёл приклеенные листы из воспоминаний А.П. Родзянко о Северо-Западной Армии.
«У меня в блокноте драгоценнейшие записи. Посмотрим, насколько точно немцы будут придерживаться маршрутов, много лет назад проложенных для них белогвардейцами».
Вот что выделяет Кочетова из множества корреспондентов и мемуаристов. Он не рассматривает настоящее изолированно, его описание поражений 1941 года имеет историческую глубину, событийные параллели, от Александра Невского до Краснова и Юденича.
Белые, по убеждению Кочетова, воевали «против своего родного народа» (с.46). Вообще-то в ходе гражданской войны любая из двух и более сторон воюет против народа, т.к. уже нет единого народа.
Ещё более зыбки антимонархические представления Кочетова: Александровский дворец в Царском Селе – «эталон обывательщины, мещанства». «Кабинет Николая – кабинет не государственного человека, а дельца, промышленника. Особенно характерна спальня царской четы – вся в иконках от пола до потолка» (с.130) Иконки и мещанство, обывательщина, промышленность? Вздорные фантазии – единственное, что Кочетов имеет против Царской Семьи. Ну и, конечно, записки Г.Е. Распутина с просьбами оказать кому-то помощь. Кочетов даже не замечает, какой контраст получает с обликом Царской Семьи и её окружения оставшийся после революции «мавзолейчик», место похорон Распутина, по-прежнему «весь в неприличных надписях – полная энциклопедия от фундамента до макушки. Кто гвоздём выцарапывал, кто какой-то краской, бывало, мазнёт, химическим карандашом выслюнит, а кто и штык пускал в дело» («Улицы», с.96).
 Г.Е. Распутин в деревне.
Г.Е. Распутин в деревне.
Вот где действительно не только безыдейная обывательщина, но и агрессивная, антикультурная активность революции. Цари оставили после себя дворцы – шедевры зодчества, живописи, искусства, вплоть до упомянутой Кочетовым янтарной комнаты, которая досталась немцам, не стали «сдирать янтарь со стен». Революция оставила – осквернённое захоронение. Такими же матерными надписями солдат революции был исписан Ипатьевский дом, когда в Екатеринбург вступили белые войска.
«Писать начали ещё тогда, летом [?], после февральской революции, те солдаты, которые караулили арестованную в Александровском дворце царскую семью».
Воспользовавшись напоминаем Кочетова, ещё раз обращу внимание на белофевралистские вымыслы, распространяемые малоосведомлёнными лицами, с трудом вникающими в значение отдельного чужого спорного текста и сверх того его же перепутывающими.
Начиная с книги «ОГПУ против РОВС» А.С. Гаспаряна (2008) и вплоть малоосмысленных суждений нынешнего координатора центра «Белое дело» О. Шевцова (2014), не прекращаются невежественные попытки изобразить Корнилова спасителем Царской Семьи. Все эти легенды исходят из одного источника – очерка В.Ж. Цветкова «Лавр Георгиевич Корнилов» (около 2007 г.). Этот текст точно не датирован, но именно к этому времени его использовал в «ОГПУ против РОВС» А.С. Гаспарян, состоявший тогда в «Белом деле», а теперь, подобно Кочетову в 1969-м, сочиняющий публичные доносы на «национал-предателей», идейных последователей П.Н. Краснова. К 2008-му году, по моей памяти, очерк В.Ж. Цветкова уже рекламировался в Интернете тем же Гаспаряном.
Этот текст отличается от одноимённого очерка В.Ж. Цветкова в «Вопросах истории», где эпизод, касающийся ареста Императрицы, был изложен так: «Именно Корнилову пришлось, по должности, исполнить постановление Временного правительства об аресте царской семьи, и он сделал это в дерзкой, вызывающей манере» [ВИ, 2006, №1, с.63].
Ссылка на одного С.В. Маркова была, действительно, недостаточна. Поэтому в расширенном очерке обвинение в грубости скорректировано другими свидетельствами. Если использовать проигнорированные Василием Цветковым воспоминания Юлии Ден «Подлинная Царица», можно увидеть отсутствие грубости в непосредственном общении, что не исключает сделанных Корниловым позже довольно частых оскорбительных и глупых высказываний по адресу Царицы.
«Государыня встретила его в одежде сестры милосердия и искренне обрадовалась, увидев генерала, пребывая в заблуждении, что Корнилов расположен к ней и ко всей её семье. Она жестоко ошибалась» (Ю.А. Ден).
Но В.Ж. Цветков не остановился на исправлении допущенных им в 2006 г. ошибок и допустил новый перехлёст в сетевой публикации: «Переводя режим охраны в ведение штаба Петроградского военного округа Корнилов, по существу, спасал Царскую Семью и от бессудных действий и самочинных решений взбунтовавшегося местного гарнизона и от «самодеятельности» петроградского Совета».
Зная каждый использованный В.Ж. Цветковым источник, от дневников Императрицы Александры до показаний Е.С. Кобылинского, а также некоторые не использованные свидетельства очевидцев, следует сделать единственный вывод: это всего-навсего режим охраны арестованных. Нет ни одного факта спасения, ни одного свидетельства о таковом.
Воображаемое спасение хорошо бы отличать от настоящего спасения. Выдавать бесчисленные вероятности, слухи и предположения за реальный факт спасения, значит лишний раз плодить белофевралистские фантазии.
С.П. Мельгунов: «Можно сделать определенный вывод – никаких кровавых лозунгов в смысле расправы с династией никто (разве только отдельные, больше безымянные демагоги) в первые дни в массу не бросал. В массах не было заметно инстинктов «черни», жаждущей мести и эшафота»,
«никакой специфической атмосферы цареубийства в первые дни революции не было – это плод досужей фантазии некоторых мемуаристов» («Судьба Императора»).
И ещё превосходный отрывок оттуда же: «По корниловской инструкции караул во дворце впредь должны были занимать по очереди все запасные полки и батальоны гарнизона. От бывшего «собственного конвоя» должны были назначаться только конные дозоры для охраны Царского Села и его ближайших окрестностей, посты от «дворцовой полиции» немедленно снимались. Это распоряжение, по-видимому, прошло не совсем гладко, – представитель Исполн. Ком., совершивший через день вооруженный рейд в Царское Село (об этом дальше), рассказал в воспоминаниях, со слов царскосельских стрелков, что они «чуть не с боя заняли караул»».
Существующие исследования не оставляют места фантазиям о том, будто только режим Корнилова был способен на охрану Царицы, а уж тем более о том, будто Корнилов кого-то там спас.
Напротив, новый Корниловский «караул принадлежал к тому составу 2-го стрелк. полка, на революционность которого возлагали надежды», по сравнению с караулом до Корнилова, который запросто бы справился со смехотворной угрозой со стороны Мстиславского.
Как выразился Мельгунов: «Разыгралась довольно дикая и глупая трагикомедия» (рейд Мстиславского) – она ни в какой мере не свидетельствует о спасении кого-то Корниловым.
Условно можно писать, что любая охрана ежедневно “фактически” спасает любое имущество или любых лиц, которых она охраняет, но надо хорошо понимать разницу между таким “фактическим” спасением и реальным спасением каждой охраной.
После «Заревы по горизонту», которая стартует с напоминаний о походе Краснова, второй очерк Кочетова «Вокруг Ленинграда становится тесно» начинается с мыслей о Юдениче: «если немцы вырвутся к Молосковицам, Кингисепп окажется под угрозой окружения; а в другую сторону для них будет открыт путь на Волосово, на Гатчину, тот самый, каким здесь хаживали когда-то белые генералы, тот путь, по которому от Нарвы до Гатчины катался пульмановский салон-вагон Юденича» («Улицы», с.61).
На протяжении этого второго очерка вновь появляется генерал Краснов.
Его вспоминает Кочетов после посещения Александровского дворца и своих фантазий о Династии Романовых.
«Из Баболовского парка вышел на шоссе к Красногвардейску. Впереди громыхало, горело, плавало в дыму. По этой дороге в ноябре 1917 года в дружном единении Краснов и Керенский шли штурмовать революционный Петроград. Краснов так написал о своём соратнике тех дней: «Сзади из Гатчины подходит наш починенный броневик, за ним мчатся автомобили – это Керенский со своими адъютантами и какими-то нарядными экспансивными дамами… их вид праздничный, отзывающий пикником».
Они вошли тогда в Царское Село, и Краснов даже свой штаб расположил в служебном корпусе дворца Марии Павловны, но просидели оба вблизи Петрограда очень недолго. И вот снова что-то чёрное, ревущее движется на нас по этой же самой дороге» («Улицы», с.130-131).
Революционному сознанию свойственно было видеть в Белом Движении слепящую тьму. Но носители такового, чья жизнь в СССР не задалась из-за идеологических расхождений с генеральными линиями, потом раскаивались.
15 октября 1919 г. из Царского Села Иванов-Разумник писал про армию Юденича: «Надвигается опять «белое» – то есть чёрное, и надвигается на «чёрное»». Семь лет спустя он уже приветствовал взрыв белогвардейцами партийного клуба в Ленинграде, а до того, летом 1917 г., всё опасался, что победят Бердяев и Кокошкин, расхваливал большевицкую массу (якобы «лучшие и самоотверженные люди» были рядом с ним 26-28 октября 1917 г. в Смольном, а днями после в Царском Селе против Краснова), чего не мог сказать о партийных вождях [Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб.: Феникс, 1998, с.122, 137, 185].
Психологически ухватив ревущую черноту, Кочетов ошибался, начиная изображать нечто менее расплывчатое. Примерами литературных вымыслов Кочетова можно назвать не имеющее документальных аналогов высказывание, приписанное в романе жандарму Владимирову: «Некоторые генералы, например, генерал Краснов, выражают недовольство тем, что мы не даём в их распоряжение ни одного автомобиля». Краснов всюду выражал пристрастие к лошадям, осуждал моду на автомеханические разъезды военного начальства и потому едва ли требовал себе автомобили, особенно при его скромном статусе при Юдениче, без конкретных нужд.
Несуразен и следующий вымысел про дворец в Царском Селе: «Во время боёв с кавалеристами Краснова кое-что в особняке попортило осколками снарядов, пулемётными очередями, винтовочными и револьверными пулями. Сетью трещин покрылись огромные зеркала в золочёных рамах на мраморной лестнице. Лепные амуры на потолках потеряли кто руку, кто ногу» [В.А. Кочетов «Угол падения» М.: Молодая гвардия, 1968, с.176, 373].
Можно подумать, будто бои с револьверными и винтовочными выстрелами велись кавалеристами Краснова прямо во дворцах. Ничего подобного не наблюдалось, и если значительные повреждения когда и возникли, то от случайных разрывов снарядов, вылетевших из-под Пулково или от революционных грабежей.
«“Вешать, вешать, вешать!” – стучали решительно колёса», – в очередной раз сочиняет Кочетов: «Юденич мечтал в своё время на каждом петроградском фонаре повесить по большевику. Был даже произведён приблизительный подсчёт фонарей в городе. По аппетитам белогвардейцев получалось, что петроградских фонарей недостаточно для должной расправы» («Улицы», с.134).
Давний предшественник Кочетова, основатель журнала «Октябрь» Семён Абрамович Родов в 1923 г. как-то вякнул ещё и не такое. В науку всем своим последователям в статье «Эстетическая критика как орудие классовой самозащиты» он объявил о призывах Зинаиды Гиппиус «перевешать всех [!] рабочих и крестьян» [«Критика 1917-1932 годов» М.: АСТ, 2003, с.93].
Тут уж не хватит не только фонарей, но и крючков, вешалок и попросту верёвок.
Кочетов явно усвоил уроки Семёна Абрамовича по приёмам эстетической критики классовых врагов.
Но, помимо расправ воображаемых, Кочетов находит нужным вписать в память об отступлениях 1941 г. осуждение настоящих советских преступлений: «подошёл 1937 год, ежовцы принялись перетряхивать старые дела и папки». Правильнее бы сказать: чекисты, коммунисты, сталинцы – для тоталитарной системы это характерней, чем «ежовцы». Разве хоть кто-то использует выражение «гейдриховцы»? Нет: гестаповцы, эсесовцы, нацисты, хитлеровцы. Так и надо проводить аналогии.
1 октября 1966 г. А.И. Пантелеев писал, что директор издательства «Детская литература» Морозов предлагал ему использовать понятие «культ личности», т.к. ежовщина – «понятие не научное, этого слова нет ни в одном партийном документе».
Научность тогда зависела от бумажек партаппарата. Следует точнее сформулировать, что культ личности заключается исключительно в формировании ложных представлений о гениальном величии генсека, вождя, отца и пр. Массовый террор исходит не из культа личности или произвольного самоуправства Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, а из идеологии коммунизма, воплощаемой всей советской системой.
Кожинов в полемике с Сарновым не зря ссылался на суждение Бухарина: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов… является методом выработки коммунистического человека из материала капиталистической эпохи». Находят много таких суждений Бухарина, подвергшегося указанной методике коммунистической выработки [Ю.М. Сушко «9 жизней Якова Блюмкина» М.: Центрполиграф, 2012, с.104].
Ежовцев Кочетов называет: «кучка тех, кто творит беззакония, прикрываясь именем партии» («Улицы», с.116). И это столь же верно, как сказать: кучка гейдриховцев прикрывала именем НСДАП свои преступления. А ведь современные сталинисты вслед за Кочетовым используют такие трагикомические подтасовки.
Кочетов и здесь попытался вывернуться по методу «Александра Невского»: найти исторические аналогии. Вот что вышло:
«В последние годы немало появилось таких бдительных старичков, гонявшихся за славой доморощенных пинкертонов. За соседями подглядывали в коммунальных квартирах, в замочные скважины лезли, даже содержимое кастрюль исследовали на кухнях: дескать, по средствам ли живут соседи. Когда-нибудь, когда вскроют сейфы недавних ежовских времён да поднимут архивы, сколько обнаружится негодяев – добровольцев «разоблачения» – и стариков и не стариков. Эта мерзость досталась нам в наследство от гнилого российского общества. Мне попалась однажды на глаза книжечка П.П. Заварзина» (с.117).
Заварзина в СССР не издавали, Кочетов опять ссылался на недоступный советским читателям источник, доставшийся ему значительно позже окончания войны. По Заварзину, передал Кочетов, доносы писали неудачники, и к материалам доносов, как хорошо знали и поучали жандармы, «надо относиться особенно критически».
Кочетов отсюда выводит собственную философию 1937 года: «мерзость кляузничества, доносительства хвостом тянулась за людьми из старого, дряхлого общества царской России; в дни ежовщины она стала ещё и поощряться».
Что-то не складывается: при Заварзине таким доносам ходу не давали, никто сотни тысяч безвинных не расстреливал, не сажал и попросту не обвинял. Из старого общества в СССР тянулись не монархические традиции, а революционные, по которым не считалось зазорным убивать любого противника революции.
Террорист Степняк-Кравчинский в 1882 г. публиковал: «уж если» убивать «шпиона», то надо и «жандарма», «прокурора», «шефа жандармов» и самого Царя [В.И. Хазан «Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту» М.: Мосты культуры, 2008, Т.1, с.48].
Всё это заранее ожидал Достоевский, в записных книжках которого уже в 1860-е появилось точное предвидение: «Революционная партия тем дурна, что нагремит больше, чем результат стоит, нальёт крови гораздо больше, чем стоит вся полученная выгода. (Впрочем, у них кровь дешева)». «Вся эта кровь, которой бредят революционеры», «на их же головы обрушится» [Ф.М. Достоевский «Полное собрание сочинений» Л.: Наука, 1980, Т.20, с.175].
Советский деятель революции рассказывает, что сразу, как только при Временном правительстве были опубликованы списки агентов полиции, большевики тут же начали готовить их убийства и выслеживали жертв, загодя до Октябрьского переворота, некоторых из спрятавшихся из них потом успешно добивала ЧК, и этими убийственными планами и решениями мемуаристы в СССР хвалятся [И.М. Гордиенко «Из боевого прошлого (1914-1918)» М.: Госполитиздат, 1957, с.68].
Вот почему без прикрытия именем партии, без самой партии, без революции и её традиций никакая кучка ежовцев ничего не сумела бы сделать. Царя не стало, но в шпионстве по-прежнему можно было обвинять кого угодно.
Кочетов оказывается образцовым преемником левых интеллигентских традиций. По ним причины всех своих неудач или чьего-то неблагополучия необоснованно объяснялись вражеским влиянием: «в те годы это было самодержавие и жандармы, а затем – вражеское окружение, вредители, родимые пятна капитализма» [О.А. Митрошенков «Философские интуиции «Вех»: интеллектуальное пророчество» // ««Вехи»: философский спор о путях развития России» М.: РАГС, 2010, с.46].
В 1928 г., когда о ежовщине ещё не приходится думать, а на Троцкого уже ничего не спихнуть, член-корреспондент АН СССР В.Е. Грум-Гржимайло, подал 23 сентября 1928 г. в отставку в связи с началом подстроенного чекистами Шахтинского дела. Он написал в объяснительной записке: при коммунистической власти «все интеллигенты» «голодом принуждены быть послушными рабами». «При царском порядке земельное дворянство, купечество и промышленники, люди так называемых свободных профессий, были совершенно свободны и независимы от правительства. Они смели свое суждение иметь, и таким образом существовало независимое общественное мнение, к которому царское правительство могло прислушиваться» [«Источник», 1993, №3, с.74].
Никакого хвоста кляузничества, рабского гнилого наследия, придуманного Кочетовым, осведомлённый в характере устройства Российской Империи учёный не видит. Подход Кочетова побуждает рассмотреть получше именно революционные традиции доносительства, которые расцвели в СССР, не только в фабрикации дел ежовцами. Воспитанное на революционных идеях население СССР подыгрывало массовому террору своей склонностью к доносительству.
Антисоветчик Михаил Хейфец, который Кочетова терпеть не мог, в полном согласии с ним обвинил в раскрутке террора жителей Москвы, страдавших от перенаселённости: «орды добровольных доносчиков» писали в органы, чтобы избавиться от лишних жильцов в переполненных квартирах.
Эмигрировавший в США Сергей Довлатов в очерках «Зона» ссылался на цифру из закрытых партийных документов: 4 млн. доносов. «Их написали простые советские люди».
Особую разновидность доносительства отметил попавший под обаяние наследия Льва Тихомирова писатель Василий Белов: «В 20-30-х годах централизованный симбиоз ЧеКа – Агитпроп родил отвратительную систему рабкоровского движения. Полуграмотные и нравственно ущербные люди, оказавшись в тайных списках рабкоров, писали в редакции газет обычные доносы. Эти подлые сообщения печатались в газетах без подписи под различными псевдонимами. Такие печатные сообщения сопровождались немедленными репрессиями, реквизициями, даже расстрелами» [В.И. Белов «Когда воскреснет Россия?» М.: Алгоритм, 2013, с.14].
В специальном современном исследовании можно узнать, что в 30-е «нередкими были сообщения в газетах, что один человек разоблачил 69 врагов, а другой – 100». «Более 90% арестов были инициированы доносами “снизу”» [В.Д. Игнатов «Доносчики в истории России и СССР» М.: Вече, 2014, с.191-193].
Не вполне точно указано, какая группа арестов и за какое время, поскольку в 1930-м и 1937 г. существовали арестные нормы, назначаемые сверху. Но в значительной роли доносов сомневаться не приходится.
Для обоснования сумасбродной концепции о монархистах, повинных в 1937 годе, Кочетов изображает одного старика: «Я одному царю служил. Вы другому служите». Но речь такого старика – очередная компиляции из прочитанных книг о Российской Империи, откровенный пересказ мемуаров о смотре выпускников академии генштаба, со ссылкой на Сухомлинова. После идёт речь об унаследованной Императором Николаем II – “обывательщине”. Однако внимательный читатель очерков Кочетова заметит, что и тут использован не рассказ старика, а уже записанные впечатления Кочетова об Александровском дворце.
Ещё на одной странице откровений старика записано, как баронесса М.Д. Врангель служила совслужащей в Аничковом дворце. Так здесь нет и следа реального старика: очередное художественное переложение эмигрантской литературы, подбираемой для романа «Угол падения».
У Кочетова многие материалы из будущих романов просачивались преждевременно в текущую работу. Таков буйный поэт Вадим Лужанин – прямая пародийная предтеча изображения И.С. Глазунова и В.А. Солоухина в «Чего же ты хочешь?»: «Я солдат. Солдат великой борьбы за Россию, за её освобождение. За её поля и дубравы, за её соловьиные вёсны и серебряные зимы. За церкви её, за иконы суздальского и новгородского письма. За древность, за величие – за всё, что было и чего нет» [В.А. Кочетов «Угол падения» М.: Молодая гвардия, 1968, с.108].
Высмеивание врага всегда снижает реалистичность его изображения.
Старик мог быть совершенно выдуман Кочетовым, но есть единственный реалистичный стержень, вокруг которого Кочетов навертел псевдомонархическую философию:
«придут вот завтра немцы – и не только с вами, а уж и ни с кем из таких коммунистов я не встречусь больше. Всё что знаю, что видел, пропадом пропадёт.
– Послушайте, неужели вы хотите остаться у немцев?!
– Я почти закричал от удивления» (с.120).
Это больше похоже на живой голос, чем на литературную обработку чужих сочинений, проталкиваемых под видом встречи на жизненном пути.
Эмигрантский литературный аналог есть более поздний по времени написания: «Зарубежная эмиграция рассчитывала при этом вернуть утраченное в результате революции 1917 года личное достояние. Монархические элементы внутри Советского Союза без борьбы переходили на немецкую сторону. Действия обеих групп носили характер прямой измены народу, родине. Всё сказанное выше относится к людям старших возрастов. Численно эта группа не была велика» [«Материалы к истории Освободительного Движения Народов России 1941-1945» Онтарио: СБОНР, 1970, с.14].
В 1990-е появились воспоминания об оккупации и силе промонархических настроений в 1941 г.: «По-настоящему боялись оккупации лишь партийная элита и евреи. Остальные не так чтоб немцев ждали, но, когда это свершилось, врагу внешнему доверились, в надежде при его содействии сбросить внутреннего врага» (Е. Польская «Это мы, Господи»).
Действительно, те, кто помнил немецкую оккупацию 1918 г., очень многими приветствуемую и одобряемую, во спасение от революционного хаоса и террора, все, кому память позволяла провести сравнения между Империей и СССР, считали предпочтительней немецкую оккупацию. В их монархический опыт не входили точные сведения о новом нацистском режиме, об отличиях в политике Хитлера и Вильгельма II.
Т.е., Кочетов верно подметил склонность к коллаборационизму старших возрастов, хотя это и не доказывает реального существования старика, в лице которого эта склонность нашла полухудожественное-полумемуарное воплощение.
Но, в отличие от нынешних сталинистов, которые оправдывают красный террор фактом коллаборационизма: дескать, правильно таких стариков уничтожали, Кочетов поступает иначе: сам террор психологически выводит из такого же коллаборационизма, хотя совсем нетрудно сделать правильное сопоставление и вывести коллаборационизм – из террора.
По крайней мере, Кочетов не настолько дебилен, как современные писатели-сталинисты, которые взаправду мечтают о 1937 годе, патриотическом, спасительном, антиперестроечном, антифашистском, антивласовском, дарующем грядущие победы – в их тошнотном представлении.
Пародисты зря приписывали Кочетову мечты о 1937 г., они тем показали незнакомство с творчеством писателя, чей сталинизм не мешал ему осуждать:
«Тридцать седьмой год был страшным годом в нашей жизни, непонятным, загадочным. Тогда исчезло немало людей», «но потом, когда разоблачили Ежова» (Сталин устранил Ежова без всяких разоблачений), «когда кое-кто стал возвращаться из тюрем и ссылок и скупо рассказывал о том, как арестовали его по доносу, по клеветническим заявлениям, было нестерпимо больно слышать, что доносительство [!], то есть одно из самых отвратительных проявлений подлости человеческой, привело к напрасной гибели многих людей» («Улицы», с.278).
«Это была мерзость, несовместимая с нашим строем. Ежовщина была, мы все это знаем. С ежовщиной партия покончила, осудила её. Мы помним суровые решения об этом. Но что ежовщина была именно такой изуверской, об этом нам не сообщали, это просто не укладывалось в сознании» (с.279).
Таких гневных и справедливых заключений Кочетова в либерально-еврейских интеллигентских сферах не замечали все те, кто постоянно осуждал Кочетова, в чём можно убедиться по запискам об Анне Ахматовой Л.К. Чуковской, том 2: «О Кочетове (в то время редакторе «Литературной Газеты») Сарра Эммануиловна всегда отзывалась, как и многие в литературном кругу, с негодованием и насмешкой». В декабре 1962 г. Чуковская воспроизводит такие слова Ахматовой: «Вы заметили, сейчас многие москвичи без конца разговаривают о Софронове, Кочетове, Грибачёве – в общем, в ходу какие-то порицаемые пять имен; есть люди, которые могут говорить только о них, ни о чем больше думать и говорить не желают, воображая при этом, что, занимаясь ими, они заняты литературой».
Ещё одной причиной террора, помимо доносительства, Кочетов называет карьеризм: «чем больше выколотил показаний, тем, следовательно, лучший работник». «Туда пробралось много скверных, аморальных людей, карьеристов, садистов, мздоимцев».
Кочетов, исправно прославляющий «карающий меч революции», не верил, что с 1917 г. в ЧК хватало карьеристов и садистов. Кочетов, как это ни нелепо, пишет: туда «пробрался [!] некто [!]», обрушивший меч куда не следовало.
«Я вспомнил жандармского начальника Заварзина, книжечку которого читал несколько лет назад. Вспомнил, с каким презрением тот прожжённый заплечных дел мастер отзывался о добровольцах-доносителях, как даже он предупреждал свою голубую паству относиться с осторожностью к доставлявшимся этими добровольцами паскудным сведениям» («Улицы», с.280).
Элементарные сопоставления должны были убедить Кочетова, что правда на стороне Краснова и Заварзина, что преступления революции столь масштабны, что никакой инородный «некто» не мог туда пробраться, эти преступления творил весь репрессивный аппарат с самого начала. Задолго до 1937 г. и много лет после.
Как вспоминал коллега Заварзина А.П. Мартынов, до 1917 г. большинство не понимало, что партии сознательно обманывают народ. Интеллигенция верила, что тургеневская революционерка «святая». «Мы, лишь «реакционеры», злобно шептали: дура!» [«Охранка» М.: НЛО, 2004, Т.1., с.234].
Кочетов ошибался: большой террор планировали сверху с заранее установленным числом жертв. Помимо устранения старшего поколения, способного разоблачить социалистическую мифологию, репрессии попутно служили экономическим целям, но главная цель террора оставалась политическая, по указанной формуле Бухарина.
Вопреки мнению о совершенно неэффективном рабском труде, трудовые лагеря в схеме коммунистической индустриализации имели немалое значение. 1 января 1935 г. осуждённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях 965 742, в 1936-м – 1 296 494. 1937-м – 1 196 369. В 1938-м стало 1 881 570. В 1941-м – 1929 729. В 1944-м – 1 179 819. Максимум за 1935 – 1953 приходится на 1950 г. – 2 561 351. С 44-го до 50-го растёт, затем снижается к 1953 г. до 2 468 524 – по данным НКВД, признанным достоверными по множеству документов разных ведомств. «Органы НКВД были важнейшим стратегическим резервом советской военной экономики» [М.Ю. Моруков «Правда ГУЛАГа из круга первого» М.: Алгоритм, 2006, с.168, 185].
С другой стороны, будут неверны объяснения массовых репрессий необходимостью пополнять армии рабов на ударных стройках. Убыточной была сама депортация кулаков в 1929 г. – траты на переселение стоили половины конфискованного у них имущества, не говоря уже о миллионных человеческих жертвах от массового голода. Так и в 1937 г. экономической потребности в наплыве заключённых на объектах строительства НКВД не имелось, их нельзя было хозяйственно использовать, а расстреливали в массовом порядке не только непригодных по многочисленности, но и отдельных специалистов, нужда в которых сохранялась [О.В. Хлевнюк «Экономика ОГПУ-НКВД-МВД СССР» // «Исторические записки» М.: Наука, 2002, Вып.5 (123), с.48, 61].
Советские россказни о прекращении эксплуатации рабочих великой социалистической революцией беспредельно циничны. Возвращение к рабовладельческой экономике выбивает последние экономические опоры идеологии Кочетова, который осуждал 1937 г., но одобрял коллективизацию, несравненно более преступную, сравнительно с 1937-м.
Кочетов продолжает о том старике: «вспомнился мой недавний собеседник в Слуцке. Нет, конечно, такие уже давно вне игры. Их немало ещё, должно быть, в бывшей столице Российской империи, этих бывших царских чиновников, старых, служилых интеллигентов, но они своё отжили. А вот кулачьё, в годы коллективизации нахлынувшее к нам, спасаясь от односельчан и от колхозов, с десяток лет назад резавшее приводные ремни на заводах и фабриках, а вот остатки белогвардейского офицерья, торгашей, помещиков, бывшей знати – они почему-то не ушли в своё время вместе с теми, кто поспешно бежал из России под ударами революции, но они родственны им по духу, по надеждам, вместе с ними все эти долгие годы ожидали чего-то такого, смогло бы вернуть им былую жизнь. Разве не готовы такие встречать хлебом-солью кого угодно, хоть самого Гитлера, лишь бы вновь пришло их ушедшее время» («Улицы», с.134).
Ещё одна попытка объяснить массовое сотрудничество с немцами без связи с террором. Связь с последствиями коллективизации действительно должна быть очень сильной, но она не укладывается в классовый подход, как и сама коллективизация: все крестьяне, как и арестованные в ГУЛАГе, эксплуатировались и грабились в интересах той же военной экономики и политических целей партийного руководства.
Кочетов несколько разошёлся со Сталиным, который в 1928 г., говоря о шахтинском деле, ещё ничего не мог спереть на обозлённых кулаков, как ни заклинал: «наша политика есть политика классовая» (против имущих). По его объяснению, Запад после военной предпринимает экономическую интервенцию путём вредительств и подготовки кризисов [И.В. Сталин «Сочинения» М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1949, Т.11, с.48, 53].
Поскольку слишком многие, а не одни кулаки, бывшие офицеры и представители знати, попадали под удар террора и сознавали ложь тоталитаризма, не следует повторять ошибки Кочетова и объяснять феномен коллаборационизма с классовых позиций. Вот один из многих неудачных примеров мышления по Кочетову:
«При Ростовском представительстве с разрешения немецкого командования был создан комитет по казачьим делам. Постоянными членами его являлись:
— В.М. Одноралов – председатель комитета, бывший регент, полковник, глава представительства;
— М.А. Миллер – казак из обрусевших немецких колонистов, бывший крупный помещик, профессор Ростовского университета;
— В.В. Богачев – казак, дворянин, один из лидеров донского дворянства, профессор-геолог, заслуженный деятель науки;
— A.M. Иванов – профессор богословия, зав. отделом по делам религиозных культов Ростовского бургомистерства;
— С.М. Попов – инженер-строитель, планировался редактором донской казачьей газеты «Донская волна»;
— A.M. Чаусов – бывший хорунжий, секретарь комитета;
— М.Б. Краснянский – казак, инженер-геолог, бывший царский чиновник, судим за антисоветскую деятельность;
— И.Н. Фомин – юрист, консультант по государственно-правовым вопросам.
Как видим, в состав комитета вошли представители старой казачьей антисоветской интеллигенции, в прошлом связанной с белогвардейским казачьим генералом П.Н. Красновым» [Е.И. Журавлев «Военно-политический коллаборационизм на юге России» // «Вестник РУДН. Серия История России», 2009, №4, с.22].
Прямо как у Кочетова: раз наступают на Ленинград, значит немцы след в след вкладывают стопы за Красновым и Юденичем. У современного историка логика та же: раз идёт сотрудничество с немцами в Ростове-на-Дону, то на это способны только лица, связанные с П.Н. Красновым. В действительности ни в прошлом, ни в будущем, никто из них не имел контактов с Белым генералом.
Напрасно историк не может даже представить сотрудничество с немцами без связи с Красновым 25-летней давности. Следует учитывать фактические настроения населения в 1941-1942 годах, а не повторять интерпретацию карательных органов.
Ещё Е.И. Журавлёв проигнорировал, что председатель этого комитета В.М. Одноралов был сотрудником НКВД. Рассказывая о планах комитета на созыв Малого Войскового круга и выбор Войсковым атаманом П.Н. Краснова, историк не сообщает, что они не осуществились. Так и Хитлер не был избран почётным атаманом.
Е.И. Журавлёв: «В целях объединения казачества для борьбы с советской властью комитет широко рекламировал как будущего главу казачьего сословно-буржуазного государства белого генерала П.Н. Краснова, находившегося в то время в Берлине. В коллаборационистских газетах были опубликованы его письма на имя начальника штаба Войска донского полковника С.В. Павлова, содержащие призывы к усилению борьбы против советской власти под руководительством фашистской Германии и ряд конкретных указаний. «Не сказочная «Казакия», – указывал он в одном из писем, – а союз Дона, Кубани, Терека и Кавказа, прочно связанный с Германией, будет образован на юге России»».
Повторяя про желание участников комитета воскресить казачество по программе П.Н. Краснова, историк совершенно умолчал о значительной разнице между программами Краснова и Павлова (тоже бывшего агента НКВД), которая лишний раз доказывает независимый от Краснова, живущего в Берлине, источник коллаборационизма на Дону, а именно – стремление казачества к высвобождению от советского террористического режима.
О том, насколько сильны были в казачьих областях антисоветские настроения, вынуждены признавать историки даже на государственном радио у наследника кочетовских традиций А.С. Гаспаряна, признающего победу 9 мая столпом идеологии путинского режима. Иван Ковтун на такой передаче произнёс про Дон и Кубань: «Тот же юг России. Ну, не было там фактически партизанского движения, а подполье действовало крайне не активно» [«Неизвестные страницы Великой Отечественной войны» М.: Вече, 2012, с.108, 168].
Т.е., попытки изобразить, по методу Кочетова, будто только какие-то старики-интеллигенты, связанные с Красновым, предпочитали Германию Советскому Союзу, явно ошибочны. Журавлёв даже не в состоянии отрешиться от лексики следственных дел 1940-х годов, говоря о каком-то буржуазно-сословном государстве.
Таким образом, не стоят внимания и примитивные объяснения поведения Краснова объявлением его «принципиальным и последовательным германофилом», что совершенно неверно, как и записывание в младороссы, сочетающие монархию и советскую власть, И.А. Ильина и И.Л. Солоневича, переписанное намерение Краснова убить Павлова, вымыслы чекиста Соловьёва и прочий вздор Олега Гончаренко [О.Г. Гончаренко «Белоэмигранты между звездой и свастикой» М.: Вече, 2005, с.176, 215].
Если знакомиться с книгами такого типа, поневоле удастся составить самое превратное мнение о личности Краснова и многих противниках СССР.
Весьма сомнительным получается заключение Е.И. Журавлёва: «Переосмыслить события минувшей войны, отнять у нас эту войну как войну Отечественную, освободительную, как мне представляется, не удастся».
Если историк немного отвлечётся от советских следственных дел и взглянет на независимые суждения, кто-то, быть может, и сумеет что-либо «отнять» у “них”.
Вот непосредственное свидетельство. Запись в дневнике в деревне Зелёная степь. 13 ноября 1941 г.: «Вчера был долгий разговор на кухне». «Ненависть к нашей власти». «Бабы страстно слушают, возражают, всё время стараясь представить немцев “добрыми”». «Вот где зародыш революции – в одной хате можно подслушать все оттенки её: то страх перед возвратом наших и страх ответственности, то радость от впервые за двадцать лет почуянной воли («сам себе хозяин»), и всюду ненависть к долгому гнёту» [Е.К. Герцык «Лики и образы» М.: Молодая гвардия, 2007, с.616-617].
Может быть, идейные наследники Всеволода Кочетова будут настаивать, что в украинской хате Евгению Герцык окружали бывшие друзья и сослуживцы генерала Краснова или выжившие из ума старики из числа монархической знати, что они собрались там по его прямому приглашению, наслушавшись воззваний Краснова. Или же всё-таки придётся что-то в своих негодных представлениях о войне переосмыслить.
Дневник говорит о ненависти к гнёту и о нехватке воли, что снимает домыслы об истоках коллаборационизма в сепаратизме или ненависти к русским на окраинах.
Другой очень ценный редкий сохранившийся дневник. 17 октября 1941 г. пишет Георгий Эфрон: «Я, во всяком случае, серьёзно намерен не давать себя захомутать» (т.е. мобилизовать). Если немцы «смогут в город войти, всё для красных [!] будет кончено. Было бы сущим идиотизмом бороться за город, который всё равно будет взят».
19 октября: «99% всех людей, которых я вижу, абсолютно уверены в предстоящем окончательном поражении нашей армии и во взятии Москвы немцами». «Говорил с Кочетковым и согласился с ним: основное – не быть куда-нибудь мобилизованным. Самое досадное – быть погубленным последней вспышкой умирающего режима» [Г.С. Эфрон «Дневники» М.: Вагриус, 2007, Т.2, с.54, 60].
Поразительно точное совпадение с мнением генерала Краснова по ту сторону фронта, выраженным в его письмах о бесполезности сопротивления наступлению немцев. Как показано в исследовании «Генерал Краснов. Последнее поражение» на материалах многих иных личных дневников, суждения Краснова совпадали с мнением значительной части населения СССР.
Писатель, драматург, поэт А.С. Кочетков был прославлен в послевоенное время («С любимыми не расставайтесь»). Записанные Георгием Эфроном пораженческие настроения, какие он приписывает каждому встречному в Москве, не могут быть объяснены личными обстоятельствами, арестом и казнью отца, самоубийством матери, эмигрантским происхождением, трагическим одиночеством. Нет, записи 1941 г. отличаются искренней передачей не своих только, а всех встреченных настроений. Эфрон, бывший в Париже убеждённым коммунистом, постоянно поддавался преобладающему влиянию окружающей среды.
Дневники Эфрона и Герцык объясняют серию поражений 1941 г. Знал о чём писал Александр Солженицын про 22 июня: «всё взрослое трудящееся население (не молодёжь, оболваненная марксизмом), и притом всех основных наций Советского Союза, задышало в нетерпеливом ожидании: ну, пришёл конец нашим паразитам! Теперь-то вот скоро освободимся. Кончился проклятый коммунизм!» [Л.А. Аннинский «Русские и нерусские» М.: Алгоритм, 2012, с.243].
Как можно убедиться, это достаточно точно сказано. Эфрон слышал пораженческие разговоры у молодёжи, у старшего поколения, потому следует говорить не о молодёжи вообще, что она рвалась защищать СССР, а именно оболваненная марксизмом. Трепло Лев Аннинский и другие противники власовских идей Солженицына защищают ложные представления о войне 1941 г. Надо не сочинять, какими были преобладающие представления, а изучать на как можно более достоверном разнообразном материале, различая перемену настроений в ходе войны.
Можно найти ещё массу дневников, убеждающих в точности и социологической значимости приведённых записей. Близкий по возрасту к Эфрону Лев Федотов записал в дневнике 12 июля 1941 г. обращённые к нему слова: «Многих из командного состава армии арестовали. Может быть, придётся сдать Москву». И свою реакцию молодого убеждённого марксиста: «Я бы пристрелил этих мерзавцев, которые уже сейчас трепятся о сдаче Москвы!» [Юрий Росциус «Дневник пророка?» // «Знак вопроса», 1990, №4].
Дневник Г.А. Князева, 21-22 августа 1941 г.: «чувствуется особая растерянность среди партийных работников». «Видел сегодня целый ряд академиков и ученых, собирающихся выезжать из Ленинграда». «Не стесняются высказываться в том духе, что им и при немцах не будет хуже» [«Отечественные архивы», 2010, №4].
В силу особых настроений 1941 года не все решились сохранить дневники из тех немногих, кто мог их вести. Так, в «Берлинском дневнике» Марии Васильчиковой пропадают записи с 22 июня – день в день. Потерял свой дневник за 1941 г. и А.Т. Твардовский, но о многом говорит и сама потеря, и творческое его молчание. Так, дневник за 1940 г. есть, 2 мая записано: «обдумываю своего Тёркина» [А.Т. Твардовский «Я забыть того не вправе…» М.: Русская книга, 2000, с.333].
Начало поэмы было опубликовано в том же 1940 г., но вернуться к этому персонажу Твардовский смог только в 1942 г. В пораженческой атмосфере второй половины 1941 г. такой литературный герой как Василий Тёркин просто не мог существовать.
В устных разговорах К.М. Симонов объяснял поражения 1941 г. так: «в первый период войны мы не доверяли комсоставу. Чувствовался тридцать седьмой год. Не доверяли и проигрывали» [Д.Ф. Мамлеев «Далёкое – близкое эхо» М.: Вагриус Минус, 2008, с.430].
Это недоверие реально выражалось в пораженческих настроениях и дезертирстве. Как показательно, что Георгий Эфрон видел в немецкой оккупации конец только для красных – не отождествляя себя и народ с ними. Некоторый возврат к состоянию гражданской войны произошёл, 1941 г. открыл возможность для нового антисоветского сопротивления.
Сравнительно с дневниковыми записями мемуары менее надёжно передают настроения того времени, особенно если автор пострадал от режима. Но т.к. записи подобного рода не единичны, стоит показать возможность такого сравнения: немцы не сильно беспокоили поборами колхозников. «В избе немецкие солдаты первым делом подошли к иконе Богоматери и, поклонившись ей, зажгли лампаду. После этого они опустились на колени и запели на церковный лад свои молитвы». Если сравнивать с ними, после отхода немцев «в наш дом ворвались, как разбойники, красноармейцы под предлогом поиска оружия» [А.И. Боярчиков «Воспоминания» М.: АСТ, 2003, с.237-238].
Виктор Астафьев, которого так ненавидят служители культа советской победы, 24 февраля 1966 г. вспоминал об участии в войне в переписке: «Если украдёшь, смародёрствуешь – это твоё. Говорят, сейчас на Украине москалей ненавидят, и не напрасно, по-моему, только жаль, что ненавидят они не тех москалей, которых надо бы!..» («Эпистолярный дневник»).
Предельно точно выговорено Астафьевым об ошибочности отождествления советского и русского и об основаниях для ненависти, заложенных в настоящей истории Советского Союза и войны 1941-45. В переписке В.П. Астафьев задолго до официальных перестроечных ревизий позволял себе рассуждать на запретные для печати темы. Этот запрет и создал ложные представления о войне, которые защищают непрошеные поборники однотипных суждений о чужой победе. Они же очень хотели бы вовсе вернуть советские запреты на неприглядную правду. Без таких запретов культу победы не выжить.
В 1983 г. В.П. Астафьев направил послание об этом в московскую газету: «Вся двенадцатитомная «История» создана, с позволения сказать, «учёными» для того, чтоб исказить историю войны, спрятать концы в воду, держать и дальше наш народ в неведении». Авторов официальной истории войны писатель-ветеран обвинял в приспособленчестве и лжесвидетельстве.
Когда советские патриоты дружно прячутся за службу писателя в нестроевой, хозяйственной части, то зря думают, будто это ставит их самих в более выгодное и осведомлённое положение, и будто это способно хоть что-то изменить в сути неугодных для них суждений [«Литературный Красноярск», 2014, 22 февраля, №3-4, с.1-2].
Проблема в обозначенном искажении истории войны, каковое следует исправлять, основываясь вовсе не на одном чьём-то свидетельстве. Можно в письмах того же Г.С. Эфрона увидеть разницу в подаче изображения трудовых частей, составленных из уголовников, и частей боевых. Так и в 1943-44 годах под влиянием внешней среды у Эфрона пропали и пораженческие мысли, но перемена обстоятельств ничего не отменяет в том, чем был обусловлен развал РККА в 1941 г.
В 1960-е все защитные табу действовали, а подход историка постоянно предоставлял Кочетову спасительные пути отхода от неприглядной действительности 1941 г., в которой жизнь военного корреспондента, взыскующего правды, была нелегка.
Группа журналистов, с участием Кочетова, неудовлетворённая приёмами оповещения населения и даже методами ведения военных действий, сообразно с накопленным опытом наблюдения за фронтом, отправила ответственному редактору «Ленинградской правды» Золотухину докладную записку, в которой подвергались критике действия военного командования, которое постоянно гнало людей в наступления, не давая отдохнуть и собрать силы для отражения немецких атак. Критике подверглись канцелярские увлечения политотделов, недостаток разведывательных работ.
Но самая компетентная критика со стороны военных корреспондентов касалась, конечно, газетного дела:
«Коллектив редакции тоже должен сделать для себя выводы. Рассказывая о военных действиях, мы печатаем преимущественно «боевые эпизоды». Все они на один лад. В каждом «фашисты трусливо бегут» и дело кончается их разгромом. Полагаем, что большинство людей даже не читает эти материалы, а кто читает – не верит, хотя сами эти факты и не выдуманы. Ведь народ прежде всего смотрит сообщения Советского Информбюро. Он видит, каково положение на фронтах, и теряет уважение к нам из-за того, что мы не говорим ему всей правды.
Не убаюкивать нужно народ, а открыто и мужественно говорить ему правду, как бы тяжела она ни была. Надо прямо говорить, что артиллерии мало снарядов, которые она получает» («Улицы», с.204-205).
Этот текст сохранился у одного из семи составителей в черновике и потому точен, а не воспроизведён по памяти. Наивный коммунистический идеализм не давал Кочетову уяснить, что такие вещи в СССР писать нельзя.
Кочетова и всех подписавшихся корреспондентов обвинили в пораженчестве. Кочетова выгнали из газеты, исключили из кандидатов в члены партии и не разрешили устроиться на радио:
«Пусть походит! Что в условиях блокадного, осаждённого Ленинграда означает «ходьба» без продуктовых карточек? Ничего иного, кроме голодной смерти» (с.319).
Не желая предоставлять недругам основания для обвинения в антисемитизме, своего главного гонителя, “духовного отца” редактора Золотухина Кочетов называет товарищем Игрековым: «Я и сейчас не хочу называть подлинного имени этого человека. Он, один из тех, которые создавали и совершенствовали машину для сгибания чужих спин, лет пять спустя после окончания войны сам угодил в её шестерёнки, его основательно прокатало там, и ныне он очень тихо сидит где-то в редакции одной из газет» (с.320).
Машина для сгибания спин! Отлично сказано.
Будучи советским патриотом, Кочетов демонстративно был за всё хорошее против всего плохого, однако в либерально-еврейском лагере стремились представить его такой же сгибающей людей машиной.
Кочетова ненавидели насколько, что называли компанию из пяти имён (плюс Алексеев и Кожевников) бандой. У Л. Чуковской: «Связывали этих людей тесная дружба, антисемитизм, бездарность и предоставленная им власть над издательствами и журналами». 21 февраля 1966 г. А.К. Гладков записывал «слухи о раскрытии в Москве бардака, где клиентами были Софронов, Грибачёв и др.».
Л. Чуковская обвиняет Кочетова в разгроме Пастернака. Он не отметился многими выступлениями, некоторые литературоведы вовсе отрицали таковые, хотя есть данные, что Кочетов первым опубликовал «ругательную статью о Пастернаке» [У. Таубман «Хрущёв» М.: Молодая гвардия, 2008, с.423].
Но и авторы пародий на роман Кочетова оказались серьёзно заляпаны. Один такой пародист, С.С. Смирнов, прямо выступал против Пастернака, а другой, Зиновий Паперный, в начале 1950-х был «подручным Ермилова» – главного душителя литературы в «Литературной газете». Позже таким душителем называли Кочетова, когда его «Литературная газета» в 1956 г. встретила в штыки «Литературную Москву», где печаталась та же Чуковская и Каверин, для которого Кочетов «один из злобных губителей нашей литературы, человек с маниакальной направленностью ума». Кочетов душил литературу «в маниакальном самозабвении» и якобы даже заставлял партийный маятник отклоняться в свою сторону, против здравого смысла, который располагается не иначе как по левую сторону [В.А. Каверин «Эпилог» М.: Вагриус, 2006, с.86, 313, 347, 373].
Личные счёты в претензиях к Кочетову тут едва ли не затмевают идейную борьбу интеллигенции за левизну оттепели. Хотелось бы узнать подробнее, кого ещё придушил Кочетов, кроме сборника «Литературная Москва»?
Владимир Дудинцев в воспоминаниях «Между двумя романами» называет автоматчиками друзей Кочетова Софронова и Грибачёва: они расстреливали неугодных властям писателей. Сам же В.В. Дудинцев получил от Кочетова лишь предупредительный выстрел: Кочетов одним из первых высказал пожелание о появлении критических, а не одних одобрительных отзывов на роман «Не хлебом единым» (1956). Непосредственно к автоматным расстрелам он не примкнул.
Интересно мнение о Кочетове со стороны Виктора Астафьева. В опубликованном в 2009 г. в Иркутске собрании его писем только к 1988 г. появилось воспоминание, что Кочетов не пропускал ни одного номера «Нового мира» без ударов по нему и «Нашему современнику», а в 1993 г. добавилось такое замечание: «Кочетов-классик называл нашу солдатскую правду-матку «кочкой зрения»». Трудно судить, насколько отметки в письмах точны за давностью лет, т.к. выражение кочка зрения придумано М. Горьким.
Михаил Пришвин записал 18 июля 1933 г. про статью Горького: «кочки – это кочки зрения: что напр., сейчас голод и в иных местах родители живьём едят детей», «а точка зрения Горького: «действительность величественна и прекрасна»» [М.М. Пришвин «Дневники 1932-1935» СПб.: Росток, 2009, с.272].
Судя по «Улицам и траншеям», борцом за правду желал видеть и показывал себя Кочетов, чью «кочку» Астафьев скорее всего просто не заметил или забыл.
Так, опубликованные Кочетовым в 1964 г. (№3-4 «Октября») воспоминания В.И. Чуйкова взбесили маршала Жукова, которого обострённо не терпел Астафьев [«Источник», 1993, №5-6, с.154].
В пору могущества редактора «Октября» и выхода его военных очерков, в марте 1965 г. Астафьев писал А.Н. Макарову, не включая Всеволода Кочетова в перечень опасных для правды сталинистов: «В правление Московской и Ленинградской организации не вошли Соболев, Прокофьев, Грибачёв, Софронов и иже с ними. Если так дело пойдёт, то можно дожить до того, что и правду говорить и писать станут?..» (В.П. Астафьев «Нет мне ответа…». Эпистолярный дневник 1952-2001).
За несколько лет до того как стать секретарём Ленинградского отделения Союза писателей (с 1953 г.) Кочетов был «скромный, тихий, даже как будто милый». Но уже не такой в 1954 г. (письмо А.И. Пантелеева 20 ноября). А в 1957 г., писал Пантелеев в апреле, в преддверии 250-летия Ленинграда, к сонму великих писателей наряду с Пушкиным, прибавили Кочетова [Пантелеев Л. – Чуковская Л. Переписка (1929-1987) М.: НЛО, 2011, с.69, 100].
Ностальгически умиляющийся своей карьерой в газете «Известия» Мамлеев, который был близко знаком с Кочетовым, в 2008-м причислил его к литературным именам города на Неве, к Ахматовой, Зощенко, Маршаку, Берггольц. Мамлеев сочувственно описал Мариэтту Шагинян, которая в апреле 1962 г. отстаивала добрую память о сталинском времени. Доводы такие: «это была героическая эпоха». И: «ну почему теперь поддерживают таких писателей, как Анатолий Софронов, Всеволод Кочетов?». А напоследок: «Скажите, есть ли рецепт бескровия на поворотах истории» [Д.Ф. Мамлеев «Далёкое – близкое эхо» М.: Вагриус Минус, 2008, с.183, 185, 571].
18 февраля 1933 г. Михаил Пришвин Шагинян и Новикова-Прибоя считал редкими порядочными писателями, не высовывающимися на первый план. Хотя в воспоминаниях протоиерея Михаила Ардова об Ордынке приводятся собственные слова Шагинян за 1924 г.: она уже тогда так изолгалась, что решила уехать от всего в Армению. 50 лет спустя у бытописательницы атаманского правления Краснова сложилась ещё более чудовищная репутация лживой карьеристки.
Не существовало авторитета выше ЦК партии для советских литераторов, тех кто себя ими считал в СССР. В самом деле, автор официально-скучно прилизанных советских мемуаров «Вторая встреча» (1984) Владимир Лакшин, помощник Твардовского, в куда более остром дневнике писал про выступление «Октября» Кочетова против «Одного дня» Солженицына в апреле 1963 г.: «Как они себе это позволяют? Не может быть, чтобы вещь, одобренную Президиумом ЦК и Хрущёвым, так спроста стали бы разносить».
Вот отношения с верхами, при всей услужливости перед ЦК, были обидно холодными для знатнейших писателей.
Не видя всей разницы, когда сравнения во всех отношениях не идут в его пользу, Твардовский осуждал Л.П. Гроссмана за оправдание дружбы Ф.М. Достоевского с К.П. Победоносцевым, сравнивая последнего с секретарём ЦК по идеологии Л.Ф. Ильичевым, считая невозможным говорить с ним на задушевные темы. Что интересно, лебезить перед Хрущёвым он не гнушался, да и в обращении с ЦК Твардовский «обычно и исповедует мудрость Савельича, советовавшего Гринёву поцеловать ручку у Пугачёва». Только когда Ильичев хотел помирить его с Кочетовым в мае 1962 г., Твардовский заартачился. Ему скорее по нраву угождать цензорам, соглашаясь с ними, что статьи против Кочетова партийны и научны [В.Я. Лакшин ««Новый мир» во времена Хрущёва» М.: Книжная палата, 1991, с.51, 57, 124, 160].
Дневники Лакшина свидетельствуют об известной эгоистической агрессивности суждений Твардовского, о его знакомстве с историей Империи по глупым революционным портретным эскизам советской эпохи, о нежелании знать антисоветские интерпретации. Уже в этом незнании Твардовский безусловно Кочетову проигрывал, существуя только в мире просоветской дезинформации. Нельзя и помыслить, чтобы Твардовский всерьёз интересовался монархистами, как Кочетов – генералом Красновым. Напрасно Лакшин не желал видеть сопоставимость величин Кочетова и Твардовского. Притом, последний находился на творческом издыхании.
М.П. Лобанов справедливо считал Твардовского принадлежащим к той же номенклатурной элите, проводящей линию партии, что и Кочетова. В.Т. Шаламов тоже увидел в Твардовском литературного генерала на службе начальственных интересов. В этом мог убедиться кто угодно по редакционной политике в «Новом мире». Особенно наглядны теперь дневники Твардовского, где он в сентябре 1959 г. нашёл нужным отметить прочитанное у Бунина «о непристойных и недостойных большого писателя высказываниях и замечаниях по адресу Советской власти, Ленина» (и дальше в том же духе). Или такое: «пусть все поют «Интернационал». Но нам, нам-то зачем отказываться от святыни, закрепленной десятилетиями, от «Отче наш» революции. Буду очень серьезно обрадован, если бы дело повернулось разумно», т.е., если «Интернационал» вернут в качестве государственного гимна СССР. В 1960-м, продолжая настаивать на «Интернационале», Твардовский, соревнуясь, сочинил неудачный стишок под гимн, с таким заключительным посылом:
«Взвивайся, ленинское знамя,
Всегда зовущее вперед,
Под ним идёт полмира с нами
Настанет день – весь мир пойдёт» [«Знамя», 1989, №9, с.151, 154, 197].
И то, что потом в дневнике он, по поводу романа Гроссмана, отмечает единую волкодавью суть Магадана и Бухенвальда, советского и нацистского миров в целом, ничего не меняет. Твардовский и дальше будет славить советский строй из соображений эгоистической выгоды, ибо обязан партии «всем счастием литературного призвания» (июнь 1954 г.) и всегда будет ей за то благодарным, только меняя позы, дабы казаться в любое время правым – даже когда писал панегирики Сталину, ибо делал это искренне и потому не видит, чего бы ему стыдиться в 60-е.
Твардовского потому и трудно назвать жертвой внешних внушений, он понимал достаточно много и сознательно делал выбор в пользу распространения власти основоположников советского Бухенвальда на весь припорошенный землицей шарик. За такую надёжность Твардовский бывал допущен в состав партийного ЦК, а коли выведен – не арестован и не сослан, а состарился и своё отработал.
Можно убедиться в несуразности воззрений Твардовского продолжив сравнение его положения в СССР с писателями Российской Империи. Письмо Ф.М. Достоевского о первой встрече с К.П. Победоносцевым датировано 26 июня 1873 г. Первый советский публикатор Бельчиков видел намёк писателя на внимательность «со стороны всесильного обер-прокурора». Однако до 1880 г. Константин Победоносцев не был обер-прокурором, и говорить о каком-то его всесилии можно только начиная с первого периода Царствования Александра III, до начала коего Фёдор Достоевский не дожил.
Стало быть, в то время, когда К.П. Победоносцев служил в Сенате, занимался разработкой законодательства, достиг значительных научных успехов и за приложенные усилия в юридической сфере заслужил в 1872 г. вхождение в состав Г. Совета, его обязанности не имели ничего общего с работой секретаря ЦК Л.Ф. Ильичева. То же можно сказать про научные и публицистические работы, оставшиеся значимым вкладом в национальную культуру, ценимые и востребованные – у Победоносцева, а не Ильичева.
«Победоносцев тепло и сердечно с первых же дней относится к Достоевскому». «Через три-пять лет Достоевский уже очень дорожит мнением Победоносцева, к нему приезжает из Старой Руссы лечить дух в период упадка, отдаёт на его суд свои литературные творения, поверяет свои творческие раздумья, обсуждает с ним свои глубоко-философские замыслы – вроде образа Зосимы; ему откровенно поверяет свои грустные думы по поводу нестроений и уклонений в дорогом ему мире литературы». При таком самом естественном совпадении убеждений ко времени возвышению Константина Петровича 16.8.1880 г. Достоевский питал прекрасную надежду «на всю пользу, которой жду, да и не я один, а все от Вашей новой прекрасной деятельности. Ваш приверженец и почитатель» [«Красный Архив», 1922, №2, с.240, 252].
С неизменной революционной пылкостью стареющий Твардовский ненавидел национальных русских мыслителей и не стремился знать и понимать их, самодовольно меряя всех под себя и потому считая, будто «нельзя оправдать» духовное родство Достоевского и Победоносцева (30 августа 1963 г.). Он и не подумал, равняясь на Достоевского, отойти от ленинизма. Тут разница между Твардовским и Кочетовым не велика, они сражались за разные советские проекты, но исключительно советские.
В 1958 г., когда вышел роман Кочетова «Братья Ершовы», Михаил Хейфец разгромил его в институтском клубе и на следующий же день обнаружил, что это делать не положено. Противники Кочетова из числа евреев запомнили ещё, как он проповедовал в «Октябре» «китайский вариант Мао» [М.Р. Хейфец «Книга счастливого человека» М.: Новый хронограф, 2013, с.57, 218].
Драматург А.К. Гладков писал весной 1966 г. по разным поводам про «обычную ораторскую клоунаду» речей Шолохова. «Китай начал бурно бранить Шолохова, хотя у нас Шолохов считается вместе с Кочетовым представителем идеологической китайщины» [«Новый мир», 2014, №10, с.167].
Хейфец мог совершить ошибку, близкую к тому, как писали в СССР о популярности книг Краснова в Германии, что вовсе не означает совпадения по части идеологии. Так и с миллионными тиражами Кочетова в Китае и с тем, что в Китае его признавали редким стойким революционером из числа советских писателей (по дневнику Лакшина 6 апреля 1963 г.). Прямо проповедовать маоизм в СССР немыслимо.
Нынешние сталинисты часто винят одного Хрущёва за разрыв с Мао, хотя тот всегда ненавидел Россию и переносил свою неприязнь даже на коммунистический СССР. «У Мао было «иррациональное восприятие России как вечного и главного врага Китая» – «патологическая ненависть». Он никогда не проявлял уважения к чужой культуре, что называют «шовинизмом в квадрате», сравнивая со Сталиным [Ю.М. Галенович «laquo;Сталин и Мао. Два вождя» М.: Восточная книга, 2009, с.391-392, 450].
Один из арестованных в СССР китайцев в 1974 г. делился опытом с советскими заключёнными. «Чем больше он рассказывал про Китай, тем больше вспоминали мы 20-30-е годы, так называемый «сталинизм». Только, пожалуй, покруче было в Китае. Ещё больше жестокости, цинизма, лицемерия. Не нужно было там Соловков, – неугодных просто убивали» [В.К. Буковский «И возвращается ветер…» М.: Захаров, 2007, с.379].
Победа коммунистов в гражданской войне в 1949 г. привела к оккупации Тибета. Всему Китаю эта победа принесла не естественный, а организованный социалистическими экспериментами голод, когда для обеспечения контрактов с иностранцами не был прекращён экспорт продовольствия. Зимой 58-59 г. голодало 25 миллионов крестьян. В 1959 г. голод превратился в массовое явление [А.В. Панцов «Дэн Сяопин» М.: Молодая гвардия, 2013, с.242, 248].
Симпатии китайских коммунистов могли стать дополнительной причиной расхождения Кочетова с другими партийными идеологами в литературе. Писатель Вадим Кожевников в 1949 г. стал главным редактором журнала «Знамя» в разгар борьбы с космополитами, потом критиковал публикации Солженицына в «Новом мире». Дочь зовёт его советским ортодоксом. Александр Чаковский, внук еврея-миллионера, образцово выслуживался перед партией и повелевал так, что перед ним в редакции дрожали – со всем рвением искупал непролетарское происхождение. Он создал «Литературную газету». А.Б. Чаковский с В.А. Кочетовым, «выражаясь мягко, не ладил. Как, впрочем, и мой отец» [Н.В. Кожевникова «Незавещанное наследство» М.: Время, 2007, с.25-26, 30, 152].
Антисемитом Кочетова могли звать за компанию со сталинистами, хотя, как видно, он не участвовал при Сталине в борьбе с космополитами, в отличие от Грибачёва, сцепившегося с евреями во взаимной критике в 1949 г. [«Литературная Россия», 2010, №15].
В самый разгар дела врачей, как ни удивляются исследователи, в прессе практически отсутствовали соответствующие публикации, долженствующие выражать народное негодование. В январе 1953 г. в «Крокодиле» редкую статью о евреях поместил Грибачёв: «Сионисты из ”Джойнта” вкупе с английскими шпионами организовали группу врачей-убийц в СССР» [«Еврейский журнал», 1991, №1, с.36].
В записной книжке Шаламова за 1961 г. можно встретить: «с антисемитизмом я встретился только в годы советской власти», «уже в тридцатых годах антисемитизм не считался позором, а после войны стал чуть ли не доктриной (вплоть до Кочетова)» [В.Т. Шаламов «Несколько моих жизней» М.: Эксмо, 2009, с.285].
Не будучи близким к Кочетову и не основываясь на его творчестве, Варлам Шаламов скорее передавал чужие пересуды, чем что-то достоверно однозначное.
В специальном исследовании вполне удостоверяется клеветнический характер либеральных обвинений: Кочетов не был антисемитом [Н.А. Митрохин «Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953-1985 годы» М.: НЛО, 2003, с.157].
В отношении к евреям книга «Улицы и траншеи» лишний раз убеждает, какой поклёп возводили на Кочетова борцы с антисемитизмом. И про еврея – редактора «Красногвардейской правды», и про Арона Наумовича Пази, редактора Ленинградского радиокомитета, Кочетов пишет исключительно в уважительных и одобрительных тонах А.Н. Пази старался устроить Кочетова на радио, когда Кочетова попёрли из «Ленинградской правды» за нежелание врать и гнуть спины перед начальством (с.314-315).
Евреи постоянно встречались Кочетову в газетном мире: рассказывает он о встрече с литературным критиком Григорием Абрамовичем Бровманом (с.287-288), с журналистом Семёном Гуревичем, который делился воспоминаниями о Кирове (с.231-232). Кочетов поместил в глубокий подвал примечаний к своему рассказу письмо, присланное ему Вульфом Евсеевичем Лайхтманом, который нашёл нужным отозваться на очерки Кочетова и прислать свои дополнения к описанным событиям (с.146-147). На страницах рассказов Кочетова встречается столько евреев, что переписывать их всех слишком утомительно. Но достаточно ясен вымышленный характер либеральных обвинений Кочетова в антисемитизме: таковы были советские нравы – не нравится какой-то писатель, записываем в антисемиты и все дела. Реальные ошибки Кочетова и настоящие воззрения писателя критики игнорировали, подделывали его взгляды, заменяя его убеждения более удобными для осмеяния тезисами.
В мае 1970 г. Лидия Чуковская отправила еврейской писательнице В.Я. Аркавиной, пострадавшей ещё при Ленине за меньшевизм, письмецо, в котором сожалела о затрате сил на критику романа «Чего же ты хочешь?»: «К литературе книга Кочетова не относится, однако она причиняет вред – ну, как например водка или протухшее мясо. Водку литературной критике не подвергнут. Я бы устроила общественный суд – и даже не над автором, а над издателями этой макулатуры» http://www.chukfamily.ru/Lidia/Proza/Arkavina.htm
Либерально-еврейская цензура, как и советская цензура, одинаково не переносила критику в свой лагерь, сколь бы ни был талантлив содержащий её и потому осуждаемый роман. Гвалт вокруг «Чего же ты хочешь?» показывает, что в этом отношении либеральная антисоветчина не отличалась лучшими качествами.
3 ноября 1966 г. в дневнике А.К. Гладкова появляется более основательное сопоставление авторских качеств: «Раковый корпус» Солженицына написан «на уровне» Кочетова – «поверхностно, мелко-тенденциозно». Но у советских современников каждый отзыв необъективно расчётлив в порядке личной грызни.
Более неожиданные суждения появляются в последние годы. Алексей Варламов зовёт рассказ Шукшина «Срезал», напечатанный в «Новом мире» – это «практически концентрат «Чего же ты хочешь?»». В статье Варламова «Русский Гамлет» про Василия Шукшина раскрывается, что Кочетова «принято считать шукшинским литературным проводником и благодетелем, впоследствии своим протеже глубоко обиженным и довольно беззубо ему отомстившим в романе «Чего же ты хочешь?»». Кочетов расстелил перед Шукшиным, как выражается его биограф, красную дорожку в литературе. «Шукшин был симпатичен Кочетову и своей крестьянско-рабочей судьбой, и характером, и, в общем-то, наверное, взглядами, хотя бы частично. Кочетов имел все основания считать Василия Макаровича своим личным открытием». Шукшин потом объяснял свой отход от «Октября» тем, что перед Кочетовым при его появлении сотрудники редакции вставали, как школьники [«Новый мир», 2014, №10, с.85, 89; №11, с.143].
Основные заблуждения Кочетова, как и Твардовского, исходили из антимонархических представлений. Они коренятся, как видно из его воспоминаний, ещё в детском увлечении народовольческим террором:
«Мы, школьники, старательно, разыскивали на чёрных лестницах квартиру, в которой это происходило и где в канун покушения заседал исполнительный комитет «Народной воли»; мы вламывались [!] в чьи-то кухни, выспрашивая у встревоженных домохозяек подходящего возраста, не помнят ли они Веру Николаевну Фигнер или Софью Львовну Перовскую.
По следам Кибальчича добрались мы тогда до Большой Подьяческой и в доме №37 отыскали квартиру, где была динамитная мастерская Исаева. Мы толпились среди чужих комодов и кроватей в комнатах, где бывал Желябов, откуда доставляли динамит для взрыва в Зимнем дворце» («Улицы», с.306-307).
П.Н. Краснов, который в 1937 г. усердно писал роман про народовольческий террор, мог лучше В.А. Кочетова понять природу революционного насилия. Кочетов выбирал не те исторические параллели. 1937-й надо было выводить из 1881-го. Начиная с одобрения взрыва Зимнего дворца, можно прийти и к 1917 г. и к 1937 г. Этика революционного насилия – та же, что убивала Императора Александра II и Императора Николая II. Она же создала в СССР машину для сгибания спин и чуть не оставила Всеволода Кочетова без продовольственного пайка в осаждённом немцами Ленинграде.
Чаще всего либералы поддерживали те же антимонархические основы Советского Союза, на которых покоился весь коммунистический строй. А.Т. Твардовский «очень» гордился, что его дочь занимается партией «Народная воля» и напишет о ней главу в новой истории КПСС. Враг Кочетова Александр Твардовский, восторгаясь террористическими традициями революционеров, увидел совершенно несуразную аналогию у Костомарова: «допрос еретиков» – «чистый 37-й», находя в инквизиции своего успокаивающего совесть “Александра Невского” «Улиц и траншей».
Так и в окружении Л. Чуковской с её кумиром Герценом и с А. Ахматовой, которая в споре между Пушкиным и Мицкевичем брала сторону поляков. В их литературно-еврейской компании успел подвизаться Б. Сарнов, ныне бесстыдно аттестующий сочинения А.И. Солженицына как обыкновенный фашизм. Это несравненно более лживо, чем когда в «Октябре» Кочетова насаждали мысль о кулацких настроениях Солженицына. Несостоятельность других сочинений Сарнова показывает Ю.А. Павлов в сборнике «Критика ХХ – ХХI веков», в разных статьях, наряду с демонстрацией сугубо советской принадлежности убеждений Твардовского.
А.И. Солженицын писал, что культурный круг, к которому принадлежало семейство Чуковских, в ту пору перед ним преклонявшееся, «всем своим нутряным сознанием» прилегал «к безрелигиозной традиции освободительного движения» прошлого века (к тем же самым народовольцам и сменившим их марксистам). Потому-то противник Солженицына Г. Померанц защищал Маркса и Ленина, уклоняясь от конфронтации с советской властью, в силу своего еврейского интернационализма [Филипп Буббайер «Совесть, диссидентство и реформы в Советской России» М.: РОССПЭН, 2010, с.187, 202].
В этом клане подле Ахматовой считали клеветой рассказ Ирины Одоевцевой, жены эмигрантского поэта-монархиста Георгия Иванова, о реальном участии Николая Гумилёва в антисоветском заговоре. Если посмотреть, например, книгу Ю.В. Зобнина о казни поэта, будет видно, насколько права Одоевцева. Гумилёва в перестройку долго не хотели реабилитировать, и выреабилитировали в итоге только из-за подключения к приговору лишних статей. Лучший пример всей постыдной никчёмности реабилитационных процессов для таких личностей как генерал Краснов.
В некоторых случаях противники советского строя доказывали своё реальное превосходство над ним. Борец с карательной психиатрией в 1970-е Александр Подрабинек в книге «Диссиденты» (2014) рассказал, что в сознательном возрасте отверг революционную мораль жертвования чужими жизнями, хотя изначально воспитывался на книжках о народовольцах.
В этом отношении еврей-диссидент А.П. Подрабинек, противник всякого национализма, тем не менее, под самым сильным нажимом отказавшийся покинуть СССР, смотрится выигрышно и в сравнении с Кочетовым, и с тем окружавшим Подрабинека либерально-еврейским большинством, которое только мечтало о высылке за границу и решительно не понимало его отказа. Зато такие диссиденты нового поколения, в отличие от Кочетова, не основывали свои убеждения на исторической глубине, а только на современном положении СССР и воображении о сравнительном превосходстве демократического устройства. Даже Подрабинек, который послушал предупреждение Солженицына о преувеличении достоинств жизни в западном мире, тем не менее, сохраняет демократический идеал в качестве цели своей борьбы.
Уже в 2000-е годы А.П. Подрабинек отметился борьбой со сворой путинистских нашистов за антисоветскую вывеску в Москве и защитой памяти деятелей антисоветского движения 1940-х.
В отличие от Подрабинека, Хейфец эмигрировал в Израиль и даже теперь продолжает восхвалять народовольцев, на чьих именах он делал свою литературную карьеру в СССР. Очень выразительно признание Хейфеца об отношении к террористу А.И. Ульянову: «молодой человек мне очень нравился как тип» достойный романсированной биографии. Зато С.Н. Семанов, как вспоминает Хейфец, «скривил губы», услышав про роман о Желябове, и предложил в качестве главного героя Клеточникова (“крота” в III отделении, этим нарицательным именем потом звали сотрудника КГБ, помогавшего диссидентам).
Хейфец советом Семанова воспользовался. Антисоветчик Хейфец даёт самое сомнительное или же много проясняющее изображение Семанова как антисемита поневоле, принимающего навязанные ему сверху правила игры: «идеологический отдел ЦК придумал новую игру – стравливать «русских патриотов» с «еврейскими либералами»» [М.Р. Хейфец «Книга счастливого человека» М.: Новый хронограф, 2013, с.74, 159, 176].
Можно заметить, что в редактируемом С.Н. Семановым альманахе в рецензиях на книги критиковали евреев-искусствоведов за недооценку значения народнического движения. Так, М. Копшицера обвинили в недостаточной демонстрации революционности художника Валентина Серова [«Прометей», 1971, Т.8, с.318-321].
Трагикомично, коли так выражалось проявление «русского патриотизма»: в борьбе с евреями за признание пущей революционности русской культуры. Причём, вторая критическая рецензия против Раисы Беньяш с тем же мотивом написана А. Альтшуллером. В целом Семановский альманах серии «Жизнь замечательных людей» пропагандировал народовольцев заодно с Хейфецом. Если они считали нужным так вести борьбу с советским марксизмом, то это действительно скорее игра в «русскую партию».
В области исторических исследований советский контроль был особенно силён, как во всём, зависимом от политической философии. Несколько свободнее находились сферы литературы и искусства, в которых вести борьбу с советской идеологической оккупацией можно было с позиций нравственности, эстетики и классических традиций в некотором безопасном отдалении от политики. Не будучи опасным напрямую, такое русское направление осознавалось враждебным всей идеологической обслугой СССР.
Так, среди литературных критиков, которые редко замечают друг друга, заметным явлением становится, когда некоторые «вдруг поднимают общий «стрелецкий бунт», ратуя за понимание народности, лежащей где-то неподалёку от той псевдонародности, пристрастие к которой так беспощадно высмеяли в своё время русские марксисты» (1969). Народность становится опасной, когда становится выше марксизма, или же соединяется с религией, марксизм замещающей. Борьба за народность также оказывается не в интересах евреев, чью национальность тот же марксистский критик в 1976-м, дабы не привлечь лишнего внимания, обозначил названием города, наблюдая «на другом участке литературоведения и критики – попытку грубо очернить с десяток прозаиков и поэтов, преимущественно на том основании, что они родились в Одессе» [Е.Ф. Книпович «За 20 лет» М.: Современник, 1978, с.92, 109].
И это ещё до дискуссии «Классика и мы» в декабре 1977 г. В.Я. Лакшин в начале 1960-х в дневнике за рецензии звал Книпович брутальной литературной старухой. Бунт в литературоведении настал значительно раньше: годы спустя считалась памятной дискуссия в «Вопросах литературы» за 1969 г., №5-12, на которую среагировала Книпович.
Появились специальные исследования, указующие на националистические уклоны новых литературоведов-почвенников в СССР: «правильный ориентир терялся молодыми критиками, они стали противопоставлять «свои» славянофильские хоругви «космополитическим» знамёнам декабристов и демократов» [В.И. Кулешов «Славянофилы и русская литература» М.: Художественная литература, 1976, с.9-10].
Националистическая поляризация литературной элиты отражена в письме В.П. Астафьева уже за апрель 1967 г.: «всё норовят горланить о «левых» и «правых», извлекая из этого выгоду или поддакивая кому-то, и всё время щупают – а ты за кого? За нас или за них? А мне ни за кого не хочется. Писателей я делю только на хороших и плохих, а не на евреев и русских» («Эпистолярный дневник»).
Затем, 23 апреля 1973 г. Виктор Астафьев пишет так: «Вероятно, ты так и не поверил мне, не захотел поверить из объевреенного Киева, что я не хочу получать никаких денег, боюсь быть ими связанным». Интересно сходится словоупотребление с тем, как в августе 1879 г. Ф.М. Достоевский писал К.П. Победоносцеву: «Германия, Берлин по крайней мере, жидовится», «немцы и жиды сами об этом свидетельствуют».
4 апреля 1976 г. В.П. Астафьев: «Спектакль идёт хорошо, среди вымученной и замученной словодрисни, которой затопили евреи сушу». Осень 1979 г.: «Бывал я на встрече ветеранов нашей 17-й дивизии, в Киеве и в Ленинграде, чувствовал там себя неуютно, никто меня не знает и я никого. – одни господа-офицеры, много евреев, которых я на передовой и в глаза не видел все герои, все обвешаны регалиями, все задаются».
3 октября 1987 г. про «Тараса Бульбу» Н.В. Гоголя: «Уж как ни пытались изобразить советского «Тараса», да кишка тонка. И стало ещё мне понятно, отчего «Тарас» не попадает в кино и на сцену, в школах и вузах читается успешно. Товарищи жиды там оказываются написанными такими, какие они есть на самом деле. А такие, какие они есть, они никому и даже самим себе не нравятся».
2 ноября 1988 г. про Красноярский театр: «Они тоже устали уже от жидовства».
Суждения осведомлённого писателя охватывают стороны советской жизни, соприкасающиеся с его постоянной деятельностью. Основные претензии к евреям выходят из их собственных поползновений к господству в области искусства: в литературе, кинематографе и театре. 3 февраля 1990 г. В.П. Астафьев пишет: «Замечательная книжка, поучительная для современных писателей-олухов, выясняющих, кто за евреев, кто против, и на всякий случай подпевающих евреям, поскольку нынче это выгодно».
С 1967 г. по 1990-й сохранилось одно неприятие жидоцентризма, в то время как само отношение писателя нисколько не изменилось – с тех пор как он познал ту же «тайну времени», что и В.А. Солоухин. Многие критики В.П. Астафьева, не понимая особенностей ограничений творчества в СССР, усмотрели какие-то изменения во мнении относительно ВОВ, советской власти, евреев в пору снятия цензурных цепей.
Легкомысленный самодур А.А. Бушков году в 1997-м удивлялся, как это премированный Астафьев вдруг обернулся матерущим антикоммунистом («Россия, которой не было»). Кто-то продолжает указывать на разницу подачи в «Пастухе и пастушке» и «Проклятых и убитых». Опубликованная в 2009 г. переписка В.П. Астафьева с 1952 г. по 2001-й показывает его взгляд на марксизм по меньшей мере с 1964-го: «Наши титаны мысли все в гробу поперевёртывались, поди. Даже Карл Маркс вшу бородой метёт, а на что уж был активный демагог, которому ради красного словца не жаль было не только матери-отца, но и всех нас, детей его».
Весь дальнейший последовательный антикоммунизм мог только расти. Он с самого начала находил подпитку в военном опыте В.П. Астафьева, который за десятилетия до публикации «Проклятых и убитых» вынашивал их замысел, начинал черновые записи, обозначал в общении с близкими людьми свою позицию. Ничего неожиданного нет и тут. Литературоведы это отлично знают, но если антибольшевизм либералами поощряется, то с 1990 г. подпевать евреям по-прежнему выгодно, и у критиков выстраивается самая странная, нелепая развилка для астафьевской характеристики большевизма и еврейства:
«Не подлежит сомнению: упрекнув Астафьева в расизме, Эйдельман коснулся больного места – задел, сам того не желая [?], кровоточащую рану. Обострение «национальной темы» в творчестве Астафьева имеет конкретную хронологию: середина 1980-х годов. Зашатались – это угадывалось уже после смерти Брежнева – устои Великой [?] Империи» [К.М. Азадовский «Переписка из двух углов Империи» // «Вопросы литературы», 2003, №5].
В используемой переписке Виктора Астафьева с литературным критиком Валентином Курбатовым неприятие еврейского господства в культуре задолго до 1985 г. выражено не Астафьевым. Более откровенен его собеседник, пишущий 4 декабря 1980 г. из Пскова: «Хуже же всего, что Москва не на шутку увлеклась «старинной русской потехой – борьбой с евреем». А уж поскольку у русского человека нет опыта национализма, то размеры все принимает простые, удалые, способы борьбы нехитрые, как драка кольями. Это против евреев-то, у которых двухтысячелетний опыт защитной дипломатии!.. Писать ничего не хочется, каждое слово подозревается в двоемыслии и рассматривается только с убогой точки зрения «за кого он?»».
Примечательна способность Курбатова воспринимать национализм как высший, самый культурный принцип действия в попытке колебать еврейское господство. Верное понимание национализма, выбивающееся из советской терминологии, верный признак приближения к лучшим образцам русской идеи.
По письмам Курбатова никакого обострения в 1985 г. опять-таки нет. Пусть биографы Эйдельмана выясняют, вызвано ли его письмо каким-то обострением. Сомневаюсь. В.Я. Курбатов 21 октября 1986 г. о письме Эйдельмана: «наглости и раздражения много, а смысла, увы, куда меньше, чем я ожидал. Письмо очень вяло и уязвимо».
Особенно много о Валентине Курбатове и национализме в СССР говорит следующее письмо, 17 июня 1987 г. о Москве: «Все оживлённо судили общество «Память», а я вдруг вспомнил роман Солоухина, и смущавший меня его финал (в котором умный, открывающий глаза писатель-фотограф мерещится провокатором) открылся как давно указанная Владимиром Алексеевичем правда. По-человечески фотограф, вероятно, прав, но художник углядел, как человеческая правда в игралище общественных страстей оборачивается противоположностью и честный порыв выворачивается в провокацию. Нет, сейчас коли хочешь человеком остаться, надо в Овсянке сидеть и спокойно делать своё несуетное дело» [«Крест бесконечный». В. Астафьев – В. Курбатов. Письма из глубины России. Иркутск: Издатель Сапронов, 2002, с.124, 230, 240].
Виктор Астафьев не настолько тщательно, как Валентин Курбатов, изучал русскую религиозную философию, нет данных и о знакомстве Астафьева с рукописью «Последней ступени», хотя теоретически можно увидеть в письме ссылку на обоюдное знакомство с романом, поскольку никакими подробностями о его происхождении Курбатов не делится, а время его прочтения отодвинуто в сколько-то отдалённое прошлое. Влияние же «Последней ступени» выражается и в раскрытии в романе значения монархического принципа.
1985 год отнюдь не открывает схватку, давно описанную в «Последней ступени». Следует непременно знать об указанных национальных литературных баталиях с 1960-х годов, да и в любое время ранее.
Например, дневник Пришвина 7 января 1947 г. о тех же неизменных боях за культурное преобладание: «Говорили о евреях, что у нас на них теперь везде нажим: чем между прочим объясняется мой успех у Потёмкина и в «Детгизе» за счёт Маршака» [М.М. Пришвин «Дневники 1946-1947» М.: Новый Хронограф, 2013, с.13].
Едва ли возможно увидеть в рассуждениях Константина Марковича Азадовского (1941 г. р.) одну малосообразительную наивность, когда он пишет про ограниченность социального и исторического видения В.П. Астафьева, замкнутость и однообразие его кругозора. Написать так можно решительно про любого человека, вопрос скорее в том, где именно узости нет, и узости относительно чего. Следует обозначать как можно точнее, в каких областях беспредельно объёмного научного и культурного кругозора видится эта узость.
Приём убеждения через декларацию мнимого интеллектуального превосходства знаком с давних лет, будучи основным методом обмана в порядке революционной агитации. Добившись своего в 1917 г., тот же лживый приём обращали на любого противника научного марксизма – который один научен и потому все его отрицатели вне науки. Точно так в пору славянофильского подъёма в СССР пропагандист интернационализма А.Т. Твардовский в 1966 г. дал трибуну И.С. Кону с его тезисом: «антисемитизм теснее всего связан с антиинтеллектуализмом». При том, что сам Игорь Кон был и остался интеллектуально несостоятельным нигилистом по части русской национальной культуры. Каждый такой еврейский тезис от Кона до Азадовского легко обернуть против них.
Например, несомненные ограничения накладывает принцип юдофильского мышления, по которому евреи всегда будут гонимы и правы, а их идеологические, политические, литературно-критические противники непременно будут полупомешанными фантазёрами. Но проблема не в одной культурной узости, а в еврейской наступательной агрессивности в массовой печати – ладно бы только в личных письмах.
Напоминал В.П. Астафьев об убийстве Царя Я.М. Юровским или об отданном комментировании полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского Г.М. Фридлендеру. По факту всё верно, но еврей Азадовский вступается: это, дескать, обращение к «истасканному доводу “патриотов”», «омерзительные слова» и т.д.
Сдержаннее реагировала на ответы Астафьева Лидия Гинзбург, считая напрасным вступать с ним в переписку: он не Достоевский. Однако в их споре Астафьев оказывался куда ближе к Достоевскому, чем Эйдельман, и представлял его идеи в СССР.
Про Н. Эйдельмана, который напал на Виктора Астафьева, Азадовский почтительно пишет: «громче других прозвучал тогда голос Натана Эйдельмана, замечательного историка России, прямо обвинившего Астафьева в национализме и расизме». В том же самом сколько угодно обвиняли и Фёдора Достоевского. В феврале 1985 г. Курбатов писал, что Горький называл Достоевского фашистом, а Шкловский хотел бы судить Достоевского как изменника.
Натан Эйдельман, который издевался над отечественной историей со всей энергией еврейской ненависти к монархическому устройству России, подвергается сейчас заслуженному разоблачению: Эйдельман фальсифицировал описания архивных бумаг, рассчитывая на доверие тех, кто «подлинников не видит», а также заполнял исследования своими фантазиями [М.А. Крючкова «Триумф Мельпомены. Убийство Петра III в Ропше как политический спектакль» М.: Русскiй Мiръ, 2013, с.86].
Историки сейчас зовут Эйдельманом мифографом, полупублицистом, занимающимся квазинаучной романтизацией революционеров [А.А. Тесля «Первый русский национализм» М.: Европа, 2014, с.148-149].
Однако Эйдельман ненавидел не евреев, уничтожавших русскую культуру, убивавших Царскую Семью и организовывавших ЧК и ГУЛАГ, он ненавидел монархов и монархистов, следовательно, в глазах еврейских литературных критиков он замечателен, а Астафьев расист.
Как же там Эйдельман, с его равнением на революционные традиции “свободной” мысли декабристов и Герцена, работал с подлинниками, евреев с “широким” кругозором нисколько не волнует. Очень уж он широк и свободен.
Многажды ещё В.П. Астафьев обращал внимание на подобные творению Азадовского претенциозно наглые еврейские меры к подавлению самостоятельности русской мысли, запрещению любых неугодных евреям честных суждений, дабы они могли спокойно главенствовать над русской культурой, оставаясь в монопольной недосягаемости. В сентябре 1988 г. Астафьеву пришло на ум уподобить покойному В.А. Кочетову В.Я. Лакшина, заместителя главного редактора журнала «Знамя», ввиду схожести их нападок на почвеннически ориентированный журнал «Наш современник»: «Спроси себя наедине иль в «передовом обчестве» – не было бы гадких евреев в романе Василия Белова, напал ли бы ты на него? Уверен, что нет».
В конце 1980-х литературно-критические и публицистические статьи журнала «Знамя» (с тиражом в 1 млн. экз.) пропагандировали прогрессивный характер западнического глобализма, изображая патриотический лагерь вместе с Астафьевым сборищем сталинистов, изоляционистов, расистов, некультурных и жадных до власти врагов мирового еврейства. Во многом критика ставила на место советских патриотов, указывая на слабые места и недостаточную развитость их идей, но никогда не попадала в настоящий национализм, саморазоблачительно промазывая. Изоляционизм не единственный ответ культурному подражанию и заимствованию. Изоляционизм – крайность, невозможная и ненужная для национализма. Советский провал с железным занавесом это коммунистическая, а не национальная неудача.
Уже в пору расхождения В.П. Астафьева с просоветской патриотической общественностью, 10 июня 1994 г. отправлено Юрию Нагибину: «Что же касается качеств наших, то, опять же в процентном отношении, среди русских и евреев порядочного и дряни будет поровну, и заискивать ни перед кем, тем более перед евреями, нельзя. Они как нынешние дворняги: чем их больше гладишь и кормишь, да заискиваешь перед ними, тем больше желания испытывают укусить тебя».
Представляются спорными суждения, будто «бедный В.П. Астафьев, сломленный после неудачной полемики по еврейскому вопросу с Н. Эйдельманом, в годы перестройки сполз в лагерь разрушителей России – возможно, из-за безверия…» [М.В. Назаров «Вождю Третьего Рима» М.: Русская идея, 2005, с.348].
Здесь сказалась трудность при недостатке документальных данных в написании столь значительной разносторонней книги проследить за оттенками убеждений Астафьева, оценить все его мотивы и поступки.
Как ни велик был еврейский напор возмущения опубликованной перепиской с Эйдельманом, как часто ни приходилось красноярскому писателю оправдываться за допущенную правдивую откровенную честность, определённого отказа от всегдашних своих убеждений он не допустил. Виктор Астафьев, начавший с середины 70-х ставить слово Бог с прописной буквы, постоянно выражал предпочтение молитвам за погибших в ВОВ помпезным празднованиям. Советский культ 9 мая, поддерживаемый оппонентами Астафьева, куда яснее демонстрирует подчинение христианской идеи советскому мифу. Гласно отвергая верховный культ победы из религиозных соображений, Астафьев делал самое значимое для национальной культуры.
Касательно же сотрудничества с властями РФ, то таковое всегда по праву считается М.В. Назаровым допустимым в национальных интересах. Это и видно на примере с В.П. Астафьевым. Преувеличивать патриотический характер просоветской оппозиции 90-х нет нужды: захлёбываясь критикой, она ни концепционно, ни организационно не могла дать предпочтительной альтернативы для будущего России. Её человеческий материал, столь же потенциально и реально коррупционный, как и правящая власть, носил к тому же советско-антимонархический заряд, опасный для искалеченной русской культуры.
Политически монархисты всегда оказывались ближе к правым либералам, нежели советским патриотам, что видно со времён сотрудничества П.Н. Краснова и А.Ф. Керенского, во всём Белом Движении. Так и теперь сталинисты (они чаще и путинисты) угрожающе нависают над всем монархическим движением, постыдно компрометируя его.
Чего только стоит появившаяся 3 марта 2015 г. против самых актуальных призывов не голосовать за самозванцев и последовательно героически отстаивать монархическую идею статья «Антигосударственность русского монархизма» на сайте «Русская народная линия», чьи идеологи давно предали ради сиюминутной популистской славы среди нынешних 85% приверженцев В.В. Путина идеи Самодержавия и национализма.
Попытки оправдать сближение с советским лагерем стремлением повлиять на его деятелей, как правило, не оправдываются, и проводники влияния сами осовечиваются, подстраиваясь, подражая и заражаясь.
Ничего кроме неприязни не вызывают сочинения такого титулованного патриота-государственника, хвастающегося голосованием против ратификации Беловежских соглашений в декабре 1991 г.: «Выиграли не марксисты-большевики, как казалось почти весь ХХ век, а народники. Возвышение СССР произошло только тогда, когда, как того и добивались – где осознанно, где интуитивно – народовольцы, политика России соединила стремление к социальной справедливости с национальным укладом и национальным духом» [С.Н. Бабурин «Новая русская империя» М.: Алгоритм, 2013, с.73].
Вот уж какой новой империи монархистам не надо. Нельзя соединить Российскую Империю и СССР. Желаете видеть в Советском Союзе национальный дух – придётся славить гнусных убийц из «Народной воли», а не генерала Краснова и Царя Николая II. Чем и занимается создатель партии «Народная воля» Бабурин.
Сравнительно с ним кажется куда симпатичнее убитый чеченскими гвардейцами криминального режима Борис Немцов, который, занимаясь распространением самой важной информации о современном состоянии общественного строя, никогда не заигрывал с советскими идеями и не пытался присвоить и переделать русский монархизм для совмещения с народнической демагогией, путинским цезаризмом или агрессивным оккупационным глобализмом.
Советским патриотом-государственником, как Бабурин, был и Кочетов, и Бабурин не менее опасен для монархической идеи, которую душит в объятиях с тем же уничтожающим результатом, что и явный враг Кочетов.
Одержимый ненавистью к монархистам, Всеволод Кочетов и в последнем очерке «Улиц и траншей» «С кем ты пойдёшь в разведку», повторил: «На Пулковских холмах не впервой в истории нашего города гремят выстрелы. Подступали сюда красновские кавалеристы, о которых долго помнили люди в деревнях, расположенных вдоль шоссе Александровская – Красное Село; подходили полки Юденича. И вот добрались гитлеровцы» (с.328).
Не одному Кочетову приходило в голову сопоставить осады Ленинграда и Петрограда. Тем наглядней становится невероятная натяжка Кочетова, несовпадение его политических конструкций с ощущениями жителей города. Вот запись Островской в Ленинграде 13 октября 1941 г.: «Как мало общего между сегодняшним днём и днями Юденича». В дневнике Князева можно найти похожее сравнение с 1917-1919 гг.: «Страшно по-новому» [С.К. Островская «Дневник» М.: НЛО, 2013, с.253, 645].
Такой же нелепой ошибкой Кочетова в романе «Угол падения» было отождествление с нацистом Альфредом Розенбергом агента монархической организации ротмистра Лейб-гвардии Кирасирского полка фон Розенберга, начальника оперативного штаба 1-го красноармейского корпуса, который затем в Пскове совместно с организацией Н.Е. Маркова начнёт формировать Северную монархическую армию [Н.А. Корнатовский «Борьба за красный Петроград» М.: АСТ, 2004, с.26-42].
Политические сопоставления стали художественной неудачей Кочетова. Удары по Краснову цели не достигали. Кочетову не удалось раскрыть действительную роль Краснова и его монархических убеждений в истории СССР, но он хотя бы не забывал о значительности личности генерала Краснова и не давал забыть другим.
Эту память поддерживали в СССР немногие. Советский поэт Борис Абрамович Слуцкий (1919-1986), умерший ещё до начала массовых переизданий Краснова в РФ, как потом выяснилось по его воспоминаниям, читал эмигрантские книги: «Генерал Краснов писал об одном из своих героев, что он говорил настолько по-русски, что всегда можно было разобрать, где «е», а где «ять». Патриотизм старого поколения эмиграции носил именно ятевидный характер». Слуцкий читал один из самых антисоветских романов – «Белая Свитка», в котором русскую речь в такой отчётливости сохраняет атаман, руководящий свержением коммунистической власти в Москве.
Интерес Б.А. Слуцкого к П.Н. Краснову объясняется его службой в 1945 г. вместе с частями Красной Армии в Югославии, где состоялись встречи со многими белоэмигрантами. Отношение к ним у советского поэта неприязненное: в их идеологии он видит сословные предрассудки. Полууважительно-полунебрежно пишет о тех, кто отказался принимать чужое гражданство: «дрожали гордецы, сохранившие императорские документы». Слуцкому не нравилась ни отчаянная борьба белогвардейцев с красными партизанами Тито, ни с советскими войсками. Неприятен был и запретный еврейский вопрос. «Она спросила: «А правда ли, что у вас всем заправляют… евреи?» И смотрела мне в глаза злобно, чуть насмешливо…» [Б.А. Слуцкий «О других и о себе» М.: Вагриус, 2005, с.132-133].
Подобно Кочетову, слонявшемуся по местам боёв Краснова под Петроградом и читавшему запрещённые книги, Слуцкий зацепил осколок монархической России, уцелевший в Белграде вдали от коммунистического тоталитаризма. За его сдержанной записью о Краснове, сделанной, как заверяют публикаторы, ещё в 1946 г., кроется нерассказанная история знакомства с его книгами. Все эти военные записи возможно стало опубликовать только в 1991 г. Даже в 90-м невозмутимая летопись истребительной войны против немцев и нарочито полный перечень оккупационных преступлений советских войск в Болгарии, Румынии, Югославии не годился для печати и потому лежал в тени и тиши с 1946 г.
В этой заведомо непечатной рукописи Слуцкий одобряет эмигрантов, записавшихся в советские патриоты, но сам оказывается не убеждённым коммунистом, а скорее евреем-интернационалистом, обеспокоенным национал-большевицким сталинским уклоном. Для него Суворов – тот, кто раздавил польское восстание и потому Суворов персонаж идеологически опасный.
Известно, что потом Борис Слуцкий принципиально не читал В.В. Розанова, популярного среди русских националистов и литературоведов всех мастей. Слуцкий считал Розанова «Русским фашистом», потому и не трогал [Ю.А. Павлов «Критика ХХ-XXI веков. Литературные портреты, статьи, рецензии» М.: Литературная Россия, 2010].
Чем же поэта в офицерской форме мог заинтересовать писатель Краснов? До 1945 г. Слуцкий едва ли даже знал о существовании художественных литературных трудов атамана донской контрреволюции. Быть может, открывая неведомые романы Краснова с претензиями к владычеству евреев в СССР, Слуцкий хотел укрепиться в мысли об отсутствии эмигрантской альтернативы советскому строю и еврейскому благополучию.
С тем же апологетическим мотивом Твардовский в 1958-м написал в тетрадь далёкий от непечатной честности Слуцкого незадавшийся стандартный пасквиль на «доживающих» белоэмигрантов в Болгарии, которые, вступив в Донскую Армию, «стояли за капитализм» и выбрали «лагерь врагов своей родины». «Родина не стала сводить с ними счета, но наказала их страшным возмездием – забвением» [«Знамя», 1989, №8, с.161-162, 173].
Твардовский, конечно, соврал, поскольку, как и в других оккупированных странах Восточной Европы, большевики устроили расправу над своими врагами. «Органы НКВД строго просматривали списки белоэмигрантов и при установлении факта сотрудничества с немцами или за участие в антисоветских организациях посылали в лагеря в СССР» [«Белоэмигранты в Болгарии. Воспоминания» М.: Синержи, 2013, с.504].
Такой родине, по мнению заговорившего от её имени самозванца Твардовского, следует служить при любых обстоятельствах, как будто нет никакой более достойной идеи, задачи, смысла жизни. Настоящие, идейные белоэмигранты отвергали примитивные идеи советского патриотизма с его этатизмом и евразийским географизмом, противным религиозной философии и национальной культуре.
В рукописи Слуцкого нет близких к Краснову суждений, записанных информаторами НКГБ у других советских писателей летом 1943 г. Н.П. Никандров: «Мы прошлым летом ждали конца войны и освобождения от 25-тилетнего рабства». Литературовед Б.С. Вальве в полном согласии с пропагандистскими высказываниями Краснова считал: «Мы проливаем кровь и разоряем страну ради укрепления англо-американского капитализма». Неисправимо преступный, лживый и вредный для страны характер советской системы заставлял вспоминать о Монархии. Писатель Ф.В. Гладков: «25 лет советская власть, а даже до войны люди ходили в лохмотьях, голодали». В 1940 г. в Пензе «люди пухли от голода, нельзя было пообедать и достать хлеба. Это наводит на очень серьёзные мысли: для чего же было делать революцию» [«Власть и художественная интеллигенция» М.: МФД, 1999, с.488-489, 499].
У Твардовского был ответ: революцию делали, чтобы он прославился и стал редактором «Нового мира». У Слуцкого другой резон: революция в интересах евреев.
Нарочитую русскость героев Краснова, Рыцарей Реставрации, Слуцкий отторгает, именно её он увидел в основе романа генерала – увидел и отшатнулся, но смолчал.
Затем увидел и Кочетов, и начал литературную войну против Краснова длинной в несколько книг.
Март 2015 г.
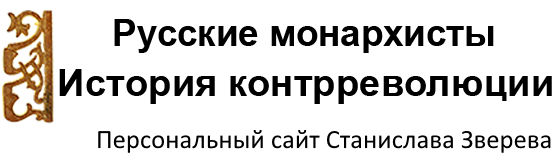
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.